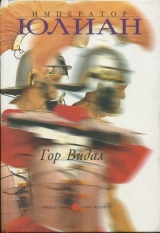
Текст книги "Император Юлиан"
Автор книги: Гор Видал
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
По залу пробежал веселый гул; я понял, что это любимая история Проэресия, которую он частенько рассказывает ученикам. Григорий что-то тихо сказал Проэресию, тот кивнул и поднялся с кресла. Меня поразил его рост – не меньше семи футов.
– У нас гость, – сказал он, обращаясь к ученикам. Все взгляды обратились на меня, мне стало неловко, и я опустил глаза.
– Юноша, известный своей ученостью. – Это было сказано не без насмешки, но дружелюбным тоном. – Коллеги, позвольте представить вам двоюродного брата покойного друга моей юности. Перед вами благороднейший Юлиан, коему предстоит унаследовать весь материальный мир, подобно тому, как мы наследуем – или во всяком случае, пытаемся наследовать его духовные богатства.
На мгновение учеников охватило замешательство: они не знали, обращаться им со мной как с равным или как с наследником престола. Многие, кто сидел, встали, некоторые мне поклонились, остальные разглядывали меня с нескрываемым любопытством. Макрина прошептала мне на ухо: "Ну, чего ты стоишь как столб? Давай, отвечай!"
Собравшись с мыслями, я произнес ответную речь – очень краткую и по существу. Так мне, во всяком случае, казалось; позднее Макрина заявила, что моя речь была затянута и претенциозна. К счастью, с тех пор, как я стал императором, все в один голос меня заверяют, что все мои речи, без исключения, изящны и всегда произносятся по существу. Как, однако, высокое положение благоприятно влияет на слог!
Когда я закончил, Проэресий повел меня по залу, знакомя то с одним, то с другим юношей. Все они казались очень смущенными, хотя я в своей речи особенно упирал на то, что приехал в Афины как частное лицо и буду посещать Академию наравне со всеми.
Проэресий еще некоторое время продолжал занятия, после чего распустил учеников по домам и пригласил меня в атриум, освещенный косыми лучами заходящего солнца. С верхнего этажа слышались шарканье ног и смех учеников, снимавших там комнаты с полным пансионом. Время от времени кто-нибудь выходил на галерею, чтобы на меня поглядеть, но стоило мне поднять глаза, как они тотчас делали вид, будто идут по делу в другую комнату. Как много бы я дал, чтобы жить инкогнито в одной из этих нищенских каморок!
Между тем Проэресий усадил меня у фонтана в кресло для почетных гостей и представил мне свою жену Амфиклею. Эта молчаливая женщина всем своим видом выражала глубокую печаль: она так и не сумела оправиться после потери двух дочерей. Как видно, философия была для нее слабым утешением. Познакомился я и с отцом Макрины Анатолием, неотесанным мужланом, в котором с первого взгляда угадывался трактирщик. Макрина его не любила.
Василий и Григорий поспешили откланяться. Григорий при этом был особенно любезен и предложил сопровождать меня на все лекции в Академию и быть моим гидом. Не менее любезен был и Василий, хотя он сразу предупредил, что сможет составить нам компанию только в исключительных случаях.
– В моем распоряжении всего лишь несколько месяцев, – пояснил он, – а затем – домой, в Кесарию, так что мне предстоит работать не покладая рук, тем более что я опасно болен. – Сморщившись, как от мучительной боли, он схватился обеими руками за живот. – Моя печень так горит, будто ее терзает ястреб Прометея!
– Так не стой на сквозняке, а то еще снесешь ястребиное яйцо! – не удержался я. Макрина с Проэресием отлично поняли мой намек и разразились веселым смехом. Василию моя шутка понравилась куда меньше, и я пожалел, что сострил, не подумав. Со мной это бывает, и хвалиться тут нечем. Григорий, горячо пожав мне руку на прощание, удалился вместе с Василием. Он, вероятно, до сих пор в страхе, как бы я не припомнил ему его слов. И напрасно: всему миру известно, что я не злопамятен!
За чашей вина Проэресий расспрашивал меня о делах при дворе. Он живо интересовался политикой; когда в знак восхищения его талантами мой двоюродный брат Констант хотел даровать ему почетный титул преторианского префекта, старый философ предпочел заведовать продовольственным снабжением Афин (важный пост, который Констанций приберегал для себя). Находясь в этой должности, Проэресий добился того, что в Афины стало дополнительно поступать зерно с нескольких островов. Нет нужды говорить, что он в глазах города – герой.
Поначалу Проэресий отнесся ко мне с подозрительностью. Несмотря на сердечность тона, он то и дело задавал мне вопросы, пытаясь выяснить, с какой целью я прибыл в Афины. Он говорил о величии Милана и Рима, кипучей жизни Константинополя, изысканной развращенности Антиохии, могучих интеллектуальных силах, собранных в Пергаме и Никомедии; он даже с похвалой отозвался о Кесарии – "столице словесности", как величает ее Григорий, причем без тени улыбки. Любой из этих городов, заявил Проэресий, должен был бы привлечь меня больше, чем Афины. На это я прямо ответил, что приехал повидать его.
– И посмотреть прекрасный город? – неожиданно вмешалась в разговор Макрина.
– И посмотреть прекрасный город, – послушно повторил я. И вдруг Проэресий поднялся на ноги.
– Пойдем прогуляемся у реки, – сказал он мне. – Вдвоем. На берегу Илисса мы остановились возле фонтана Каллирои – это нечто вроде маленького каменного островка, и впрямь похожего на фонтан: он круглый и с впадиной посередине, из которой бьет священный источник. Мы устроились среди высокой травы, пожухлой от августовского зноя. Листва высоких кленов закрывала от нас вечернее солнце. Уходящий день был прекрасен. Куда ни посмотри, повсюду на траве сидели и лежали ученики, одни занимались, другие просто спали, а на том берегу, над запыленными верхушками деревьев, вздымался Гиметт. Глядя на эту картину, я преисполнился ликованием.
– Мальчик мой, – обратился ко мне Проэресий, отбросив условности, как отец к сыну, – ты ходишь рядом с огнем.
Такого начала я никак не ожидал. Я растянулся на жирной бурой земле, а он, скрестив ноги, сел напротив меня, прямой, как древко копья, опершись спиной о ствол клена. Я смотрел на него снизу вверх и удивлялся, какой по-юношески крепкой и округлой была его шея, как тверды линии подбородка – и это в таком-то возрасте.
– С каким огнем? – спросил я. – Земным или небесным?
– Ни с тем, ни с другим, – улыбнулся Проэресий. – И даже, как говорят христиане, не с адским пламенем.
– В которое ты веруешь? – Я не знал, насколько искренна галилейская вера Проэресия, не знаю я этого и теперь. Он всегда оставался для меня загадкой. Мне трудно поверить, что такой замечательный педагог и знаток эллинской культуры может исповедовать их веру, но пути богов неисповедимы, и мы видим тому подтверждения каждый день.
– Думаю, к такому диалогу мы еще не готовы, – сказал он, указывая на бурную реку возле наших ног; от летней жары она заметно обмелела. – На этом месте, между прочим, происходит диалог Платона "Федр". Его герои многое высказали друг другу в тот день на этом берегу.
– Ты хочешь, чтобы мы уподобились Платону?
– Как знать. Возможно, когда-нибудь… – Он сделал паузу. Я ждал – так ждут знамения. – Настанет день, и ты станешь императором, – произнес он ровным голосом, будто констатируя очевидный факт.
– Но я к этому не стремлюсь и сомневаюсь, что это может когда-нибудь произойти. Не забывай: из всей нашей семьи остались в живых только я и Констанций. Мне предстоит разделить судьбу своих родственников. Поэтому я сюда и приехал: мне хотелось повидать Афины прежде, чем я погибну.
– Возможно, ты и в самом деле так думаешь. Но я… понимаешь, должен тебе признаться: у меня слабость ко всяким оракулам. – Он многозначительно помолчал, но для меня этого было достаточно. Еще одно слово – и он признался бы в совершении государственной измены. Закон воспрещает справляться у оракулов о судьбе императора, и запрет этот, между прочим, очень мудр. Кто станет повиноваться правителю, зная день его смерти и имя преемника? Честно говоря, откровенность Проэресия меня потрясла. Мне было особенно приятно, что он счел меня заслуживающим доверия.
– Таково предсказание? – спросил я, проявив не меньшую смелость. Я умышленно ставил себя под удар, желая показать, что на меня можно положиться.
– Да, хотя день и год неизвестны, – кивнул он. – Только кончится это трагично.
– Для кого? Для меня или для государства?
– Неизвестно. Оракул не дал мне подробностей. – Проэресий улыбнулся. – Впрочем, они редко вдаются в детали. Не знаю, почему мы им так верим.
– Потому что боги действительно являются нам в вещих снах и Даруют нам откровения. Это же факт! И Гомер, и Платон…
– Возможно. Так или иначе, привычка верить на слово стара… Я знал всю твою семью. – Руками, на которых от староста вздулись вены, он потеребил увядшую траву. – Констант обладал многими достоинствами, но он был слаб – куда ему до Констанция! Ты – другое дело.
– Неужто?
– Это всего лишь мое личное мнение. – И вдруг он повернулся ко мне. – Кажется, Юлиан, ты хочешь возродить веру в старых богов.
– От этих слов у меня перехватило дыхание.
– Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь? – Хотя мой голос дрожал, его металлический тон мог бы сделать честь самому Констанцию. Рано или поздно все мы усваиваем этот трюк цезарей: неожиданную перемену тона, которая должна напомнить нашим подданным о плети и топоре, которые могут обрушиться на них по одному нашему слову.
– Думаю, что да, – спокойно ответил Проэресий.
– Просто, мне не следовало так с тобой говорить. Ты мой учитель и господин.
Он покачал головой.
– Нет, это ты наш господин – во всяком случае, скоро им будешь. Я хочу только дать тебе полезный совет и предупредить. Помни, что бы там ни говорил твой наставник Максим, христиане победили.
– Не верю! – Я потерял всякое чувство такта и с яростью начал доказывать Проэресию, что лишь небольшая часть подданных римской империи – галилеяне.
– Почему ты их так называешь? – прервал он мою тираду.
– Потому, что этотродился в Галилее!
– Ты боишься слова "христианин", – Проэресий видел меня насквозь, – ибо оно указывает: те, кто так себя именуют – последователи царя, великого властителя.
– Какая разница, как их называть? – уклончиво ответил я, но в душе признал его правоту. В названии "христиане" для нас действительно таится великая опасность.
Я стал повторять свои доводы: большинство жителей цивилизованного мира – уже не эллины, но еще и не галилеяне, они колеблются, не зная, к какой вере примкнуть. Народ, по большей часта, ненавидит галилеян, и не без оснований: слишком много ни в чем не повинных людей погибло во время их бессмысленных распрей вокруг догматов вероучения. Рекомендую читателям этих записок вспомнить убийство епископа Георгия в Александрии – одного этого вполне достаточно, чтобы понять, как безжалостны приверженцы этой религии не только к ее противникам (их они именуют "нечестивцами"), но и к собственным единоверцам.
Проэресий пытался мне возразить, но я не пожелал его слушать. Кроме того, для самого блистательного в мире оратора, каким был Проэресий, его доводы в пользу христиан были явно слабы, и это вновь вселило в мою душу сомнения; да полноте, галилеянин ли он на самом деле? Подобно множеству других он мечется между эллинской верой и новоизобретенным культом смерти, и не думаю, что им руководят соображения собственной безопасности. Его сомнения искренни. По всей видимости, древние боги и в самом деле нас покинули. Как ни ужасно это признать, я никогда не исключал, что они, возможно, перестали вмешиваться в дела людские. И все же у нас остался разум и философия! Поэты и философы, начиная с Гомера и кончая Платоном и Ямвлихом, описывают истинных богов во всем богатстве их свойств и характеристик; их много, но всех их объединяет Единое, и все они – эманации истины. Как писал Плотин, "по своей природе душа любит бога и стремится соединиться с ним". Пока на свете существует хоть одна человеческая душа, есть и бог, неужели это кому-то не ясно?
Я понимал, что выгляжу смешно, пытаясь переубедить великого мастера красноречия, но не мог остановиться. Дремавшие вокруг ученики поднялись и стали с любопытством поглядывать на меня: вероятно, я казался им сумасшедшим – распалясь, я, как всегда, махал во все стороны руками. Проэресий терпеливо выслушал меня и наконец сказал:
– Веруй в то, во что тебе предначертано верить.
– Но ведь и ты в это веришь, учитель! Мы с тобой единоверцы, иначе ты бы не смог учить тому, чему учишь.
– У меня другое мнение на этот счет, только и всего. Спустись с небес на землю – неужели ты не видишь, что новая вера уже пустила крепкие корни? С помощью Констанция христиане правят миром. Вряд ли они легко расстанутся с властью и богатством, которыми владеют уже три десятилетия. Ты опоздал родиться, Юлиан. Конечно, будь ты Константином и вернись мы на сорок лет назад, я бы закончил нашу беседу на ту же тему словами: "Бей! Объяви их вне закона! Отстрой храмы!" Но время уже упущено: ты не Константин, и мир принадлежит им. Максимум того, что можно сделать, – это попытаться приобщить их к цивилизации. По этой причине я и продолжаю преподавать, и потому-то я никогда не смогу тебе помочь!
В тот день я проникся к Проэресию глубочайшим уважением, которое сохранил и поныне. Если к моему возвращению из похода он еще будет жив, мне хотелось бы продолжить нашу беседу. Как мы все жаждем обращать других в свою веру!
Мы возвращались домой, как двое заговорщиков. Нас теперь связывали нерушимые узы, ибо мы открылись друг другу и поведали опасные тайны. Страх упрочил нашу дружбу и придал ей особую остроту.
В полутемном атриуме дома Проэресия уже собрались ученики. Они говорили все разом, стараясь друг друга перекричать – так ведут себя все ученики на свете. Как только мы вошли, веселый гомон утих. Мне показалось, что ученики смотрят на меня с опаской. Однако Проэресий их успокоил, сказав, что со мной следует обращаться, как с простым учеником.
– Правда, несмотря на бороду и поношенную одежду, он не так уж прост. – Все рассмеялись. – Он не такой, как все мы. – Я хотел было вставить, что члены царствующей фамилии все же имеют некоторое сходство (пусть и отдаленное) с прочими представителями рода человеческого, но Проэресий вдруг закончил: – Он истинный философ. Он сам, по собственной воле, выбрал тот путь, на который нас толкнула нужда. – После этих слов по атриуму пронеслась настоящая буря восторга, и лишь на следующий день до меня дошло, сколько иронии заключалось в них.
Тут меня за руку взяла Макрина:
– Тебе непременно нужно познакомиться с Приском. Из всех афинян он самый несносный.
Приск, окруженный учениками, восседал на табурете. Он худощав, лицо его всегда бесстрастно, ростом он почти так же высок, как Проэресий. Когда мы к нему подошли, он встал и буркнул: "Привет". Мне было очень приятно познакомиться с этим выдающимся учителем, о котором я был много наслышан, ибо слава о его остроумии и двусмысленной манере изъясняться разнеслась повсюду. Кроме того, он начисто лишен восторженности и в этом полная противоположность мне, способному прийти в экстаз от любого пустячка. С первой же встречи мы с ним стали друзьями; в данный момент он сопровождает меня в походе.
– Попробуй переспорь его в диспуте о чем угодно, – обратилась ко мне Макрина, взяв Приска за тонкую руку; казалось, она предлагала мне сойтись с ним в кулачном бою. – Приск славится своим умением увиливать от споров. Он никогда не вступает в диспуты, и все тут.
С выражением брезгливости, которое я впоследствии так хорошо изучил (и трепещу, когда являюсь его причиной!), Приск стряхнул руку Макрины.
– А зачем мне спорить? То, что я знаю, мне и так известно, а другие всегда не прочь поделиться со мной тем, что знают они – или им кажется, что знают. О чем тут, собственно, спорить?
– Но неужели ты не знаешь, что в споре рождаются новые мысли? – спросил я у Приска. Наивный человек – я пытался его раздразнить. – Разве не беседа и спор помогали Сократу наставлять своих учеников?
– Спор и беседа – совсем не одно и то же. Я также учу философии – или пытаюсь учить – при помощи бесед, но споры – это главная язва Афин, где люди с хорошо подвешенным языком почти всегда одерживают верх над теми, кто мудрее, но не столь красноречив. Форма изложения стала ныне всем, а содержание ни во что не ставится. Наши софисты большей частью актеры, а то и хуже – адвокаты. А юноши слушают их за деньги, как бродячих певцов.
– Уж не в меня ли ты метишь, Приск? – сказал подошедший Проэресий. Видимо, это у них был давний спор, и он забавлял моего учителя.
– То, что я думаю, тебе известно, – огрызнулся Приск. – Ты из них самый зловредный, потому что лучше всех лицедействуешь. – Он прибавил, обращаясь ко мне: – Проэресий настолько красноречив, что все без исключения софисты в нашем городе люто его ненавидят.
– Все, кроме тебя, – вставила Макрина. Приск пропустил ее слова мимо ушей.
– Несколько лет назад собратья Проэресия позавидовали его популярности. Они дали взятку проконсулу…
– Осторожнее! – перебила Макрина. – Не стоит говорить, что чиновники берут взятки, в присутствии того, кто когда-нибудь, возможно, станет самым главным чиновником.
– Дали взятку проконсулу, – спокойно продолжал Приск, будто и не слышал ее, – чтобы он изгнал нашего хозяина из города. Что и было исполнено. Но вот проконсул удалился на покой. Его преемник, годами помоложе, пришел от этой истории в такое негодование, что разрешил Проэресию вернуться в Афины. Софисты, однако, не собирались сдаваться без боя и продолжали строить нашему учителю козни. Тогда проконсул предложил им всем собраться в большом зале Академии…
– Дядюшка его сам об этом попросил.
– От Макрины ничего не утаишь! – улыбнулся Проэресий. – Да, это я навел его на эту мысль. Я хотел собрать моих врагов вместе, чтобы всех их разом…
– Разгромить, – закончила Макрина.
– Победить, – поправил ее Проэресий.
– Разбить! – настаивала Макрина.
– Зрелище было устрашающее! – продолжал Приск. – В Академии собрались софисты со всех Афин. Друзья Проэресия пребывали в беспокойстве, враги же заранее торжествовали победу. Наконец прибыл проконсул и занял место председателя. Он объявил, что Проэресий готов выступить на любую тему по желанию публики. За его словами последовала гробовая тишина…
И вдруг дядя заметил, что в заднем ряду за чужими спинами прячутся два его злейших врага. Он громко потребовал, чтобы тему назначили они. Враги пытались было бежать, но проконсул приказал солдатам из своей охраны вернуть их в зал.
– Да, в тот день добродетель, как видно, восторжествовала благодаря солдатам, – с угрюмым видом пробурчал Приск.
– Приску пальца в рот не клади! – рассмеялся Проэресий. – Впрочем, может быть, ты и прав. Хотя, мне кажется, больше всего мне помог неудачный выбор моих противников, назначивших мне очень узкую и к тому же крайне непристойную тему.
– С какой стороны женщина приятнее, спереди или сзади? – ухмыльнулась Макрина.
– И все же Проэресий принял вызов, – продолжал Приск. – Он говорил с таким мастерством, что в аудитории воцарилась мертвая тишина, будто это выступал сам Пифагор.
– Дядя потребовал, чтобы стенографы из суда записывали за ним каждое слово. – Макрина гордилась мастерством Проэресия едва ли не как своим собственным. – Он также обратился к слушателям с настоятельной просьбой воздержаться от рукоплесканий.
– Эта речь запомнилась мне на всю жизнь, – продолжал Приск. – Сначала Проэресий описал во всех подробностях сам предмет. Затем он приступил к анализу одной из сторон – переда. Через час он сказал: "А теперь давайте проследим, помню ли я все приведенные мною доводы", – и повторил всю речь до мельчайших подробностей, только теперь он уже разбирал противоположную сторону – зад. Несмотря на запрет проконсула, зал разразился рукоплесканиями. Это был величайший триумф красноречия и памяти в наши дни.
– И что же из этого следует? – Проэресий знал, что Приск припас ему под конец какую-нибудь шпильку.
– Что следует? А вот что: ты наголову разбил своих врагов, и если раньше они тебя презирали, то теперь ненавидят. – Приск пояснил для меня: – На следующий год они едва не отправили его на тот свет и продолжают замышлять против него козни по сей день.
– И что же это доказывает? – Проэресию не меньше чем мне хотелось узнать, к чему клонит Приск.
– Что? Да только то, что победы в диспутах ничего не значат. Это все игра на публику. Высказывание всегда вызывает больший гнев, нежели молчание, а словопрения никогда никого не убеждают. Не говоря уже о том, что победитель всегда вызывает зависть, хочу спросить: что делать побежденному? Он ведь тоже философ, и даже если он осознает, что был не прав, тот факт, что это стало известно всем, доставляет ему неисчислимые страдания. Он может разъяриться до такой степени, что возненавидит философию! Нет, я бы предпочел сохранить его для цивилизации.
– Неплохо сказано, – согласился Проэресий.
– А может быть, – взвилась вдруг Макрина, – ты просто боишься проиграть диспут, потому что знаешь: тебе не вынести публичного унижения? Как ты тщеславен, Приск! Ты не хочешь состязаться с другими, дабы не потерпеть поражения. Фактически никто из нас не знает, насколько ты мудр: молчание создает легенду, принцепс, и поэтому Приск – величайший из великих. Всякий раз, когда Проэресий открывает рот, он тем самым ставит себе предел, ибо слово, по сути своей, конечно. А Приск мудрее. Молчание нельзя точно оценить. Молчание скрывает все – или, возможно, ничто. Только сам Приск может объяснить нам, что скрывается за его молчанием, но он предпочитает этого не делать, и нам ничего не остается, как гадать, уж не гений ли он.
Приск не ответил. После Макрины мне не доводилось встречать женщин, способных так виртуозно, с такими неожиданными поворотами и переходами вести спор и при этом так блестяще владеть оружием иронии, но она вообще была незаурядной женщиной. Прежде чем Приск успел ей что-либо ответить, нашу беседу прервал приход моих телохранителей и офицера из свиты проконсула – по Афинам уже прошел слух, что я остановился у Проэресия. Меня снова взяли под стражу.
Приск:Макрина всегда была стервой. Мы все испытывали к ней омерзение, но терпели: как-никак племянница Проэресия!
Юлиан неточно описывает мою первую встречу с ним – во всяком случае, наши воспоминания не совпадают. К примеру, Юлиан утверждает, будто его охрана пришла раньше, чем я успел ответить Макрине. Дело обстояло совсем иначе: я тут же парировал, сказав, что за моим молчанием скрывается сострадание к умственной неполноценности собеседников, ибо не желаю ранить словом никого, даже ее. Все рассмеялись, и тогда-то и появились охранники.
Мне хотелось бы сохранить для истории мое первое впечатление о Юлиане. Он показался мне красивым юношей, широкоплечим, как все мужчины в его роду, с великолепной мускулатурой – это был дар природы, ибо в то время он редко занимался гимнастикой. У него было другое занятие – все свое время Юлиан тратил на нескончаемую болтовню. Григорий, который отмечает его неутихающее словоизвержение, не так уж далек от истины. Я и сам не раз спрашивал Юлиана: "Как же ты думаешь чему-нибудь научиться, если ни на минуту не умолкаешь?" В ответ он разражался каким-то возбужденным смехом и заявлял: "Но я могу слушать и говорить одновременно. Это мой природный дар!" Возможно, так оно и было: я всегда поражался, сколько знаний успевал Юлиан вобрать в себя.
Лишь ознакомившись с записками Юлиана, я узнал о его беседе с Проэресием. Мне и в голову не приходило, что старик способен на такую смелость или хитрость – открыться совершенно незнакомому ему принцепсу, что он справлялся у оракула о судьбе императора. Это был опасный поступок, но покойный всегда питал слабость к оракулам.
Вообще-то Проэресий никогда мне особо не нравился: мне всегда казалось, в нем слишком много от демагога и мало от истинного философа. Пожалуй, он чересчур всерьез принимал роль великого старца, которую играл. Он был готов ораторствовать где угодно и на любую тему, а учеников-принцепсов коллекционировал точно так же, как епископы коллекционируют мощи. Оратор он был, каких мало, но все, написанное им, начисто лишено оригинальности.
Дозволь мне теперь рассказать кое-что о романе Юлиана и Макрины. Юлиан об этом предмете умалчивает, и, если я не восполню этот пробел, ты никогда ничего об этом не узнаешь. Между тем их любовь была для всего города притчей во языцех. Макрина в своей обычной шутовской манере рассказывала всем встречным и поперечным о ходе своего романа, не опуская даже самых интимных подробностей. В частности, она много толковала об отменных мужских достоинствах Юлиана, намекая на свой якобы обширный опыт в этой области, а между тем к моменту встречи с Юлианом Макрина, скорее всего, была девушкой. Вряд ли в ее окружении нашелся кто-нибудь, кто пожелал бы лишить ее невинности: афинянки славятся своей уступчивостью на весь мир, и немногие мужчины соблазнятся женщиной с таким язычком, когда вокруг столько прелестных тихонь. Я твердо уверен, что Юлиан был у Макрины первым.
В то время по Афинам ходил про них анекдот, без сомнения, апокрифический. Якобы кто-то подслушал разговор Юлиана с Макриной на ложе любви. Макрина опровергала пифагорейцев, а Юлиан защищал непреходящую ценность платонизма – и все это до и во время совокупления! Что и говорить, хороша была парочка!
Юлиан редко говорил со мною о Макрине: я был свидетелем их любви, и ему было просто неловко. Последний раз он спросил меня о ней в Персии, когда писал свои записки – ему хотелось узнать, что с ней стало, за кого она вышла замуж и как сейчас выглядит. Я ответил, что Макрина несколько пополнела, что она замужем за купцом из Александрии, живущим в Пирее, и что у нее трое детей. Я скрыл от Юлиана только одно: отцом старшего сына был он.
Да, эта скандальная история была у всех на устах. Примерно через семь месяцев после отъезда Юлиана Макрина родила сына. Во время беременности она жила у отца и, несмотря на всю свою смелость, в этой ситуации вела себя весьма банально: ей отчаянно хотелось замуж, хотя всем было известно, что отец ее незаконнорожденного – Юлиан, и, следовательно, для матери это не позор, а честь. Макрине повезло: александриец женился на ней и признал ребенка своим.
Пока сын Юлиана был маленьким, я изредка с ним встречался. Сейчас ему уже за двадцать. Внешностью он напоминает отца, и поэтому мне тяжело его видеть: при всем моем стоицизме, некоторые воспоминания причиняют мне боль. К счастью, юноша живет теперь в Александрии, где управляет торговым заведением своего приемного отца. Как-то Макрина рассказала мне, что ее сын примерный христианин и совершенно не интересуется философией. Таков конец рода Константина Великого. Знал ли Юлиан, что у него есть сын? Думаю, нет. Макрина клянется, что держала это от него в тайне, и я почти готов ей верить.
Несколько лет назад я встретился с Макриной на площади, которую мы, афиняне, называем Римской агорой. Дружелюбно поздоровавшись, мы присели отдохнуть на ступеньку башни с водяными часами. Я спросил Макрину о ее сыне.
– Красавец! Одно лицо с отцом: император, сущий бог! – Как видно, язычок у Макрины остался прежним, хотя острота ее ума с годами несколько притупилась. – Но я ни о чем не жалею, – добавила она.
– О чем? Что отец твоего сына – Юлиан или что сын на него похож?
Макрина не ответила. Отсутствующим взглядом она окинула площадь, которая, как всегда в этот час, была запружена стряпчими и сборщиками податей. В ее черных глазах сверкал прежний огонь, хотя лицо обрюзгло, а грудь, вскормившая троих детей, тяжело обвисла. Вдруг Макрина резко обернулась.
– Знаешь, Приск, Юлиан хотел на мне жениться. Я могла бы стать императрицей Римской империи – представляешь? Как бы ты к этому отнесся? Тебе не кажется, что я бы… неплохо смотрелась? Уж во всяком случае, необычно. Сколько найдется императриц, которые по праву могут называть себя философами? Это было бы забавно, правда? Я бы навесила на себя целые груды драгоценностей, хотя я их терпеть не моту. Посмотри! – Она дернула за свое простое платье. Несмотря на богатство мужа, она не носила ни колец, ни брошек, ни гребней в волосах, ни серег в ушах. – Но императрица – другое дело, императрица должна и выглядеть соответственно! Уж я бы себя показала, а за образец взяла бы Мессалину.
– Это ты-то ненасытная? – Я так и покатился.
– Именно! – Ненадолго былая острота ума вернулась к Макрине; в черных глазах засверкали веселые искорки. – Сейчас я верная жена, потому что растолстела и никого не соблазняю. По крайней мере, никого из тех, кто мог бы мне понравиться. Но мужская красота меня все еще привлекает. Как бы я желала стать распутницей! Но только чтобы самой выбирать любовников, а для этого и нужно быть не ниже чем императрицей. Я вошла бы в историю под именем Макрины Ненасытной!
– Всякий, кто увидел бы нас на этих ступеньках, подумал бы: до чего благонравная пара! Убеленный сединами философ и почтенная матрона степенно беседуют о ценах на пшеницу или о последней проповеди епископа. Между тем на самом деле Макрина пела гимн похоти.
– А что бы на это сказал Юлиан? – успел я перебить ее, чтобы она не пустилась в более подробное описание своих воображаемых любовных похождений. Удивительно, как мало интересуют нас страсти тех, кто нам безразличен.
– Не знаю… – Макрина ненадолго замолчала. – Думаю, он не стал бы возражать. Хотя нет, возражать бы стал, но отнюдь не из ревности. Не думаю, что Юлиан был способен ревновать, но он не любил ни в чем излишеств. Я, кстати, тоже, но мне и не представлялось возможности позволить себе излишества в чем-либо, кроме еды. – Она хлопнула себя по животу. – Видишь, что из этого вышло? Правда, в Персии я еще сошла бы за красавицу. Там толстух обожают… – Помолчав, она вдруг спросила: – А он говорил обо мне с тобой, когда вы были в Персии?
Я покачал головой. Не знаю, что заставило меня солгать – скорее всего, моя давняя к ней неприязнь.
– Нет? Я так и знала. – Казалось, мой ответ ее ничуть не расстроил; поистине ее эгоизм не знает предела. – Перед отъездом в Милан Юлиан говорил мне, что если он только останется в живых, то обязательно на мне женится. Сплетники болтали всякое, но он не знал, что я беременна, – я от него это скрыла. Я только сказала Юлиану, что согласна стать его женой, но если у Констанция на его счет другие планы (так оно, конечно, и вышло), я не стану печалиться. Ну и отчаянная же я была девчонка!
– Он тебе писал? – спросил я.
– Ни строчки, – покачала головой Макрина. – Правда, вскоре после того как Юлиан стал императором, он велел вновь назначенному проконсулу Греции посетить меня и узнать, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Никогда не забуду, с каким изумлением разглядывал меня этот проконсул: с первого же взгляда у него не осталось сомнений, что Юлиан не мог испытывать к этой толстухе никакого сердечного влечения. Как он был озадачен, бедняжка… Как ты думаешь, знал Юлиан о нашем сыне? Об этом ходили слухи.








