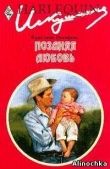Текст книги "Спасти огонь"
Автор книги: Гильермо Арриага
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 44 страниц)
Я сидела напротив Хосе Куаутемока. Ничто в нем не выдавало убийцу. Он часто улыбался и высказывал много дельных замечаний о текстах, которые читали его товарищи. (Остальные тоже брали слово, но выражались куда более неуклюже. Видно было, что пробелы в образовании и недостаток общей культуры мешают им вникнуть глубже. Хотя их анализ тоже был небезынтересен.) Взгляды заключенных на жизнь и искусство отличались наивностью, но и поражали новизной. В их произведениях заключалась такая сила и такая оригинальность, которые и не снились писакам, воображавшим себя полновластными хозяевами мексиканской литературы, единственными достойными претендентами на признание, гранты и премии. Хулиан отказывал этим мягкотелым писателям в уважении. Их вообще можно было сразу сбрасывать со счетов, поскольку темы их никогда не бывали значительны, а мысль была лишена размаха, несмотря на идеальную поэтическую и стилистическую упаковку. Он предпочитал шершавую прозу преступников пустопорожним стилизациям и прочему рококо. Или, как это называл Рикардо Гарибай, слабосильной красивости мексиканской литературы.
После выступления заключенного по имени Фиденсио Хулиан захотел услышать мое мнение. Я пришла в ужас, потому что была не готова высказываться на этот счет. Пролепетала в ответ: «Очень трогательна его любовь к собаке…» – и на этом мои мысли закончились. «Почему?» – не дал мне замолчать Хулиан. «Потому что собака означает дружбу, которая…» – и тут я снова умолкла, боясь, что сейчас скачусь в сплошные банальности. Что могла сказать такая женщина, как я, таким мужчинам, как они? Повисло молчание, и вдруг на помощь мне пришел Хосе Куаутемок. «Наша индивидуальность зависит от связей, которые мы создаем; неважно – с людьми или с животными. Мы – те, с кем мы общаемся», – веско сказал он. Тоже не бог весть какой глубины сентенция. Но все равно формулировка гораздо лучше моих затасканных аргументов. Хулиан снова пошел в бой: «Ты с этим согласна, Марина?» Я судорожно вздохнула. Папа всегда советовал мне: «Прежде чем заговорить, сделай хороший вдох, чтобы кислород попал к мозгу». Заключенные уставились на меня с любопытством. «Коллега прав, – сказала я, избегая называть Хосе Куаутемока по имени, – наша индивидуальность бывает искалечена, когда мы теряем близкое существо. Я говорю это по собственному опыту». – «Какому именно опыту?» – спросил Хулиан. «Смерть отца», – ответила я. Наступило молчание. «Я понимаю, о чем ты», – сказал Хосе Куаутемок. По какой-то причине молчание сделалось еще более неловким, чем прежде. Только некоторое время спустя я поняла, что в этом замечании крылась ирония.
Чтения продолжались, и скоро очередь дошла до Хосе Куаутемока. Он раскрыл папку, достал несколько напечатанных листочков, откашлялся и начал: «Манифест… Эта страна делится надвое: на тех, кто боится, и тех, кто в ярости. Вы, буржуи, боитесь. Боитесь лишиться своих драгоценностей, дорогих часов, мобильников. Боитесь, что ваших дочерей изнасилуют…» Пока он читал, у меня закружилась голова. Каждое слово было как удар кинжала, направленный против такой женщины, как я, против моей семьи, моих друзей, моих близких. Вместе эти слова вызывали у меня тошноту, боль, замешательство, тревогу. Хосе Куаутемок был прав. Мой класс умирал от страха.
Некоторые слушатели посмеивались. «Манифест» казался им очень забавным. Строчку «Мы размножаемся, как крысы» встретили шумным ликованием. Если так думают миллионы бедняков по всей стране, революция неизбежна.
Хосе Куаутемок дочитал, и мы с Педро переглянулись. «Манифест» – камень в наш с ним огород. Как реагировать на эту лавину, сметающую мой удобный и безопасный, милый искусственный мир? Эти слова застрянут во мне на долгие дни, на месяцы. Я не смогу вернуться к своей всегдашней жизни и не думать о разящих фразах. Разве возможно рассказывать сказки детям, зная, что в мире куда больше волков, чем Красных Шапочек?
Хулиан собирался передать слово следующему, но тут Хосе Куаутемок перебил его: «Извини, я написал небольшой текст под впечатлением от балета, который мы видели на днях, и хотел бы прочесть его, пока Марина здесь». Хулиан кивнул. Хосе Куаутемок достал еще один листок из папки и зачитал: «В алом потоке, несущемся из женской утробы, плавают трупы тех, кто мог бы родиться и не родился. Жилка за жилкой, пять или шесть дней подряд они срываются в плавание. Пытаются ухватиться за ту, что могла бы стать их матерью, но все равно падают в никуда. С ними уходят надежды, уходит свет. Женщины закрывают глаза, с болью смотрят внутрь себя и в изумлении обнаруживают в глубине биение жизни. Она притаилась там и ждет своего часа. И тогда каждая женщина понимает, что чудо жизни питается реками ее крови».
Хосе Куаутемок замолчал. На этот раз никто не смеялся.
У меня в горле встал ком. Хосе Куаутемок положил лист на стол и поднял лицо ко мне.
Военные понимали, что, если они передадут Хосе Куаутемока гражданским властям штата, тот и наносекунды не проживет. «Самые Другие» глубоко запустили щупальца в местную полицию. Существовал также риск, что его уберут федералы.
Вряд ли им очень понравилось, что их человека отправили на тот свет, хотя, по чесноку, мертвый Галисия сильно облегчал жизнь высокому начальству. Он ведь совсем ссучился. Брал на хранение грузы «небесной перхотки», предупреждал картели о готовящихся против них операциях, вступал в сговоры с неразборчивыми политиками, защищавшими наркобандитов, требовал свою долю с рэкетиров, с нелегальных проводников через границу и даже с похитителей людей. На всех стульях одной жопой сидел, козлина. Начальство его терпело, потому что контролировал он вверенные ему города довольно ловко. Умел замерять температуру преступной деятельности и, когда дело начинало пахнуть жареным, договаривался, сторговывался, словом, знал, когда пора действовать. Но, ослепленный легким баблом, утратил нюх, то есть способность считывать сигналы.
Чтобы не заморачиваться, солдафоны запихали сивого в бронированный хаммер и отправили прямехонько в лапы федеральной судебной инстанции города Мехико. Если шавки Галисии пожелают прикончить его на зоне, это уже не их головная боль, хотя, по справедливости, капитан был такой падлой подколодной, что даже и билет покупать не стоит на поезд мести. Чего воду мутить, если потом начнется пинг-понг?
Я этого убил, а я в отместку того, а я тогда двоих, а я троих, и так до скончания времен.
А вот кого Хосе Куаутемоку точно стоило опасаться, так это Эсмеральды. Если она вознамерится его достать – пиши пропало, потому что униженная женщина превращается в пантеру. Хосе Куаутемок ведать не ведал, что его нашли, потому что бандиты пытали ее, пока не выбили его имя, что не убили ее из чистой любезности и что теперь она, безъязыкая и запуганная, бродит по миру и только и мечтает что о мести.
Дело на Хосе Куаутемока завели за умышленное убийство, совершенное неоднократно, при отягчающих обстоятельствах и с особой жестокостью. Государственный защитник – довольно зубастый и въедливый – упирал на то, что отсутствие свидетелей мешает установить вину и прямых доказательств участия его клиента в преступном деянии не имеется. Обвинение заявило в ответ, что баллистическая экспертиза подтвердила соответствие выпущенных пуль типу нарезки ствола и калибру оружия, находящегося во владении сеньора Уистлика. К тому же, согласно проведенной пробе Харрисона, именно обвиняемый трижды нокаутировал свинцом дона капитана. Да и вообще, помимо всяких проб, подозреваемый сам заявил, что в смерти офицера Галисии просит считать виновным себя, и только себя.
Заметив, что адвокат у него скользкий и тертый, Хосе Куаутемок усмотрел для себя возможность выйти с суда безнаказанным. Он поменял показания и стал настаивать на своей невиновности. Суд заиграл новыми красками. В отсутствие свидетелей, при недостаточности доказательств обвинения и одних только косвенных уликах судья склонялся к оправдательному вердикту. Хосе Куаутемок почуял, что сейчас забьет олимпийский гол на четвертой минуте добавленного времени второго тайма. Вэлкам бэк либерти. Но не тут-то было. Его адвокату начали угрожать: «Если этот козел не сядет, мы сначала твою семью убьем, а потом и тебя». Однако чувак на пятку не надавил, он и сам был с района, так что знал, что почем.
Когда все начало указывать на то, что Хосе Куаутемок не попадет в душегубку, случилось непредвиденное. Не деяние карающей длани, а простая сучья непруха: адвоката при переходе улицы снесла бешеная маршрутка. Государственный защитник Хайме Артуро Контрерас очутился на обочине, без ботинок, в разодранном пиджаке, с двадцатью переломами и кровоизлиянием в мозг. Преставиться не преставился, но стал овощем. Дело взял студент частного университета, которому нужно было пройти практику. Его тоже попугали расправой – он пришел в ужас. И отказался от стратегии своего предшественника. Вернулся к изначальному признанию вины и согласился с результатами экспертизы на наличие родизоната натрия. Другими словами, зассал и допустил, чтобы Хосе Куаутемока упаковали на пятьдесят лет.
К тому времени, когда Контрерас вышел из комы, Хосе Куаутемок успел отсидеть девять месяцев и семнадцать дней. Впрочем, возвращение адвоката из радужной страны снов никак делу не помогло, поскольку показатели интеллекта у него остались примерно такими же, как во время комы.
Вечером я прочла труппе текст Хосе Куаутемока: «В алом потоке, несущемся из женской утробы, плавают трупы тех, кто мог бы родиться и не родился». Мы обсудили эту мысль, и в результате возникло два противоположных мнения. Первое: самые глубинные, самые простые явления должны стать для нас источником вдохновения. Искусство, даже такое элитарное, как танец, не может отворачиваться от наитемнейших закоулков человеческого бытия. Мы заперты в своих микроскопических мирах и теряем из виду самую жизнеспособную и неприукрашенную часть нашей же сущности. Это противоречило тезису Люсьена, который утверждал, что творец должен питаться тем, что знает из первых уст, и не пытаться расшифровать вселенные, далекие от его обычной жизни. Я была согласна с Люсьеном. Как мы можем рассказать об опыте заключенного или проститутки – абсолютно противоположном нашему опыту? Почему жизнь других по определению должна быть нам интереснее? Мелкобуржуазные темы – поиск пары, расставание влюбленных, уход детей из семейного гнезда – менее важны, чем темы, связанные с жизнью угнетенных классов?
Я понимала, что искусство должно простираться дальше, за пределы нашей розовой безопасной жизни, но мы рисковали впасть в искусственность, в карикатурность. Разве удастся нам влезть в шкуры мужчин и женщин столь далеких от нашей действительности? Не лучше ли говорить о себе самих?
Что более достойно восхищения: искренняя попытка препарировать тягомотное течение времени в паре или фальшивая история убийцы, обезглавливающего своих жертв? «Делайте ставку на аутентичность», – говорил Люсьен. Не нужно перегружать танец порочной массой идеологических установок или, тем более, отравлять его ядом добрых намерений. Мы так и не пришли к единому заключению, хотя все были согласны, что нам пора меняться. Выступление в тюрьме показало, что и снаружи есть публика, жаждущая, чтобы ей бросили вызов. И текст Хосе Куаутемока это подтверждал.
В то утро, когда занятие в мастерской закончилось, я, беседуя с Хулианом, украдкой посмотрела на Хосе Куаутемока. Он пристально разглядывал меня из угла аудитории. Совершенно очевидно, старался подстегнуть мое любопытство. Он знал, какой притягательной силой обладает. Потом он повернулся ко мне всем телом и улыбнулся. Я в ответ нервно изобразила улыбку и тут же притворилась, что мне очень интересно то, о чем в данный момент рассуждает Хулиан. Пару минут спустя я снова бросила взгляд туда, где стоял Хосе Куаутемок, но его больше не было. Я огляделась. Он исчез.
Мы направились к выходу из тюрьмы, и я понимала, что поговорить нам не удастся. Когда мы пересекали двор, сзади послышались голоса. Телохранители Педро перехватили Хосе Куаутемока, который рвался к нам. Педро сделал знак, чтобы его пропустили. Тот подошел ко мне и вручил лист бумаги: «Я хотел подарить тебе то, что написал про твою постановку». Я взяла лист, сложила, спрятала в нагрудный карман и протянула ему руку. И снова моя рука безнадежно утонула в его ручище. Мы коротко переглянулись, и я ушла вместе с остальными.
Домой попала к двум часам дня. Надо было принять душ. Кто знает, какие бактерии и вирусы бродят по тюрьме. Пока нагревалась вода, перечитала написанное Хосе Куаутемоком. Тот же почерк, что и в речи. Элегантный синтаксис, продуманная пунктуация – совсем не как у зэка. По крайней мере, не у типичного зэка в моем представлении.
Дочитав, я перевернула листок. Там было написано: «Когда будешь звонить в следующий раз, оставь сообщение на голосовой почте. Я смогу говорить в четверг, в три часа дня. Жду твоего звонка».
Надо же было до такого додуматься – подвешивать нас в запертых клетках. Ты устроил так, чтобы их можно было поднимать на дерево с помощью блокового механизма и оставлять там болтаться на пятиметровой вышине. Сделал ты это не по наитию. О нет. Ты рассчитал крепость полов, окружность прутьев, толщину канатов. Что там кипело, в твоей больной головенке, что ты целые дни напролет держал нас в этих клетках, словно обезьян в третьесортном зоопарке? Только полусумасшедший способен на такое. Серьезно, только псих. Как бы мне хотелось так же запереть тебя, чтобы ты понял! Это было невыносимо, Сеферино.
Ты не стал делать в клетках потолка, чтобы дождь и солнце проникали внутрь беспрепятственно, чтобы нас пропекали горячие лучи, чтобы поливали грозы. «Вы выйдете оттуда, заимев сердца воинов. Я все детство провел в нищете и горестях, так что и с вами ничего не случится, если пару деньков повисите. Это укрепит ваш характер». Да, Сеферино, условия у тебя и вправду были ужасные, подчас нечеловеческие, но все-таки ты спал под крышей и вдоволь, а не вжимался в прутья решетки под стеной ливня. Тебе даже не хватило совести выстроить клетку, в которую мы с Хосе Куаутемоком помещались бы вдвоем. Висели каждый в своей, на расстоянии метра. Надо признать, что ты установил внутри металлические ящики, чтобы вода не попадала на нашу еду: бананы, яблоки, яйца вкрутую, вяленое мясо, вареные овощи, булочки, шоколад. Бутыли по галлону воды в каждом углу клетки. Ты позаботился, чтобы мы не померли от голода или жажды. «Будьте благодарны, что я обеспечиваю вам питательную еду. Я в детстве жрал корешки и цветки пальмы». Ты запретил нам кричать или просить о помощи. «Если только сосед скажет, что у нас тут кто-то стонет, накажу по-настоящему». Ах ты ж черт! Что для тебя значило «по-настоящему»? Макать нас ногами в серную кислоту? Битой ломать нам челюсти? Колошматить нас по яйцам, пока не лопнут? Поясни, пожалуйста. Если ты не в курсе, мало что может для ребенка сравниться по ужасу с тем, чтобы болтаться всю ночь в крошечной клетке в нескольких метрах над землей. Я говорил, что готов простить тебе все. Но понять этого я не могу. Ты неустанно повторял, что в конце концов мы еще будем тебе благодарны, что научил нас выносить одиночество и заключение. Надо думать, Хосе Куаутемоку после этих экспериментов тюремные камеры показались королевскими люксами.
Ты стремился подготовить нас к войне с расизмом, с нищетой, с несправедливостью. «Истинные битвы закаляют нас изнутри», – провозглашал ты. Ты называл свою борьбу донкихотской, тебя завораживало это прилагательное, а нам оно казалось пошлым и старомодным. Ах, Сеферино! Ты унаследовал от Дон Кихота не идеализм, а бредовую тягу к величию. Твоя личность больше напоминала Гитлера – самого ненавидимого тобой исторического лица, – чем благородного ламанчского идальго. Как и Гитлер, ты был красноречив, нетерпим, склонен к морализаторству, неподатлив, строг и одновременно привлекателен, убедителен, очарователен.
На самом деле ты готовил нас к своим же нападениям. Я не знаю никого более свирепого и жестокого, чем ты. Если мы были способны выдержать тебя, мы должны были выдержать все, что могла преподнести нам будущая жизнь. Никакая внешняя угроза не сравнилась бы с твоим натиском. Парадокс: тренироваться, чтобы защищаться от тренера.
Когда ты наконец выпускал нас из клеток, то допрашивал, будто мы только что вернулись из бойскаутского летнего лагеря: «Чему вы научились?» Мы выдумывали ответы, чтобы тебя не разочаровать: «Мы научились, что, если тучи становятся похожи на вату, значит, скоро пойдет дождь»; «Что воробьи садятся в кроны деревьев, когда начинает темнеть». Мы жаждали твоего одобрения. Удивительно, какова детская психика, с ее неуемным желанием привязанности, несмотря на издевательства. Я даже начал верить, что ночи в клетке в пяти метрах над землей – и вправду уникальная возможность, педагогическая находка.
Запирать нас ты перестал, когда мы были уже подростками и не помещались в клетки. Нас спасли кантабрийские гены и плавание. В последние разы нам приходилось сгибаться в три погибели в маленьком пространстве. Отчаянно болела спина. От плавания становилось лучше – мышцы и связки растягивались. Но некоторые раны так и не зажили, папа. Ты и из могилы не даешь мне дышать, душишь. Я простил тебя, примирился с тобой, чтобы примириться с самим собой.
Несколько недель спустя после твоей смерти, когда запах горелого мяса и пластика выветрился, я спросил у мамы, любила ли она тебя. Она уверенно сказала: да. Представляешь себе? Твоя покорная забитая жена – жертва стокгольмского синдрома. Она старалась не располнеть, чтобы не перестать тебе нравиться. «Полпорции» – такое у нее было правило. Никакого хлеба, тортилий, сахара, шоколада, десертов. Овощи, курица гриль и салаты. Лучше уж голодать, чем рисковать фигурой, ведь ты предупредил ее, что уйдешь к другой, если она разжиреет и обрюзгнет. Из-за твоего мачизма она всю жизнь провела на диете. Она понимала, что удерживает тебя подле нас своей красотой и точеным телом, а потому не позволяла себе хоть чуточку отъесться, не позволяла хоть миллиметру целлюлита образоваться на бедрах.
Мне интересно, Сеферино, бывал ли у тебя секс с другими женщинами. Учитывая твою упертую нравственность, сомневаюсь. Но ты был из тех мачо, что гордятся ежедневным совокуплением с женой. Ты был перманентно одержим мыслью о том, как бы снова отымешь свою благоверную. Ни одного шанса не упускал. Интересно, сдерживался ли ты, когда ездил в командировки в качестве президента Латиноамериканской ассоциации географических и исторических обществ. Подцеплял ли девиц, восторженно внимавших твоим лекциям, или ты был из тех греховодников, что справляются у таксистов, где найти лучших проституток? Вообще-то я не могу представить, как ты протягиваешь стопку банкнот шлюхе или сидишь в каком-нибудь кабаке в окружении мелких чиновников и служащих и похотливо пялишься на высоченных голых блондинок. Думаю, ты оставался верным мужем и во время одиноких ночей в зарубежных отелях предпочитал мастурбировать, вспоминая белесые груди моей матери, а не гоняться за другими.
Зато уж с мамой ты не стеснялся. Мы с братом часто слышали вас сквозь тонкие стены. Громче всего отдавался твой рев во время оргазма. А вот мамины стоны едва доносились. Возможно, их заглушал стук изголовья кровати о стенку. Тук-тук-тук. Так что и в изголовье, и в стенке оставались щербины. Интересно, заботился ли ты о ее удовольствии или был из этих: раздвинул-сунул-поводил-выстрелил-уснул? Склоняюсь ко второму варианту. Я убежден, что ты принадлежал к тому роду мужчин, которые видят в женщинах сосуд, куда можно сливать сперму, и нимало не беспокоятся, хорошо ли их партнершам. Но не мне критиковать тебя, папа. Я-то не раз прибегал к услугам проституток.
Вы с мамой страстно хотели иметь больше детей. По какой-то неясной причине фигурировала цифра девять. Чего вы добивались? Создать армию недолюбленных? Ты и троим-то почти не уделял ласки, а сколько могло достаться девятерым? Воображаю, как бы еще шестеро детей боролись за крохи внимания. Вот была бы конкуренция так конкуренция. Все девять на голове бы ходили, лишь бы добиться от тебя доброго слова. Хотя, если вдуматься, имея девятерых детей, ты, возможно, остался бы жив. Злость, скопившаяся в Хосе Куаутемоке, распределилась бы равномернее. А нас было всего трое, и одному выпало сосредоточить в себе всю обиду, всю ярость, все отвращение, вызванные твоей нелюбовью и жестокостью. Мой брат стал кем-то вроде духовного лидера несчастных детей Сефери-но. Он представлял нас и разжег костер от нашего имени. Прости, папа, но твоя смерть освободила нас.
На пятом году нового срока он познакомился с Хулианом Сото, писателем, которого посадили за то, что прописал люлей какому-то критику. Хосе Куаутемок еще раньше читал его книжки, и они ему нравились. Он подружился с Хулианом. После завтрака они встречались во дворе и разговаривали о литературе. Хулиан советовал, каких новых авторов почитать. Каждый дружбан, который навещал Хулиана в тюрьме, привозил ему кучу книг. Хулиан прочитывал и отдавал Хосе Куаутемоку, и тот возвращал их два-три дня спустя, испещрив пометками на полях. Хулиан обожал разбирать эти пометки. Литература поверх литературы.
Дружба их день ото дня крепла. Хосе Куаутемок держал нового приятеля под защитой. Не то чтобы Хулиан не мог сам управиться – просто в тюрьме отморозков хоть отбавляй. Хулиан был хорош в драке, но предугадывать грязные ходы не умел. А вот Хосе Куаутемок давно стал экспертом по тюремным раскладам. Первым делом он научил друга, что в перепалке нужно всегда держаться спиной к стене, да поближе. Всегда. Даже если с цирковым карликом махаешься. Неизвестно, когда второй цирковой карлик подскочит сзади с розочкой и исполосует тебе спину. И еще научил распознавать тюремный язык: какой взгляд искоса предшествует нападению; зачем мимо тебя дважды проходит один и тот же чмошник и будто мысленно измеряет; какие терки у надзирателей. Рассказал всякие уловки: «Если кто-то повалил тебя на пол и навис сверху, запусти ему ногти в веко и расцарапай. Кровищи будет море, и он, считай, ослепнет». Или: «Забудь, что тебе противно, запусти ему руку в штаны и вырывай яйца». Научил метить локтем в трахею, высвобождаться, если накинулись сзади, уходить от ударов. Такому только годы в тюряге учат. Хулиан предпочел в разборки не ввязываться и досиживать мирно. Одно дело расквасить морду щуплому критику, и совсем другое – выходить против бандитов, которые немало других бандитов порезали.
Хосе Куаутемок разъяснил ему тюремную иерархию: «Этот шестерка, ничтожество, значит. Этот „маргаритка", жених одного нарко. Этот наемный убийца, на зоне продолжает работать, так что только ты на него глянешь – и тебя захочет убить. Про этого вообще можешь не думать, так, шелупонь. С этим мелким лучше не связывайся. Он из блатных, да еще и кровожадный, сучонок». Хулиан это все записывал. Если Альваро Мутис создал свою великую хронику после отсидки в тюрьме Лекумберри, то его задача – «Восточная тюрьма: перезагрузка».
Хулиан предложил Хосе Куаутемоку попробовать себя в писательстве. Тот отказался: «На хрена?» Но кореш пристал как клещ и в конце концов убедил. «Сам напросился», – сказал Хосе Куаутемок и тут же что-то придумал. Записал от руки и отдал Хулиану, который ожидал увидеть средненький текст с правильными предложениями и запятыми, но по мере чтения у него аж, как выражались наши бабушки, захолонуло. «Смерть – беззубый рот, высасывающий из нас жизнь минута за минутой. Он питается нашим дыханием, пока оно не кончится. Вбирает нашу память, превращает ее в забвение, а потом выплевывает нас, как абрикосовую косточку. Мы в последний раз смотримся в зеркало: сухощавое тело, бледное, как пергамент, лицо, изъеденная кожа, – и просим прощения у самих себя: мы не смогли стать теми, кем хотели».
«Впервые что-то подобное пишешь?» – спросил Хулиан. «Что, совсем швах?» – «Нет, наоборот. Пару мест только надо подправить». Хосе Куаутемок забрал листик и прямо там начал перечеркивать и переписывать. Пару минут спустя вернул Хулиану: «Смерть – беззубый рот, высасывающий из нас жизнь минута за минутой. Он питается нашим дыханием, пока оно не кончится, и вбирает нашу память, пока не превратит в забвение. А потом выплевывает нас, как абрикосовую косточку. Мы в последний раз падаем на землю, изможденные и сухощавые, и просим прощения у самих себя: мы не смогли стать теми, кем хотели». Хулиану понравилось, хотя он нашел в тексте пару клише. «Значит, точно чушь спорол. Ну и пусть тогда в море тонет, – сказал Хосе Куаутемок. Забрал листик, скомкал и щелчком отправил в лужу: – Увидимся, кореш. Пойду вздремну», – и свинтил к себе в берлогу. Хулиан вынул бумажку из лужи. Потряс, чтобы вода стекла, и унес с собой. Он и не подозревал, что только что подсадил Хосе Куаутемока на писательство, как на героин, с которого тот больше никогда не слезет.
Хулиана вскоре выпустили, потому что юристы разных писательских союзов здорово наседали на побитого критика, чтобы заявил, что претензий к Хулиану больше не имеет (не-малую роль сыграл и тот факт, что Педро раскошелился). Он пообещал Хосе Куаутемоку приезжать к нему каждые две недели. Брехня. Хосе Куаутемок знал, что слова тот не сдержит.
Таскаться в тюрьму – тот еще геморрой. Два часа на дорогу, час в очереди, два часа обратно, только ради того, чтобы пятьдесят минут лицезреть его моську, – такого и влюбленные не выдерживают, куда уж Хулиану.
Жизнь протекает на разной скорости, в разнообразных ритмах. Иногда мы долгое время живем медленно, а потом вдруг в очень коротком промежутке времени лихорадочно сменяются события, так радикально меняющие все вокруг, что мы больше не узнаём себя. Как и зачем человек вступает в этот бурный неведомый поток – загадка. Мы жалуемся на серые будни, но зачастую они – наше спасение. Беспорядочное существование дурно влияет на нас. В глубине души большинство людей мыслят, как добросовестные чиновники: они ценят гарантированную зарплату, расписанные по часам дни, пробуждение рядом с одним и тем же человеком. Предсказуемую жизнь, в которой не надо тратить энергию, пытаясь угадать, что уготовил тебе завтрашний день. Тишину и спокойствие, без американских горок, от которых перехватывает дыхание и к горлу подкатывает тошнота. И все же какая-то часть нашего существа не любит порядка и бунтует, и мы, вопреки доводам разума, бросаемся в бездну неизвестности, бездну опасности, подчас смертельной. Здравый смысл велит остановиться, но нет – внутри нас бушует адреналин. Неважно, что мы можем все потерять, неважно, что мы подвергаем риску свою жизнь и жизнь наших любимых, неважно, что мы бежим навстречу смерти. Мы не тормозим. Кровь пульсирует, внутренности завязываются в узел, взгляд туманится. Жизнь вновь утверждается как жизнь, возвращается в свою самую примитивную и неприглядную форму. В форму жизни ради жизни.
В тот четверг, в три часа дня я могла принять сотню иных решений. Поиграть с детьми, съездить в магазин, попросить Клаудио приехать домой пообедать и потом заняться со мной любовью, позвать подруг в кафе, поставить новый танец или просто сводить Клаудию в кино. Самым мудрым из этих решений стало бы не звонить Хосе Куаутемоку. Но жизнь взяла свое.
Гудок раздался пять раз. Я собиралась отключиться, но тут трубку сняли. «Привет, Марина», – сказал он. Я ответила не сразу, гадая, начинать разговор или нет. «Привет, Хосе Куаутемок. Что делаешь?» – наконец спросила я, чтобы прервать неловкое молчание. «Пришел к себе в камеру и ждал твоего звонка». Я попросила описать камеру. «У нас четыре койки. Я сплю на левой нижней. Сокамерник справа очень набожный, у него вся стена в иконках. Тот, что надо мной, – фанат „Атланте", там над койкой плакаты девяносто третьего года, когда они чемпионат выиграли. А у того, который сверху справа, в изголовье семейные фотографии». Я спросила, верующий ли он, и он ответил: «Воинствующий атеист. – И добавил: – Бог – это отлично написанный литературный персонаж».
Хулиан рассказал, что Хосе Куаутемок успел доучиться только до второго курса медицинского. Хотел заниматься нейропсихиатрией. Тюрьма сломала его карьеру. Он был сыном профессора Сеферино Уистлика, одного из самых влиятельных интеллектуалов в сфере борьбы за права коренных народов, если верить «Википедии». Раньше я про такого ничего не знала, но теперь он стал мне попадаться. Его именем было названо несколько школ, политики упоминали его наследие в речах, его цитировали журналисты. Он, как и многие, был совершенно неизвестен за пределами своей сферы, но косвенно оказывал огромное влияние на общество. Про его смерть было написано, что она произошла при странных, невыясненных обстоятельствах и в связи с ней его сын Хосе Куаутемок получил наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет.
Я думала, что мы быстро поговорим и разойдемся. Мне нужно было везти Мариано на фехтование, а Даниелу на конный спорт. Беседа продлилась сорок пять минут и восемнадцать секунд. За это время я успела попросить домработницу погладить Клаудио пару рубашек, проследить, чтобы дети не объелись шоколадным пудингом, и заплатить за газ. Я постаралась, чтобы Хосе Куаутемок не заметил, что в течение нашего разговора я занимаюсь домашними делами.
В конце он спросил, приду ли я еще на мастерскую Хулиана. Я ответила, что целыми днями занята мужем и детьми и не знаю, вернусь ли. Дала понять, что семейная жизнь целиком поглощает меня, и тем самым отсекла всякую попытку флирта.
«Позвони мне в субботу в одиннадцать утра», – попросил он. Я сказала, что постараюсь, но ничего не обещаю. Повесила трубку и застыла с телефоном в руках. Без стука ворвался в своей фехтовальной форме Мариано и напугал меня. «Поехали, что ли, ма?» – нетерпеливо сказал он. Мыслями я была не дома, не на фехтовании, даже не в собственной голове. «Да, солнышко, поехали».
Как только Хулиан вышел из тюрьмы, издательство устроило банкет в его честь. Никто не считал его изгоем, наоборот, у него появился ореол аутсайдера-который-врезал-суке-критику-и-сел-но-на-зоне-выжил-и-вернулся-героем. Группа литературных евнухов, к которой принадлежал избитый, осудила досрочное освобождение и в своих блядских журналах – которые только они сами и читали – выразила опасения в связи «с предоставлением трибуны таким неандертальцам, как Хулиан Сото, чье место в камере, а не в издательстве». Этот пассаж вышел евнухам боком. Издатель Хулиана усмотрел в их рвении катализатор продаж. «Нам как раз не хватало своего Жана Жене», – высказался он на совещании, намекая на дела такого давнего прошлого, что миллениалы из отдела маркетинга даже близко не поняли, о чем тот толкует.