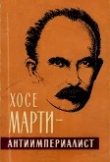Текст книги "Спасти огонь"
Автор книги: Гильермо Арриага
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 44 страниц)
В тот день нас было не много. Обычно народ стекался в выходные. Хулиан рассказывал, что по воскресеньям тут атмосфера как на народных гуляньях. А сейчас – всего пять-шесть человек. Женщина, с которой я шла, уселась с рябым мужчиной лет, наверное, семидесяти, таким же грузным, как она. Густые черные волосы выдавали индейское происхождение. Тоже миштекского типа. За ними следили три надзирателя. Опасные, видимо, люди.
Я осмотрелась в поисках Хосе Куаутемока. Не хватало еще, чтобы он забыл про наше свидание. Я звонила ему утром, и он не ответил. Я оставила сообщение: «Еду к тебе. Буду в десять. Пока».
Я села за самый дальний столик, в противоположном от двери углу. Прошло десять минут. Хосе Куаутемок не появлялся. Ближайший охранник заметил, что я сижу одна, и подошел. «Что такое, беляночка? Родственник не спустился?» – радушно спросил он. «Может, он забыл, что я приду», – сказала я. «Да что вы, беляночка! Такую, как вы, не забудешь». После всех услышанных сегодня гадостей этот комплимент показался мне даже элегантным. Я поблагодарила доброго охранника. Он спросил имя моего «родственника». «Хосе Куаутемок Уистлик». Он улыбнулся: «Беленькая к беленькому пришла». Симпатичный парень, такого не ожидаешь встретить в тюрьме. «Сходить за ним?» – вызвался он. Я кивнула. «Сейчас приду». И он попросил другого охранника присмотреть за мной. «Последи за куколкой, а то как бы ее не свели со двора». Я рассмеялась. По крайней мере, проблеск любезности. Второй охранник, более серьезный и правильный с виду, подошел и сказал: «К вашим услугам, сеньорита». Я в этот момент смотрела на женщину со двора и ее рябого родственника. «Кто это?» – спросила я у него. Он повернул голову: «Люди, с которыми лучше не водиться».
Через несколько минут появился первый охранник. Он издалека улыбнулся мне и показал большим пальцем себе за спину, на идущего следом Хосе Куаутемока.
Среди записавшихся в литературную мастерскую многие писали неплохо, но никто – так сокрушительно, как Хосе Куаутемок, который ручкой орудовал, словно молотом. Хулиан им восхищался и, если уж начистоту, даже завидовал. Хосе Куаутемок творил яростно, напролом. Никто и ничто не могло остановить его. На каждое занятие он приносил новый текст. Из этих текстов брызгало потом, кровью, спермой, жизнью, смертью. Каждая фраза кусала, царапала, ранила. Вот такая литература должна преобладать, думал Хулиан. Хватит уже паинек, пытающихся подражать французским символистам. Хотя куда им до символистов и уже тем более до французов. «Разговорчивые губы меж твоих ног источают чарующее зелье, в волосах твоего лобка прячутся словеса, шепот твоих прилагательных скользит по моей коже», – написал У. С. Мартин (он же Умберто Хеласио Сантос Мартинес), один из самых тонких и выдающихся прозаиков нашего времени. Его строки пронизаны чистой поэзией, по словам того самого критика, которому Хулиан пересчитал зубы. Он ненавидел якобы неумолимых критиков, которые изъяснялись, как манерные малолетки: «Этому роману не хватает неминуемого флера поэтической магии, дрожи глагола» или «У него нет такого музыкального трепета, каку…», и дальше упоминался какой-нибудь малоизвестный писатель из Центральной Европы. Им полезно иногда начистить рыло. Но как бы Хулиан ни силился изобразить крутого мужика, до текстов, написанных зэками, ему было далеко. «Из них сочится правда», – сказал он своему редактору, который не всегда разделял его восторги. Редактору как раз нравилась всякая рококошная писанина, которую словно покупали в кондитерской, а не брали из самой жизни. Безобидные фразы без острых мест, без лезвий. Пустые бездыханные произведения, не влекущие за собой ни резонанса, ни последствий. Конфеты с начинкой из воздуха. Хулиан тосковал по предыдущему издателю, который говорил, что предпочитает корявый роман талантливого писателя идеальному роману посредственности. Хулиан тогда попросил уточнить. «В тексте талантливого писателя всегда есть фраза, пусть даже одна-единственная, которая изменит твою жизнь. У посредственности можно научиться, самое большее, грамотно писать».
Хулиану слова бывшего издателя про единственную фразу, которая изменит жизнь, запали в душу. Это не значит, что фраза должна быть поэтичной (и, следовательно, донельзя банальной), из тех, которыми украшают календари с цветочками. Нет, она должна быть, как прямой в голову: чтобы у читателя сперло дыхание и на середине страницы он был вынужден остановиться перевести дух. Можно позабыть ее строение, но не ее эффект. Ее никто не цитирует, но все помнят. Она вроде бы написана легко, но имеет большой вес, тяготеет. Точно, это должна быть фраза с встроенной гравитационной силой, черная дыра, пожирающая все вокруг себя.
Хулиану как серпом по яйцам были писатели, которых больше заботила аллитерация, чем нутро текста. Также ему опротивели авторы-онанисты (онинасты, называл он их, или попросту дрочилы), то есть те, кто писал про литературную среду – можно подумать, в ней есть что-то интересное. Романы про интриги в правительственных комитетах по грантам, про книжные ярмарки, про зависть, про презентации книг. «Херь же на постном масле», – втолковывал он своему издателю. «А мне нравится, как они грызутся», – отвечал издатель. Хулиан не понимал, как такое может нравиться кому-то, кроме тех, кто наслаждается сплетнями в разделе «Культура» светского журнала «Ола!». Всем остальным людям стопроцентно насрать.
Хулиан сделал своим лозунгом фразу «Рассказывайте, а не пойте!» – именно этого требовал от своих учеников в Мексиканском писательском центре Хуан Рульфо. Делал ставку на человеческие истории – настолько человеческие, что их структура становилась незаметна. Поэтому он так тащился, слушая тексты своих подопечных в тюремной мастерской. Тексты, написанные когтями, клыками, мослами, кулаками.
На спектаклях всегда бывал аншлаг. Актерам пришлось привыкнуть к оглушительным выкрикам из зала. «А ты не обу-ел ли, кукурузная харя!», «Вон тот хмырь его убил!». Какая уж тут к хренам четвертая стена, когда накал в театре был почище, чем на матче «Сакатепек» – «Ирапуато». Молодые актеры – те поначалу вообще не врубались, застывали в разгар сцены, как оглушенные, не знали, что делать. На помощь приходили ветераны, повидавшие на своем веку не один шарабан: «Ты либо с ними в ответ шуткуешь, либо не обращаешь внимания, только не стой столбом».
Прошло несколько месяцев, и Педро с Хулианом решили, что пора обратиться к более рискованным творческим начинаниям. Стали привлекать больше художников-абстракционистов. Привозили авангардные спектакли. Расширили линейку деятельности уроками актерского мастерства, истории, философии, шахмат. Тогда-то Педро и пришло в голову пригласить «Танцедеев». Хулиан был против. Постановки Марины он считал претенциозными и тягомотными (точнее, он говорил «розовые сопли» и «отстой»). Какие-то полуголые балерины бегают по сцене, а за ними бегают балеруны, от которых было бы больше толку, нарядись они пальмами и стань на заднем плане. Но Педро придерживался иного мнения. «"Танцедеи“ – это и-де-аль-но», – сказал он так восторженно, что напомнил Хулиану тюленя, хлопающего ластами. Заключенным необходим контакт с женской сущностью. До сих пор в спектаклях не участвовали женщины (пьесы нарочно подбирались только с мужскими персонажами). Единственной феминой на проекте была почтенная восьмидесятилетняя Ребека Ортис, преподавательница художественного ваяния.
«К вам, может, балерин привезут выступать, – между прочим заметил Хулиан Хосе Куаутемоку, на лице которого не дрогнул от этого известия ни один мускул. – Что такое? Красоток не любишь или только задом теперь паркуешься?» Кому другому Хосе Куаутемок уже бы яйца вырвал за такое, но тут он просто улыбнулся. Красотки или не красотки – одна фигня. От них одни траблы. Он хотел, чтобы ничто не отвлекало его от океана творчества. Нет уж, месье. Он наконец-то схоронил свои плотские желания, причем в самом дальнем углу кладбища ненужной дряни. Желание в тюряге ведет к одному – как раз таки к парковке задом, а это дело – также известное как «замена масла» – не его. Он не хотел думать о женщинах. Не хотел представлять их голыми. Не хотел мечтать о них, сходить из-за них с ума. Ему не нужен был секс и они были не нужны. В любом смысле – ни их голоса, ни их чувствительность, ни их представление о мире, ни глаза, ни руки, ни пальцы, ни губы, ни покой, ни буря. А теперь этот окорочок Хулиан как ни в чем не бывало заявляет, что сюда явится куча баб. Они вторгнутся и разбередят былое. Вновь сернистое биение их запаха. Вновь одержимость их кожей, их ласками, их влажностью, теплом их тел, словами, которые только они и умеют произносить. Да ну на хрен. Ужасная идея – привезти их в тюрьму.
Пока Хосе Куаутемок шел ко мне через зал, я успела бы раскаяться, поблагодарить его за приглашение и улизнуть обратно в свой мир. Но я сидела на месте, как парализованная. Внутри закипал адреналин. Правая рука тряслась. Предплечья покрылись пятнами, грудь и шея – наверняка тоже. Все указывало на надвигающуюся опасность, но мозг отказывался верить.
«Привет!» – сказал Хосе Куаутемок, подходя. Охранникам он бросил: «Как сами, братаны?», на что один кокетливо ответил: «Да вот, блюдем твоего ангелочка, чтобы крылышки не испачкались». Хосе Куаутемок сел рядом со мной. Свет из высокого окна падал ему на лицо. Я раньше не замечала, какие голубые у него глаза, оттенка переливающейся бирюзы. Орлиный нос, выдающиеся скулы, широкая мускулистая шея. Большие узловатые руки. На губах пара шрамов. Черты лица не слишком тонкие. Даже скорее грубые, но четкие и правильные. Зубы, не желтые и не щербатые, выглядят на удивление здоровыми, учитывая, сколько лет он провел за решеткой. Он разглядывал меня, не переставая улыбаться. «Не могу поверить, что ты пришла», – сказал он. Я ответила: «И я тоже». Мне даже ворочать языком было трудно. От Хосе Куаутемока шла какая-то властная волна, в его присутствии невозможно было вести себя как обычно.
«Нервничаешь?» Я кивнула. К чему отрицать очевидное? Как в прошлый раз, он протянул свою гигантскую руку и отодвинул прядь волос у меня со лба за ухо. Каждый его жест намекал на близость. Чтобы скрыть перевозбуждение, я кивнула на женщину, сидевшую с рябым типом: «Кто они?» Хосе Куаутемок посмотрел: «Его зовут Руперто Гонсалес. Прозвище – Хряк. А жена – Росалинда дель Росаль. Это у нее имя такое, да-да». Что-то знакомое. Наверное, я про них читала, точно не помню. «Он с братьями похищал девиц в Лас-Ломасе и Педре-гале. Богатых и избалованных. А она и ее двоюродные сестры следили за похищенными. Руперто договаривался о выкупе. Жестко договаривался. Если ему не шли навстречу, отдавал приказ резать, и тогда Росалинда, по прозвищу Мачете, отрубала им пальцы или уши, и все это посылали родственникам. А некоторых просто убивали, даже если за них уже заплатили выкуп. Те еще сволочи. Двадцать лет назад их сцапали. Ей дали восемнадцать, ему – пятьдесят. А двум его братьям повезло меньше. У них перевернулась машина, когда они уходили от полиции. Оба погибли. Двоюродных сестер Росалинды тоже повязали. Одна повесилась в тюрьме, вторая умерла от рака, как только вышла». Мне от описания всех этих ужасов стало плохо. Я попросила Хосе Куаутемока не продолжать. Не зря она мне говорила, что рядом с ней лучше не держаться. Меня аж затошнило, хотелось уйти и больше не возвращаться.
Хосе Куаутемок сжал мое плечо, стараясь успокоить: «Ты хорошо себя чувствуешь?» Я помотала головой. Я терпеть не могла плаксивых женщин. Они всегда казались мне манипуля-торшами и шантажистками, и вот теперь я сама чуть не рыдала от испуга. «Не надо мне было так подробно… – сказал Хосе Куаутемок. – Обещаю никогда больше не говорить тебе ничего неприятного».
Если честно, его рука на моем плече и вправду успокаивала. Ну и пусть это был всего лишь предлог, чтобы до меня дотронуться. Я наслаждалась близостью Хосе Куаутемока и его… запахом. Черт, как он умудряется так пахнуть? «Можно я тебе кое в чем признаюсь?» – спросил он. Я взглянула ему в глаза. Теперь он не держал меня за плечо, а легонько перебирал кончиками пальцев по моей коже. Мне хотелось коснуться его в ответ, принять эту связь. Смириться с тем, что я умираю как хочу его поцеловать и все что угодно отдам, лишь бы он и дальше трогал мое плечо, а потом перешел бы на ключицу, на шею, на грудь. «Да, конечно». Не отнимая руки, он ответил: «Я не мог уснуть сегодня, все думал о твоем приходе». Это прозвучало не как обычная выдумка третьесортного бабника. Человек, который остаток жизни проведет за решеткой, не станет разбрасываться замусоленными фразочками, чтобы соблазнить женщину. Что ж, если бы мы стали обмениваться признаниями, мне пришлось бы рассказать, что я с первой встречи не могу выкинуть его из головы, что я десятки раз мастурбировала, представляя его обнаженное тело, что один его запах заводит меня сильнее, чем запахи всех, с кем я когда-либо спала, вместе взятые, включая – хоть и больно об этом думать – моего мужа. «Правда?» – притворно удивилась я. Его ответ меня просто осчастливил: «Мы, зэки, врем только адвокатам и судьям. А тем, кто нам действительно дорог, всегда говорим правду». Казалось, он подбирал каждое слово, чтобы оно производило большее впечатление. Или он говорит искренне, или он опытный ловелас. В любом случае я была ослеплена им. Не прошло и десяти минут, как я отчетливо поняла, почему не побоялась в одиночку вторгнуться в Истапалапу, на эту территорию ко-манчей.
Я отодвинула плечо, и его рука упала на стол. Подалась назад, подальше от него. Я ходила в католическую школу и там выучилась определять границы личного пространства. «Какой у тебя любимый писатель?» Отвлекающая суть этого вопроса была настолько очевидна, что Хосе Куаутемок просто проигнорировал его. «Дай мне руку обратно», – приказал он. Я всегда гордилась, что не слушаюсь мужчин, какими бы добрыми ни были их намерения. Команды мгновенно вызывали у меня сопротивление. Да, внутри меня жила тихоня, но жила и свободная решительная женщина. «Зачем?» – невинно спросила я. «Ты положи», – снова велел он. Я послушалась, вытянула руку и положила на стол всем предплечьем. Он погладил мою ладонь, поднялся по запястью к локтю, а оттуда по внутренней стороне, почти до подмышки. Его пальцы гуляли вверх-вниз.
Я возбудилась, сильно возбудилась. И решила, что не ему контролировать нашу близость. Взяла его за лицо обеими руками и поцеловала в губы.
Его отец любил цитировать Ницше: «Но дух льва говорит: я сделаю». Его просто бесило, что некоторые переводчики ставили в конце этого предложения неоднозначное «я хочу». Он считал это глупой ошибкой и в доказательство обращался к оригиналу: «Aber der Geist des Lowen sagt „ich will"». «„Will" на немецком означает волю, – утверждал он. – „Я хочу" – не то же самое, что „я могу" или еще более категоричное „я сделаю"». Хосе Куаутемок почти забыл любимое выражение отца, но теперь, когда стал непрерывно писать, часто вспоминал для бодрости. «Я сделаю… я сделаю…» Никакого «я хочу». «Хотеть» не вяжется с духом такого свирепого создания, как лев. Это больше подходит нюням. Хотеть – одно, а делать – совсем другое. «Я сделаю» звучит как принятое решение, когда никто и ничто уже не может ему воспрепятствовать. Иначе говоря: костьми лягу, а сделаю.
Он решил, что должен писать не меньше пяти страниц в день. И не собирался сбавлять темп. Каждая строчка ставила жизнь выше потери свободы. «Дух льва говорит: я сделаю». Но теперь его воля вновь под угрозой. Эти балерины, которые приедут, – они, скорее всего, красотки, у них соблазнительные фигуры и хорошенькие личики (не как у пухлых жен его сокамерников, те-то питаются одним жареным и запивают газировкой). А он так был счастлив, что избавился от тирании секса. Ведь для мужчины и вправду нет худшего деспота, чем секс. Результат тысячелетней эволюции. Секс, великий диктатор, отдающий приказы. Он ищет, соблазняет, нападает, крутит, дерется, затаивается, набрасывается. «Есть писатели, которые пишут головой, – говорил Хулиан, – другие сердцем, некоторые – нутром, а самые крутые, те бьют по клавишам хером». Хосе Куаутемок был как раз из последних.
Наступил день спектакля. После обеда Хосе Куаутемок сел за машинку. Педро ему уже успел что-то наплести про цыпочку, которая его точно зацепит: «Запомни имя: Марина». И описал ее: она такая-то и такая-то. «Тебе точно понравится». Зачем этот говнюк над ним стебется? Зачем вбивает ему в голову какое-то имя? Вероятность, что его обладательница вообще его заметит, – 0,000000000000001 %. К чему все это?
Только баба, которая сходит с ума от скуки в своей затхлой, как болото, жизни, может заинтересоваться убийцей с пожизненным. Марина эта, судя по словам Педро, вроде особо не скучала. «Она замужем, у нее дети, и вообще она крутая, но понравиться вы точно друг другу понравитесь». Ну не мудак ли этот Педро? И что он ей скажет? «Привет, Марина, давай выпьем кофе? Где предпочитаешь, во дворе или прямо в камере?»
По коридорам разнесся слух: «Приедут балерины, говорят, фигуристые, а при них балеруны, и эти все как один – пидоры». Так что предстоящий спектакль тешил умы заключенных с разными сексуальными предпочтениями (один из самых кровожадных уголовников, Беспалый – кличку он получил после того, как лишился большого, указательного и безымянного: гранату не успел бросить, – был как раз гей. Конечно, так или тем более пидором никто его называть не мог, но шуры-муры с сокамерником у него были по высшему разряду. Беспалый себя голубым не считал: «Это я ему сую, а он у меня отсасывает. Он пидовка-то, не я»).
Педро и Хулиан очень просили потенциальных зрителей не вести себя как шайка голодных макак при виде грозди бананов. Чтобы не пытались прижаться там, не орали «эй, красавица!», не щипали за задницы. Если все пройдет без сучка без задоринки, можно будет и дальше приглашать танцевальные труппы и включать женщин в театральные постановки. Педро, Хулиан и Хосе Куаутемок провели отбор: «этого можно, он не нарывается»; «этому фигушки, он точно к кому-нибудь пристроится»; «а у этого чувака точно крышу снесет от балерунов». Записалось больше тысячи человек. Выбрали двести пятьдесят.
В шесть часов вечера по тюрьме пронеслось: «Приехали!»
А через пару минут легким ветерком от тех, кто успел одним глазком глянуть: «Зачетные, отвечаю». Хосе Куаутемок остался в камере. Хулиан просил его пойти с ними встречать танцоров, но он ни в какую. В его положении приближаться к бабам – все равно что пытка инквизиции.
Чуть после начала спектакля он встал, прошел по коридору, в потемках просочился в зал и сел сбоку в последнем ряду. Он сразу узнал ту самую Марину, про которую толковал Педро.
Потому что она полностью вписывалась в его идеал женщины: ноги от ушей, рельефные мышцы, личико «я и мухи не обижу» и этакое порочное же-не-се-куа. При виде нее у него сразу же слюнки потекли. Он не сводил с нее взгляда, следил за малейшим изменением выражения лица, за каждым движением. Кандалы сомкнулись.
Заключенные вели себя тише воды, ниже травы и вроде даже восхищались постановкой – по крайней мере, не отвлекались. Никто не клевал носом, не зевал, не выходил в уборную. Некоторые особо чувствительные пустили слезу. У других, чего уж там, встал рычаг переключения передач.
После спектакля грянули аплодисменты. В отличие от утренних телепрограмм, к которым привыкло большинство, программ, где все орут и размахивают руками, а ведущие лопочут, как попугаи, сочетание музыки и тишины, грациозные движения, женские тела, полные животной силы, кровь, стекающая по ногам, ошеломили публику. Народ собрался позырить на телочек, а оказался растроган до глубины души.
Хосе Куаутемок наотрез отказался войти в состав культурного комитета, назначенного, чтобы вручить букет цветов художественному руководителю. Нет, спасибо, не пойдет он на поводу у своего конца, а уж сердца – и подавно (а вдруг эта мадам пробудит в нем сюсипусечную сторону?). Лучше уж пусть Рубен, секретарь комитета, толкнет речь. Но писал Рубен хуже пьяного опоссума, поэтому Хосе Куаутемок спешно нацарапал пару строк на листике: «Марина, от имени заключенных я хочу поблагодарить вас и вашу труппу за то, что вы скрасили наши серые будни. Мы заперты в кубе из бетона и железа, и наши дни протекают в дурмане скуки. Мы впадаем в спячку, мы ожесточаемся, и нам легко утратить надежду. Но сегодня вечером ваш спектакль напомнил нам, что истинная свобода обитает в нас самих. Сегодня вы сделали нас свободнее». Быстренько сбегал до первого ряда и передал листик Рубену. Тот засунул его в карман рубашки. «Прочтешь вслух, – наказал Хосе Куаутемок, – и смотри не проболтайся, что это я написал».
Рубен прочел, и Марина, казалось, была взволнована. Хосе Куаутемок, не отрываясь, глядел на нее с другого конца зала. Она. Она. Она. Когда они уже собирались на выход, он все-таки выступил из полумрака и подошел к ней: «Музыка Кристиана Йоста – прекрасный выбор». Она обернулась и сказала: «Спасибо». – «Барток тоже подошел бы». Марина смерила его взглядом, как бы говорящим: «Откуда этот пещерный человек столько знает?» И закинула удочку: «Что именно?» – «Музыка для струнных, ударных и челесты», – наугад ответил Хосе Куаутемок, просто чтобы показать уровень. Вблизи она ему еще больше понравилась. Черты лица теперь казались резкими, ничего общего с фарфоровой куколкой. А какие плечи – сильные, выразительные, целуй не хочу, кусай не хочу, лижи не хочу. Нет, не даст он ей просто так уйти. На обрывке бумаги он записал номер – некоторое время назад ему удалось обзавестись мобильником. «Может, ты как-нибудь позвонишь? Я с удовольствием поговорил бы с тобой». Она ответила: «Конечно. Очень постараюсь». Чтобы скрепить договоренность, Хосе Куаутемок протянул руку. Она крепко пожала ее. Он почувствовал ее кожу. Черт. Ее кожа. Приехали. Снова над ним господствовала женщина. Женщина как ось мира, как ось его жизни, как ось всей вселенной. Она попрощалась и пошла к выходу. В эту минуту его как никогда бесило, что он заключенный. Что он не может броситься за ней и сказать: «Останься».
Она со своей свитой исчезла, даже не обернувшись. Она.
А уж как забыть политические речи, которые ты произносил за обедом или ужином? «Социалисты должны понять, что основная проблема – не экономическая, а расовая». Ты считал, что применять теории Маркса к современной Мексике ошибочно, потому что разрабатывались они для Европы XIX века. Показывал нам, что неравноправие вытекает из конфликта не только классов, но и рас. «Истинной демократии можно будет достичь, лишь когда у коренных народов будет политическая власть. Социалистическая революция в странах, колонизированных белыми, не возымеет эффекта, если доступ в правящие круги не будет обеспечен тем, у кого отобрали землю». Это относилось не только к Мексике. «В Соединенных Штатах все изменится, когда в президенты выберут апача или сиу, в Канаде – когда премьер-министром будет инуит или кри, в Австралии – когда ее судьбами будет управлять абориген». Пролетарская революция никому не нужна, если бюрократы, заправляющие госаппаратом, препятствуют приходу во власть политиков из коренных народов. «Разве на Кубе, при кастристском режиме, решения принимают тайно или другие индейцы? – яростно спрашивал ты, ставя в неловкое положение своих соратников-социалистов. – Нет, там все прибрали к рукам потомки испанцев, а неграм и индейцам – кукиш!» Могу тебе сообщить, папа, что после твоей смерти Хуарес, которого ты так взыскательно ждал, так и не пришел. Нами по-прежнему правят белые. А твои люди, вразрез с благонамеренностью политиков, обречены на отчуждение и маргинализацию. Как ты бы сказал – обречены оставаться невидимыми.
Должен признать, Сеферино, твои публичные лекции производили на меня большое впечатление. Ты утверждал, что индейцы смогут управлять страной более эффективно. За ними – вековая мудрость, им известны самые глубокие тайны земли, на которой они выросли. Знания о почвах помогут им подбирать более подходящие культуры, и тем самым миллионы людей будут спасены от голода. «Белые думают, они такие умные, а на самом деле они только и умудрились, что убить плодородие пахотных земель. Не умеют сеять, не понимают природных ритмов. После них остаются пустыри вместо полей». Ты приводил в пример сельскохозяйственную катастрофу в США 30-х годов, случившуюся из-за непонимания принципа ротации культур: «Мы, индейцы, не разоряем природу. Не разрушаем леса и сельвы. А белый, к чему ни притронется, все испортит».
Некоторые твои коллеги считали, что в Мексике индейцам повезло больше, чем в Соединенных Штатах или Аргентине, где их едва ли не истребили. Ты парировал: Между быстрым геноцидом и медленным геноцидом нет разницы. И то, и другое – уничтожение. Единственное отличие – в скорости, с которой убивают». Сокрушительный ответ, Сеферино. Браво.
Я все еще вспоминаю тот вечер, когда ты позвал нас в кабинет и разложил перед нами фотографии. Пьяный абориген валяется на красной земле посреди австралийской деревни; молодой навахо прислонился к стенке с бутылкой бурбона в руках и отсутствующе смотрит в одну точку; женщина-отоми с грудным ребенком сидит подле блюющего мужа, а рядом лежит бутылка из-под дешевой водки. Ты рассказал нам, что порабощенные люди из коренных народов, обреченные на жизнь в нищете и бесчестии, искали выход в алкоголе и преступлениях. И это еще не все: утратив культуру, идентичность, землю, которую молено было бы назвать родной, они становились людьми второго сорта. Признавали, что остается только склонить голову, подчиняться приказам и мириться с беззаконием. Целые поверженные народы.
Но ты был исключением, Сеферино. Ты бесстрашно сражался и отказывался капитулировать. Ты нелселал становиться на место жертвы, поскольку считал это главной стратегической ошибкой. Нет. Нужно предпринимать «шаги силы». Ты их перечислял, а я запомнил наизусть, вот послушай: первый шаг – вернуть себе достоинство. Сбросить шоры самоотверженности и признать себя потомками могучей цивилизации. Второй – наводнить общественные площадки, чтобы послание было услышано. Третий – изменить образовательные модели, способствующие расовой дискриминации. Четвертый – предлолсить новые программы на всех уровнях образования и включить индейские языки в число обязательных предметов. Пятый – добиваться уничтожения национальных символов и празднеств, принижающих индейское население. Шестой – развернуть кампанию по возрождению ценностей коренных народов. Седьмой – продвигать среди индейской молодежи активизм и готовить ее к политическим постам высшего уровня. И восьмой – если ничто из вышеперечисленного не сработало, прибегнуть во имя перемен к насилию.
Надо же, Сеферино. Все прописано четко и ясно. Твой план действий как реальная и определенная дорожная карта. Только вот меня гложет сомнение: почему ты никогда не применял эти тактики у себя дома? Ты был ярым защитником этнических меньшинств, но как насчет женщин? Они исключались из твоей повестки? А если бы мы вписали слово «женщина» вместо слова «индеец» во все твои выкладки, что бы было тогда? Раз ты боролся за равенство, объясни мне: почему ты обращался с мамой, как с надувной куклой, чья основная обязанность состояла в том, чтобы служить сливом для твоего семени? Образ высокосознательного интеллектуала как-то не вяжется с образом мужа и отца-тирана. Мой брат, видимо, очень близко к сердцу принял восьмой пункт твоего манифеста: «Прибегнуть во имя перемен к насилию». Дома ты сам был тем авторитарным, деспотичным государством, которое было тебе так отвратительно. Ты правил железной рукой, пока не явился радикальный анархист и не положил конец твоему террору. От тебя несло диктатурой, и Хосе Куаутемок решил залить ее огнем.
Мы целовались так, будто виделись в последний раз в жизни. До этой минуты я была довольно благовоспитанной женщиной. Прилюдные проявления любви мне не нравились. Я никогда не целовалась на улице или там в парке – ни с Клаудио, ни с предыдущими бойфрендами. Мне казалось это вульгарным, неприличным. А сейчас я целовалась с практически незнакомым человеком в тюремном зале для свиданий.
Я была рада, что руки он держит при себе. Рада не за него, за себя. Я была готова заняться любовью прямо на этом столе, на глазах у всех. Вдали от своего круга, не боясь осуждающих взглядов, я чувствовала себя свободной, как никогда.
Мы целовались, пока не прозвенел звонок, означавший конец времени посещений. Мы отделились друг от друга, и Хосе Куаутемок взял мое лицо в свои руки. «Увидимся на занятиях», – сказал он. Поцеловал меня в губы, поднялся и пошел к выходу. У двери обернулся, помахал на прощание и затерялся в коридорах, ведущих к камерам.
Может, дело было в поцелуях, а может, еще в чем-то, что я испытала в тот день, но на улицу я вышла гораздо более смелой, чем утром. Опасный район оставался опасным районом. Ровно таким же, как раньше. Но я чувствовала, что теперь готова ответить на угрозу. Разумеется, это был сбой восприятия. Идя к машине, я совершила массу ошибок. Я достала телефон, чтобы вбить адрес в навигатор. За несколько метров открыла дверцы дистанционным ключом. Не обратила внимания на окрестности и на людей вокруг. Таких глупостей опасные кварталы не прощают.
Ощущая себя Чудо-женщиной в гормональном турборежиме, я рванула домой. «Уэйз» показал мне отличную дорогу. Я объехала скопление маршруток на кольце и набитый до отказа рынок на колесах, вокруг которого образовалась дикая пробка. Правда, путь шел все более мрачными и отдаленными улицами. К счастью, обошлось без приключений. Я самоуверенно вырулила из Истапалапы. Возвращение получилось бы триумфальным, если бы меня не остановила дорожная полиция. Я превысила разрешенную скорость сорок километров в час – нелепое ограничение, наложенное единственно с целью законного и незаконного вымогательства. Полицейский спросил у меня права и дорожную карточку. Сказал, что я потеряю столько-то баллов и, возможно, у меня отберут права. Я попросила выписать мне штраф. Он снисходительно посмотрел на меня и протянул: «Знаете, дамочка, что вам светит, если я вас оштрафую? Минус шесть баллов, а у вас их всего двенадцать».
Я сказала, мне все равно. «Может, лучше договоримся?» Я была на таком взводе, что достала телефон и начала его снимать: «Будьте любезны, повторите: что вы мне сейчас сказали?» Это его взбесило. Он заговорил в рацию: «У меня четыре-четыре, повторяю, четыре-четыре». Дешевое запугивание: якобы он вызывает подкрепление. Обычный набор уловок взяточника. Он минут пятнадцать поизображал «четыре-четыре», после чего сдался и вернул мне документы. «Свободны. Ведите осторожно», – кисло сказал он и уехал.