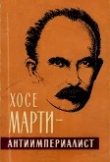Текст книги "Спасти огонь"
Автор книги: Гильермо Арриага
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)
Инцидент оставил неприятный осадок, зато помог вернуться с небес на землю. Я не Джейн, подруга Тарзана, а простая богатейка, которую только что пытался развести дорожный полицейский. По мере возвращения в реальность во мне начало расти чувство вины. Мои забавы с Педро были, как бы сказать, несерьезными, безобидными. Настолько безобидными, что мы продолжали дружить вчетвером, а мы с Педро даже сблизились, хотя совершенно не собирались повторять. То, что происходило у нас с Хосе Куаутемоком, было совсем другого порядка. Это была вылазка на запретную территорию по ту стороны измены. Все равно что коснуться грани преступления, подойти вплотную к смерти. Самой настоящей, не метафорической. Да, Хосе Куаутемок восхитительно пах, великолепно целовался и привлекал меня, как никто другой в жизни. Но я ничего не знала о его половом здоровье, к примеру. Какими вирусами и бактериями кишат его вены? Со сколькими людьми он спал? Отвечает ли он стереотипу заключенного, который утоляет свой сексуальный голод с другими заключенными? Может, у него ВИЧ, или генитальный герпес, или гепатит С, или хламидиоз, или гонорея? Не говоря уже о ментальном здоровье. Он всегда такой галантный и серьезный или иногда превращается в необузданного кровожадного монстра? Не впадает ли в безумие? А если он психопат, умело маскирующийся под нормального?
На меня он производил впечатление человека спокойного, хоть от него и исходила угроза. Это читалось в его глазах, в росте, в мощи мышц, даже в написанных им текстах. Я не могла себе представить, что он проявит ко мне жестокость. Наоборот, мне казалось, он станет обо мне заботиться. Но, возможно, я ошибаюсь и по моей вине пострадаю не только я сама, но и моя семья. Вдруг он заразит меня неизлечимой венерической болезнью, а я передам ее Клаудио? От одной згой мысли мне становилось дурно. С другой стороны, разве Педро не мог являться носителем смертоносной инфекции? До того, как они сошлись с Эктором, он трахался направо и налево. «Пять-шесть человек в неделю», – хвастался он. Да и сам Эктор в прошлом успел намутить. И все же с Педро мы не пользовались презервативом, и я даже не задумывалась, здоров он или нет. Хосе Куаутемок полжизни провел за решеткой. Вряд ли за те недолгие годы, что он наслаждался свободой, он успел сравниться в активности с Эктором и Педро.
Я пришла домой, пообедала с Клаудио и детьми, но продолжала думать только о его поцелуях. Я еще чувствовала его вкус, его дыхание. Так одержимо силилась вспомнить каждую подробность, что задумалась уже о собственном ментальном здоровье.
После обеда я помогла Даниеле с уроками. Она складывала и вычитала, а я вдруг взяла ее за руку и попросила прощения. Она изумленно взглянула на меня. «За что простить, мама?» – «За то, как я могу с вами поступить», – сказала я, как будто она могла понять весь смысл этой фразы. «А как ты можешь поступить?» – забеспокоилась она. Тут я поняла, что своим дурацким чувством вины только сбиваю ее с толку. И легонько ткнула ее пальцем в живот: «Могу тебя защекотать!» Мы посмеялись, и она опять занялась уроками. Я не выдержала. Встала, заперлась в ванной и разрыдалась.
Сосед
В детстве я однажды выиграл на ярмарке четырех цыплят. Два были выкрашены в оранжевый цвет, а два – в зеленый. Я посадил их в картонную коробку. Давал им хлебные крошки и поил из пипетки. На ночь закрывал коробку и ставил рядом с кроватью. Выключал свет. Они попищат-попищат, а потом затихнут. Тогда я открывал крышку, брал фонарик и смотрел на них. Они спали стоя, с закрытыми глазами. И я гладил их по головкам, потому что очень их любил.
Как только вставало солнце, они снова начинали пищать. Прямо не умолкая. Не знаю, как они догадывались, что уже утро, – коробка-то была закрыта. Но как-то соображали и принимались голосить. Брат сердился, что они ему спать не дают. Попросил маму убрать их из комнаты, и мама выставила коробку в коридор. А я хотел быть при цыплятах, поэтому вынес туда одеяло и спал рядом с ними в коридоре. Один цыпленок умер. Я очень расстроился. Спросил маму, где мы его похороним, но она велела не валять дурака. Кинула цыпленка в унитаз и смыла. Сказала, в мусор его класть рискованно, с меня станется его оттуда достать и схоронить. А еще сказала, что предавать животных погребению – святотатство, потому что мы тогда якобы возвышаем их души до людских душ, а на мессе падре сказал, что мы не животные. Учительницы в школе рассказывали, что мы происходим от обезьян, но когда я про это сказал маме, она влепила мне оплеуху со всей силы и сказала, если еще раз услышит от меня такие глупости, вообще меня из школы заберет.
Цыплята росли. Получились два петушка и одна курочка. Они бродили по дому и, по правде сказать, довольно сильно его загадили. Мама отправила их жить на крышу. Дядя помог мне построить им курятник из дощечек и проволоки. Дядя, а не папа, потому что папу убили. Как только я приходил из школы, сразу же поднимался к ним наверх. Открывал им дверцу и гонял их по крыше. Но потом один петушок попытался взлететь и чуть не свалился через край, и тогда я играть с ними перестал.
Вскоре мои петухи начали петь по утрам. Так уж прекрасно пели! Кукареку! Как будто где-то в деревне. Мне очень нравилось, а вот одному соседу – нет. Однажды он постучался к нам и поговорил с мамой. Сказал, мол, сраные петухи ему спать не дают.
Я рассердился. Никакие они не сраные. Но мама сама на него напустилась, сказала, а вот ей спать не дают его сраные собаки, лают всю ночь напролет. Сосед ответил, что нечего ему тут предъявлять, благодаря его собакам на районе спокойно, а если мама желает доказательств, то на днях поймали воров, которые залезли к донье Мелро, потому что его собаки разлаялись и подняли тревогу. Наглое вранье. Воров поймали, потому что сеньора та завопила как резаная и соседка вызвала полицию.
В общем, его собаки так и остались лаять, а мои петухи так и остались петь. Сосед начал на нас косо смотреть. По утрам он выходил и говорил: смотрите, какие у меня мешки под глазами из-за ваших сраных петухов. А мама ему отвечала: а я, смотрите, в каком дурном настроении из-за ваших сраных собак. В таком духе. Однажды я поднялся на крышу, а птички мои мертвые лежат, с перерезанным горлом.
В луже крови. Я успел соседа углядеть, как он с крыши прыгнул. Я чуть не умер от горя. Он тайком их убил, сволочь этакая. К счастью, я пришел сразу после того, как он им горло перерезал. Мама сказала, что мы не можем курятиной разбрасываться, и сварила из них суп. Я целую неделю проплакал.
Я поклялся, что отравлю его собак. Когда я рассказал про это маме, она рассердилась, но не за то, что я хотел их убить, а за то, что деньги бы впустую потратил. К тому же, сказала она, несчастные собаки ни в чем не виноваты. «Тогда уж его убей». Лучше бы она этого не говорила, потому что с того дня я только и поджидал случая его укокошить. Мне было двенадцать, и ножом бы я вряд ли справился. Один приятель с района сказал, что для этого нож нужно всадить до конца и поворочать там, в кишках. Сам-то он, засранец, уже двоих козлов порешил, так что знал, про что говорит. Посоветовал мне его не резать, потому как я хиздряк и сил его до конца убить у меня не хватит.
Я придумал кое-что получше. Наша крыша выходила на его двор. Вот дождусь, когда он выйдет машину мыть, и сброшу ему горшок с цветами на бошку. Собаки меня знают, лай не поднимут. Я выследил, что он намывает тачку каждый вечер после работы. Было бы что намывать. Ведро, «додж-дарт» хрен пойми какого года. В общем, как-то во вторник я притаился на крыше с горшком герани. Часов в шесть он выполз. Мыл он не из шланга, а из ведра, такой был жмот. Прямо как бабу машину свою наяривал. Оглаживал ласково так, мочалкой. Когда он совсем вошел во вкус, я с края крыши метнул горшок ему в голову. И попал ведь. Он сначала рухнул на машину, а потом свалился на землю. Кровищи натекло. Он стонал, извивался и руками сжимал разбитую башку.
Но не умер. Поэтому я отправился за следующим горшком. У мамы штук десять гераней было. Она их любила так же, как я любил своих цыплят. Я уже представлял, как она взбесится, когда узнает, что я из ее цветов бомбы сделал. Сосед тем временем уже пытался встать на ноги. Я кинул второй горшок и не попал. Попал в машину, получилось громко. Вмятина в крыше знатная образовалась. Если не помрет, точно обозлится, как собака, что я ему тачку попортил. Он поднял голову, увидел меня и попробовал залезть в машину, но видно было, что его ведет как попало. Я рванул за третьим горшком, чтоб он от меня не ушел. Уронил как раз в ту секунду, когда он дверцу открывал. Отлично попал, прямо по кумполу. Опять кровь фонтаном. Не помрет – так точно дурачком останется. Я смотрел, как его корчит, и тут слышу, вопит какая-то тетка. Соседка, та, у которой язык как помело. «Я все видела! Я все видела!» – орет. Не хватало еще, чтобы она меня сдала. Я побежал по крышам к ее дому, чтобы и ей башку размозжить. Но она юркнула в дом и закрылась на ключ. Я подумал, она испугалась и будет помалкивать, но нет: она, дура склочная, вызвала полицию. Чего ей стоило промолчать, старой перечнице?
Словом, поместили меня в исправительную для малолетних. Долго там держали и якобы там же и учили. Про ученье – все брехня. Учителя нас боялись до усрачки и на уроки не приходили. В исправительной я стал буйным. Много там всякой шушеры обреталось, а я был из самых мелких, вот меня и чмырили почем зря. Потом подрос, научился защищаться. Был там один тощий, длинный дебилоид, так постоянно до меня докапывался. Все время мутузил. А я-то наученный, как с крыш в людей кидаться. Однажды влез на крышу столовки и взял пяток кирпичей, там валялись. Никто меня не видел: я тайный ход знал. Дождался полдника. Когда все заходили в столовку, я подобрался к краю, высмотрел этого урода и запулил ему кирпичом прямо в тыкву. Надо было мне питчером становиться. Прямехонько в лоб попал. Его другая увидел, как он рухнул, и все понял. Обернулся и пальцем в меня тычет. Я рассердился и в него тоже кирпичом запустил. Не попал, но он хоть дунул оттуда. А тот на земле валяется. Ну, я ему еще три кирпича, и все по башке. Говорю же, отличный бы питчер из меня получился. Этого я не убил, но покалечил. Говорят, он в инвалидном кресле теперь слюни пускает, как животина какая. Так ему, уебышу, и надо.
С тех пор так и пошло. Чуть кто на меня бочку начинает катить, того убиваю. К двадцати двум годам человек шесть уже оформил. Говорю приблизительно, потому что про одного не знаю, до смерти ли, а тот, который идиотом стал, не знаю, считается ли… Иногда я задумываюсь, как бы пошла моя жизнь, если бы тот тип не убил моих петушков и курочку. Или вообще – если бы я в тот день не пошел на ярмарку и не выиграл бы никаких цыплят? Думаю, я был бы нормальный пацан, спокойный. Я портным хотел стать, знаете, таким, которые все что хочешь перешить-заштопать могут, и не видно будет. Но убили моих птиц, одно за другое, и поэтому я здесь сижу.
Бульмаро Peca Леон
Заключенный № 45288-9
Мера наказания: пятьдесят лет за убийство, совершенное неоднократно
Правду говорят: худшая тюрьма – это баба, которая на воле гуляет. Когда знаешь, что у нее там своя жизнь, свобода, а тебе ее не достать, тошно жить становится. Зачем он, дурак, прикипел к этой Марине? Хоть бы она не возвращалась. Хоть бы не позвонила. Хоть бы ей муж запретил в тюрьму ездить. Хоть бы она провалилась совсем. Хоть бы позвонила. Хоть бы вернулась. Хоть бы захотела меня поцеловать. Хоть бы никогда не уходила. Или лучше пусть уходит. Подальше. За тридевять гребаных земель. На выдуманную планету. Тюрьма, да и только: она.
Хосе Куаутемок понимал, что выйдет он ногами вперед прямиком в секционный зал Национального автономного университета, а оттуда в общую могилу. Куча нарубленного мяса, готового стать органическим удобрением. Что толку барахтаться в этом экзистенциальном овраге? Либо поедом себя съешь, либо чокнешься, либо надо учиться или… творить. Хосе Куаутемок выбрал творить и пер на полных парах, пока дорогу ему не перешла краля ростом метр семьдесят шесть с глазами медового цвета.
Мобильник он решил раздобыть на следующий день после того, как Педро заморочил ему голову: «Будет там одна, тебе ой как понравится…» А это ни разу не просто. На зоне даже самый говенный телефон – предмет роскоши. Такой, чтобы чисто звонить и писать эсэмэски. Промышляли ими надзиратели. Загоняли по такой цене, будто телефоны эти брильянтами усыпаны. Целое состояние – ну, по меркам зэков. Двадцать тыщ за китайское пластиковое фуфло, произведенное для стран тридцать третьего мира. Мобильники для крестьян и разнорабочих и вообще для всех, кто стоит на нижней ступени в невидимой системе каст, сложенной неолиберализмом. Интересно, знают китайцы, как их продукт подскакивает в цене в исправительных учреждениях? Так-то они не больше пятнадцати долларов стоят, а тут в пятьдесят раз дороже. Хосе Куаутемоку телефон нужен был как рация, чтобы переговариваться только с Мариной – больше ему и звонить-то было некому. Если не понадобится, продаст, и дело с концом, хвост огурцом.
Первая часть уравнения – купить саму мобилу. Вторая – пользоваться ею в те часы, когда начальство отключает блокировку сети. А чтоб знать, какие это часы, тоже надо дать на лапу. Начальники-то не дураки: они ради лишней денежки расписание все время меняют – то с одиннадцати до двенадцати дня, то с трех до четырех утра, то с восьми до девяти утра опять же. В кошки-мышки играли, чтоб звонившие не расслаблялись.
Хосе Куаутемок был при бабле – заработал, когда сувениры делал в столярной мастерской, их потом в магазины Национального фонда народных промыслов продавали. Купил у охранника и знал, что прятать нужно как можно лучше, а то тот же охранник во время шмона его найдет и перед начальством выслужится, удивленно так спросит: «А это у вас откуда?» Такие в тюряге торгово-денежные отношения. Я тебе продал, я у тебя же забрал и тебе же снова продал.
Засвербело у Хосе Куаутемока, и вот результат: за свою слабость и влюбчивость он теперь привязан к етитскому телефону, ждет, не соизволит ли она ему позвонить. Только этого, бля, и не хватало – еще одних наручников.
На следующий день я вернулась в тюрьму в сопровождении Педро и его службы безопасности. Большую часть пути я молчала. После долгих поцелуев, которые вчера заняли место разговоров, я боялась влюбиться в Хосе Куаутемока, а это все равно что поверить в дьявола, такая же нелепость. Я буду блокировать любые зачатки романтических чувств. Отношения у нас будут яркие, страстные, но без обязательств. Встречаться будем в свободном режиме; я готова все оборвать, как только оно выйдет из-под контроля. Нужно помнить: я ищу эмоций, а не чувств.
Я приняла решение: ездить к нему буду на занятия в мастерской и в дни посещений. Я мечтала заняться с ним любовью, ощутить его огромный вес на себе. Годами я наблюдала тела танцовщиков. Это самые прекрасно сложенные мужчины на свете: четкие мускулы, сила, ловкость, гибкость. Некоторые даже выше Хосе Куаутемока. Но он источал мужественность, у него была аура вожака стаи. Одним своим размером он громко заявлял о себе. И еще он обладал тем, чего многие мои коллеги были лишены: взглядом. Взглядом, способным проникать внутрь черепа, внутрь нейронов, тайн и сметать любое сопротивление. Говоря, Хосе Куаутемок не сводил глаз с собеседника. Он впивался в тебя глазами и не отпускал. Никто из моих знакомых и близко не мог сравниться с ним в сексуальной притягательности.
На входе в этот раз не было таких проблем и препятствий, как когда я приходила одна. Да и заключенные не пялились, как вчера. Власть, конечно, меняет восприятие. Телохранители Педро расчистили нам путь до зала. Там уже ждали заключенные. Хосе Куаутемок тепло поздоровался, отчего я немного успокоилась.
Мастерская прошла как обычно. Хосе Куаутемок вел себя ровно – назовем это так. После вчерашней бездны поцелуев я ожидала, что он попробует снова меня поцеловать или хотя бы дотронуться до руки. Ничего подобного. Он держался приветливо, но на расстоянии.
После занятия он незаметно подошел ко мне. «Завтра?» – спросил он. Я кивнула. На прощание мы пожали друг другу руки. Вышли из аудитории. Я считала, что у меня получается не подавать виду, но Педро спросил: «Влюбляешься уже?» Что я сделала, что он так подумал? Какая часть моего тела, моего взгляда, моего дыхания выдала меня? «Вот еще. А вот ты, похоже, и впрямь скоро в него втрескаешься», – беззаботно сказала я, притворяясь, что мне все равно. Но через несколько шагов я совершила ошибку: бессознательно оглянулась, ища Хосе Куаутемока глазами. Педро заметил и улыбнулся: «Какое там „влюбляешься"! Уже влюбилась по самые уши!» К чему отрицать? Я в самом деле постепенно подсаживалась на Хосе Куаутемока, как никогда и ни на кого раньше.
С женщиной от мужчины уходит куча всего. Блин, даже не перечислить. Мужик в бабе находит покой, порыв, страсть, тишь, приключение, постоянство, безумие, благоразумие, жизнь, а иногда и любовь, а с любовью – смысл, а со смыслом – цель, а с целью – ту же бабу, и вот он уже вертится на этой карусели, а они, бабы, и знать не знают, сколько места занимают в жизни мужиков и как неодолимо желание погрузиться в теплый, мягкий, сладкий мир – в тело и сердце бабы. Поэтому в песнях про любовь часто поется, как ты будто плаваешь, ныряешь, погружаешься, пропитываешься. Бабы – они как аквариумы, бассейны, моря, реки, океаны и даже лужи.
Хосе Куаутемоку сказать бы этой Марине: «Слушай, красавица, ты мне нравишься, с ума сводишь, спать не даешь, я от тебя как яйцо на тефлоновой сковородке. Не ходи сюда больше, а если все же явишься, упертая ты моя, пойми, что, если обещалась позвонить, звони, а не играй, если уж собралась – звони, и трубку не бросай, а главное, не надо вот этого вот «может-позвоню-а-может-и-нет», потому что могла бы понять уже, что мы, зэки, выживаем за счет того, что мы привязаны к тоненьким-претоненьким ниточкам, а если ниточки рвутся, мы распадаемся на такие микроскопические частицы, что потом нас уже не соберешь. Знаешь, Марина, расстрелять бы задним числом того гада, который тюрьмы придумал. Выкинуть живого человека из жизни – что может быть хуже? Разные бывают вещи, а изгнание за решетку – это такая вещь, которая похлеще многих других вещей овеществляет и из человека тоже делает чуть ли не вещь. Вот ведь какая вещь, нелегко быть вещью, и только вещью. Ты можешь выйти из тюрьмы, но тюрьма из тебя никогда не выйдет, а что еще хуже – из всех остальных она тоже никогда не выйдет. Садишься в кутузку, в каталажку, в затвор, и хоть ты там всего пару недель проси дел, она пожизненно с тобой повсюду. В Новой Англии прелюбодейкам на лбу выбивали букву „ГГ, а узникам наколку в самой душе бьют, чтобы никогда не забывали своей преступной природы. Тюрьму не смоешь ни водой, ни мылом. Она не уходит, даже если тебя оправдают. Не уходит, даже если сорок мозгоправов за тебя возьмутся. Не уходит, даже если твоя семья тебя встретит с тортом и шариками и пропоет: „А вот и наш славный парень, а вот и наш славный парень!" Тюрьма никогда не уходит. Тебе всегда дают пожизненное. Или, вы думаете, можно забыть запахи, звуки, страхи, сомнения, неизвестность, драки, холод, жару, круги по двору, угрозы, предупреждения, косые взгляды, розочки, шаги за спиной, крики, приказы, издевательства, унижения, ржавые решетки, обшарпанные стены, фисташковую краску на них, вонь дерьма, жратву, которая воняет дерьмом? Сеньоры и сеньориты, дамы и господа, мальчики и девочки: ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ ИЗ ТЮРЬМЫ, НО ТЮРЬМА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЧЕЛОВЕКА. Точка. Не верьте адвокатам, священникам, судьям, психологам, соцработни-кам, самоотверженным мамашам, счастливым детишкам, заботливым падре, добросовестным работодателям. Тюрьма никогда, никогда, никогда, никогда не выходит. Она остается в нутре, и ее нельзя удалить, как кисту. Ты можешь это понять, Марина? Будь так любезна, сделай усилие и в качестве синаптической тренировки синергетической эмпатии влезь в мою шкуру и подумай, что ты со мной творишь. Пожалей меня немножко, сеньора из Лас-Ломаса, или Сан-Анхеля, или Педрегаля, или Санта-Фе, или откуда тебя там принесло, и не появляйся здесь больше. Если ты уйдешь сейчас, мне будет больно, как только ты уйдешь, безумное желание, чтобы ты была рядом, начнет трескаться, испарится возможность быть вместе, затеряется где-то твоя нагота, которой я так жажду, но я лучше быстро истеку кровью разочарования сейчас, чем высохну потом, когда вся моя жизнь будет завязана на тебе, а ты вдруг исчезнешь. Оставь меня в покое. И вообще всех зэков в этой тюрьме оставь в покое. Не возвращайся со своей толпой балетных красавиц и андрогинных красавцев бередить нам душу, она у нас и так не на месте. Да, от твоих танцев, и твоих девочек, и твоих мальчиков веет ветром свободы, становится легче дышать, но вы уходите, а ваш воздух остается и гниет здесь день ото дня. Ты не представляешь себе, Марина, как он смердит. Проникает к нам в кровь, окисляет ее, и она становится комковатой едкой сывороткой. Вы нас душите. Не возвращайтесь в наши края.
Не рискуй своей удобной благостной жизнью. Не ставь на пару двоек, когда у тебя каре тузов. Там ты уже выиграла. Не приходи сюда, не проигрывай, не строй из себя героиню сериала, которая, желая страсти, или желая приключений, или просто желая, покидает свою замкнутую вселенную, выстроенную вокруг спокойной и крепкой любви между мужчиной и женщиной, любви, о которой можно только мечтать. Глубоко вдохни и сосчитай до десяти, а лучше – до ста, а лучше – до миллиона, прежде чем прийти сюда. Подумай, поразмышляй. И даже когда будешь уже садиться в машину, поверни головку и окинь взглядом все, что ты покидаешь. Поверь мне, я знаю, что говорю. Нет ничего, слышишь, ничего лучше свободы. Вообще ничего.
Марина, если ты готова лишиться свободы или жизни, если хочешь броситься в огонь, тогда приезжай. Я жду тебя здесь, я устрою для тебя место, место для нас двоих, место для возможного, место для невозможного, место для всего. Я покажу тебе лезвие, которое изрубит тебя, и ты возродишься более живой и настоящей. Я сам изрублю себя, и отдамся тебе более живым и настоящим, и отдам тебе все, что у меня есть, и буду целовать твои руки и благодарить тебя за любовь, и ночами буду думать о тебе, и улыбнусь, зная, что ты вернешься, и ты увидишь, как я улыбаюсь при виде тебя, и я обниму тебя и поделюсь лучшим во мне. А если ты попросишь, я кулаками пробью стены и выйду из этой вонючей тюрьмы к тебе. Приходи. Сегодня. Ко мне».
Хосе Куаутемок занимал весь мой мозг, как инвазивная опухоль. Я отвлекалась от повседневных дел. Ни на что не реагировала. Детей сдала няням и шоферам. Витала так высоко в облаках, что даже финансы «Танцедеев» пошатнулись. Не зря говорят: «Под хозяйским глазом и конь жиреет». Я упустила, что зарплату преподавателям задержали. Танцоры пожаловались, что репетиций давно не было. Я попросила Альберто всем этим заняться.
Клаудио не нравилось, что я забросила семейную жизнь. Я соврала, что у меня все силы уходят на проект с Педро и Хулианом: «Это только на время». Я расписывала ему, как важно помогать заключенным выражать себя в искусстве: «Если бы ты сам там оказался, то увидел бы, сколько всего делается». Он вызвался как-нибудь поехать со мной. Я окаменела. До сих пор он, кажется, не видел ничего подозрительного в моих походах в тюрьму. Привык, что меня обычно с головой засасывают разные проекты, решил, наверное, – это очередной. Но если он туда поедет, то в два счета догадается о нас с Хосе Куаутемоком, не потому, что такой проницательный, а потому что трудно не догадаться.
Педро и Хулиан знали про наши тайные встречи. Педро предложил мне бронированный внедорожник, шофера и пару телохранителей, но я отказалась. Я, конечно, дико боялась каждый раз, но предпочитала ездить одна и не привлекать излишнего внимания. Я даже отчасти надеялась, что рано или поздно в пути со мной случится что-то настолько ужасное, что я перестану видеться с Хосе Куаутемоком. Wishful thinking[17]. Если уж я сама не способна унять свои подростковые порывы, обстоятельства сделают это за меня. Изнасилование, нападение, попытка похищения поставят мою голову на место.
С другой стороны, меня воодушевляла история Бийю. Первая среди африканских звезд танца, она едва не пустила свою карьеру под откос ради внебрачного романа с белым мужчиной. Она была замужем за Пьером Сиссоко, лучшим танцовщиком Сенегала, и у них подрастали четыре дочки. В глазах общества – идеальный брак. Их часто приглашали качестве почетных гостей на разные события в странах Африки: они как бы воплощали творческую и артистическую мощь континента. Никто и не думал, что Бийю тайно встречается с Луиджи Дзингаро, римским галеристом, который часто сопровождал ее на гастролях.
Бийю решила развестись, чем привела Пьера в отчаяние. В Африке его почитали не меньше ее, и общественное мнение моментально склонилось на его сторону. Бийю обвинили в предательстве – не только семьи, но и расы. В Сенегале, где раньше ей аплодировали на улицах, ее начали оскорблять, и она потеряла опеку над дочерями.
Тогда они с Луиджи решили перебраться в Танзанию, надеясь, что нападки утихнут. Но они только усилились. Неверность Бийю нанесла пощечину всей черной Африке, не только Сенегалу. Снова оскорбления и выпады. У нее началась депрессия, она заперлась дома и только иногда ездила навестить дочек. Луиджи предложил радикальное решение, и они переехали в Рио-де-Жанейро. Там Бийю принялась заново выстраивать карьеру. Стала искать людей для новой труппы. Лучшие чернокожие танцовщицы Бразилии не желали с ней работать. Мир танца невелик, и их сотрудничество с Бийю могло означать, что в будущем перед ними закроют все двери.
Тогда она решила поступить смело и поехала по всей Бразилии разыскивать новые таланты. И нашла идеальных танцоров среди капоэйристов. В этих потных, черных как уголь мужчинах и женщинах проглядывали самые чистые африканские корни, как будто их только что свели на берег с рабовладельческого судна. Нетронутая глубина.
Бийю обучила их технике танца и поставила сложный спектакль, несомненно самый рискованный в ее биографии. Спустя два года репетиций состоялась премьера в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро. И публике, и критикам постановка пришлась по нраву. Посыпались приглашения из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Рима. Бийю восстановила репутацию и через пять лет вернулась в Сенегал, где ее снова встретили как африканскую богиню танца. И вернулась она рука об руку со своим любимым, Луиджи. Три из четырех дочерей, к тому времени уже подростки, захотели переехать к ней. Наладились отношения и с Пьером. Вскоре он тоже переехал в Рио с младшей дочерью и стал преподавать новым участникам труппы Бийю.
Ее опыт меня вдохновлял. Я буду видеться с Хосе Куауте-моком, пока позволяют обстоятельства, и, как вампир, питаться его кровью, высасывать новые ощущения. Все эти гормоны, адреналин, дрожь, страх подстегнут мою фантазию. Я тешила себя мыслью, что встреча с ним оживит меня настолько, что я круто изменю свое творчество и наконец достигну в нем желанных высот. Но мне хотелось и влюбиться. Вновь разбудить, казалось бы, навсегда угасшие чувства. Целовать кого-то так, будто хочешь в нем затеряться. Закрывать глаза и не слышать постороннего шума. Только наше дыхание. Чувствовать его ласки, жар его тела. А потом выходить на улицу, в полной готовности встретиться с жизнью лицом к лицу.
Я целовала Хосе Куаутемока так, будто мира вокруг не существовало. Не обращала внимания на взгляды надзирателей и шушуканье других заключенных. Каждый раз мы садились за самый дальний столик, и Хосе Куаутемок обнимал меня и гладил. Я тонула в его широкоплечих объятиях. И весь отведенный нам час мы целовались без передышки.
На занятиях в мастерской нам удавалось поговорить. Педро и Хулиан, наши верные сообщники, задерживались после окончания минут на пятнадцать – двадцать, чтобы дать нам пообщаться. Мы садились за парты рядом и болтали об искусстве, политике, экономике. Но чаще всего о литературе. Его увлекали возможности языка, способы повествования, создание характеров.
О своей семье он упоминал очень редко и расплывчато. Иногда рассказывал какую-то историю про них с братом и сестрой, которых – уточнил он – не видел долгие годы. Об отце заговаривал лишь в отдельных случаях, всегда со смешанным чувством восхищения и ненависти. Только раз заикнулся об убийстве: «Ты знаешь, что я убил своего отца?» Я кивнула. «Знаешь, что я его сжег заживо?» Я кивнула. «А знаешь, что я еще двоих убил?» Я кивнула. Он помолчал. «Боишься, что я тебе наврежу?» Я помотала головой. «Доверяй мне», – одобрительно сказал он.
Я рассказала Педро о моих визитах. «Будь осторожна, – предупредил он. – От убийцы можно ожидать чего угодно. Не оставайся с ним наедине». Я не сумела последовать этому совету. Несколько дней спустя Хосе Куаутемок сказал, что нам нужно встретиться в более интимной обстановке. В голове у меня отозвались слова Педро: «Не оставайся с ним наедине». «Зачем?» – спросила я. Он взял меня за подбородок и посмотрел в глаза: «Хочешь заняться со мной любовью?» Конечно, я хотела. Больше всего на свете хотела. «Только куда мы пойдем?» Он сказал, что в тюрьме есть комнатки для супружеских свиданий. Я попросила время на раздумье. «Думай сколько нужно», – ответил он. А потом повторил слова, которые я уже слышала раньше: «И доверяй мне».
Я очень радовался, когда ты возил нас к бабушке с дедушкой. Мы бесконечно тащились по извилистым грунтовым дорогам в горах Пуэблы, но я наслаждался путешествием. Необъятные леса тянулись к чистому, невозможно синему небу. Удивительно, почему на этих плодородных землях так бедствовали люди. Мы с братом и сестрой соревновались, кто первым увидит маленькую оштукатуренную хибарку, где ты вырос. Она возникала крохотной точкой вдали, за очередным поворотом дороги. «Вон домик!» – весело кричали мы.
Зимой бывало ужасно холодно. Невыносимо. Я не знаю, как бабушка с дедушкой это выдерживали. Когда на долину спускался туман, приходилось сбиваться в кучу, чтобы согреться. Даже коз брали в дом, их тоже хорошо было обнимать для тепла. Да и сами они в загоне чуть ли не стучали зубами. В тех краях дети младше четырех лет часто умирали в такую пору – от воспаления легких или от переохлаждения. Выживали только самые крепкие. Сила естественного отбора. Ты остаешься, а ты уходишь. Ты остался, папа, и это, учитывая условия, в которых ты рос, уже большая заслуга. Ну, а бабушкой и дедушкой, которые в свои девяносто с гаком по-прежнему стойко переносили эти заморозки и абсолютную нищету, можно было только восхищаться.