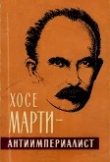Текст книги "Спасти огонь"
Автор книги: Гильермо Арриага
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 44 страниц)
Они приехали прямо на бдение. Желая попрощаться с тобой, бабушка совершила ошибку и приподняла крышку гроба. И увидела бесформенный ком, на котором с трудом угадывались зубы. Моя молчаливая и тихая, как все индианки с гор, бабушка только и смогла, что обернуться и спросить у меня: «Что это такое?» У меня не хватило духу сказать ей: «Это все, что осталось от твоего сына».
На следующий день после похорон таблоиды написали про убийство, и везде на первом плане красовалась крупная фотография Хосе Куаутемока, которого выводили в наручниках из дома. Видимо, какой-то полицейский слил фото, несмотря на строгий запрет со стороны начальников, твоих, кстати, знакомых. Скоро в кругу твоих друзей расползлись слухи не только об ужасной истинной причине твоей смерти, но и о том, как ты над нами измывался. На допросах Хосе Куаутемок подробно рассказал следователям, почему решил тебя поджечь.
Но невзирая на то, что твоя жестокость и твои унижения выплыли наружу, репутация твоя не пострадала. Общественное мнение оказалось непробиваемо. Хочу сказать, что ты можешь быть спокоен: тобой по-прежнему восхищались и признавали твои заслуги. Твой портрет кисти известного художника украсил актовый зал Мексиканского географического и исторического общества. Более того, ученый совет постановил присвоить имя Сеферино Уистлика зданию общества, и еще в твою честь назвали пару школ. Не переживай, твой образ интеллектуала – правдоруба жив и процветает.
Мама вопреки твоей воле заказала девять заупокойных месс Испанская католичка, забитая твоим индейским гневом, ожила в ней. Когда я спросил, почему она так поступила, она разразилась дешевой ламентацией на тему спасения душ и прочими банальностями, которых ты терпеть не мог. Она такая красавица. Как тебе удалось ее заполучить? Ты, скромный выпускник педагогического училища, завоевал не только ее, но и моего деда-расиста. И обзавелся женой – предметом мебели, женой-трофеем, женой-невидимкой. Да, невидимкой. Тенью на стене. Ты пробуждал во мне жгучую ненависть, но к маме я испытывал куда более постыдное чувство: презрение. Я ни разу не слышал, чтобы она высказала самостоятельную мысль, чтобы хоть как-то противилась твоим издевательствам, вообще против чего бы то ни было возражала. Она была вазой, ты засовывал в нее член, и из вазы появлялись дети. Красивой вазой из испанской майолики. Что с того, что она была ласковой и милой, если молча сносила твое обращение? Ты сдувал ее, как ураган. За две минуты источал столько энергии, сколько она не источила за всю жизнь.
Чистый рай – эта деваха, спящая у него на груди. Столько наготы для него одного. Много лет такого не случалось. Всю ночь и все утро лизать, сосать, кусать, целовать, обнимать, ласкать.
Входить и выходить. Выходить и входить. В одну дырку, в другую, в третью. И вся такая свежая, мылом пахнет. Кожа гладкая, без волос. Красота, а не кожа. Он спал, просыпался, притягивал ее к себе, смачивал слюной где надо, всаживал ей, а она ластилась спросонья, сластилась, мурлыкала, ворковала, стонала шепотом: «Сладко… сладко…» Льнула к нему. Груди сплющивались под его грудью, ягодицы помещались у него в ладони. Оргазмы, близость, тишина, ровное дыхание. Хосе Куаутемок знал: это только станция «Рай», а следующая станция будет «Пропасть». Он предал кореша худшим способом: присвоил тело любимой женщины. Но кореш должен понять, что это последняя просьба приговоренного к смерти. Через несколько часов он отправится улицами Акуньи убивать Лапчатого, мелкого-убийцу-предателя-сукиного-сына, а потом вершить справедливость над Галисией, продажным-капитаном-про-клятым-сукиным-сыном. Если бы он не решил убить их, то и не спутался бы никогда с Эсмеральдой. Никогда в жизни. Как бы его к ней ни тянуло. Никогда в жизни. Как бы сильно она ему ни нравилась. Никогда в жизни. Жены друзей – это запретная зона, кроме исключительных случаев вроде неминуемой смерти. Вот как сейчас. Поэтому он не чувствовал вины, кончая в нее раз за разом.
Эсмеральда в какой-то момент так утомилась, что вырубилась. Хосе Куаутемок сидел на краешке постели, смотрел на нее голую, и ничто не закрывало ему обзор. Ничегошеньки. Даже сережек и колец на ней не было. Красивая, зараза. Не зря Машина так на нее запал. Четкая, жженая, со своим уличным ноу-хау. Из тех баб, что знают, какие они красавицы и как их все хотят, и понимают, что продлится это недолго, а пользу может принести немалую. Эсмеральде удалось устроить стабильную личную жизнь с нарко среднего звена и не завидовать шустрым бабенкам, отхватившим себе больших шишек. Вкус у нее отвратный, это, конечно, минус. Окультурить бы ее не помешало. Зато не страдает неизлечимыми пороками, нету в ней дурости, блядства, продажности и охоты зазря душу мужику мотать.
Хосе Куаутемок провел руками по круглым ягодицам женщины, с которой только что трахался. И подумал: вот она, нирвана. Запустил палец поглубже и вытащил. Палец был мокрый от вагинальных соков и его собственной спермы. Понюхал. Все запахи мира в одном. Все тайны природы в одном запахе. Все загадки вселенной, вся эволюция видов, вся неистовость творения в одном запахе. Облизал. Горько-сладко-солено-кислый вкус жизни. Нирвана.
Солнце только встало, а от жары уже асфальт плавился. Кондиционер начинал проигрывать битву. Из-под двери врывались горячие потоки воздуха. Занималось жгучее утро. Хосе Куаутемок поднялся и голышом пошел к холодильнику. Пошарил: ветчина, сыр, авокадо, пиво, кока-кола, яйца, фарш. Неплохи дела у скромного нарко. Прямо средний класс. Ни образования, ни наследства, ни связей – настоящий селф-мейд-киллер.
Хосе Куаутемок сделал себе сэндвич и, как в легенде про влюбленные вулканы Попокатепетль и Истаксиуатль, уселся подле спящей подруги. Скоро она тоже уедет отсюда. «Самые Другие» заняли город и теперь будут отстреливать «Киносов» и их родственников до последнего. «Самые Другие» сметают конкурентов не глядя. Поэтому она и пошла на измену. Апокалипсис для «Киносов» начался ровно в ту секунду, когда Лапчатый спустил курок и снес башку дону Хоакину. Все равно конца не миновать, так почему не потешить тело, не уступить искушению? Знакомый ей мир вот-вот рухнет. Изгнание будет долгим и трудным. Скоро пойдут слухи, что, мол, жена Машины выспрашивала там и сям про Лапчатого и про Галисию. Она достаточно пообтесалась на здешних улицах, чтобы понимать: не сегодня завтра ей объявят наркофетву.
Хосе Куаутемок доел сэндвич. Стряхнул крошки с покрывала и пошел мыться. Кто знает, когда его теперь ждет горячий душ. И когда он опять увидит голую женщину. Пластиковый козырек над крыльцом щелкал от зноя. Потолок звенел от зноя. Окна трещали от зноя. Весь мир, вся вселенная чуть не лопались от зноя.
Он вылез из душа и вытерся полотенцем, которым накануне вытиралась Эсмеральда. От полотенца до сих пор пахло ею. Он оделся и снова присел на кровать, обозрел прекрасный пейзаж спящей женщины. Поцеловал ее в плечо. Прошептал: «Увидимся, Эсмеральда». Она не пошевелилась, глубоко спала, усталая. Он наклонился над ее ягодицами, раздвинул их, погрузил нос в темный эдем, втянул ноздрями запах. Нирвана.
Взял с тумбочки револьвер, шесть патронов зарядил в барабан, оставшиеся четыре спрятал в левый карман брюк. Засунул ствол за пояс и пошел к двери.
Последний день
Наступил тот самый день. Я проснулся, ополоснул лицо и побрился. Долго выбирал, что надеть, может, это будет последняя моя одежа в этой жизни. Выбрал джинсы, черную футболку и кроссовки. В чем я с ней познакомился. Съел на завтрак болтунью, выпил растворимого кофе. На этом самом столе я ее пялил. И на этом стуле, и на этом диване, и на этой кровати. Достал из ящика пистолет и засунул за пояс. Мне его мой кум Рыжий подогнал. Он знал зачем. Я пешком дошел до проспекта и сел на маршрутку. Внимательно на все смотрел, пока ехал. На машины, на магазины, на людей, на собак. Старался запомнить мир на тот случай, если это последний день в моей жизни. Вышел у базарчика. Раз уж неизвестно, буду жив или нет, решил напоследок съесть кесадилью с мозгами в забегаловке у Сивой. Съел три, запил кока-колой и пошел по ее душу. Я знал, что она там, у лотка, вместе с этим уродом. У лотка, который они вдвоем у меня украли. У лотка, где работали мои родители, а потом работал я. Туда я и направился. Как подошел поближе, перекрестился. Попросил Боженьку, чтобы дал мне сил не струхнуть, и он услышал: я как пустился, так все мне стало нипочем. Подошел прямо к ней. Она, когда меня увидела, испугалась, будто я из мертвых воскрес и ей явился. Даже крикнуть не успела. У меня уже пистолет в руке был. Засадил ей пулю прямо в лоб. До сих пор помню, какие у нее стали удивленные глаза. Она упала назад и повалила все пиратские диски на землю. А урод этот хотел уйти, но я ему в пузо попал. Он согнулся. Я еще дважды выстрелил. В ногу и в шею. Он упал и начал чего-то там клокотать горлом. Слова с кровью мешались. Я хотел сказать: будешь знать, как чужих жен уводить. Но потом не стал, просто добил его в нос. Думал самому застрелиться, и дело с концом. Все равно уже решил, что это будет мой последний день. Но нет. По правде, я был рад, что их порешил. Приятно было видеть, как они там валяются, будто свиньи. Другие продавцы меня схватили и повалили на землю. Связали по рукам и ногам ремнями и агавовыми веревками. Потом полиция приехала. Посадили меня в машину и привезли в изолятор. Потом суд, приговор и сюда, в кутузку. И сидеть мне здесь, пока не помру. Вы, может, думаете, что я в тюрьме раскаялся. Ничего подобного. У меня совесть спокойна. Они там, где им положено быть, а я там, где я есть. Они мертвые, а я живой. Не выйду так не выйду. Я человек чести, а честь – штука недешевая. А станет скучно сидеть, повешусь, и всего, делов. Вообще-то мне нравится, что я жив, а они сдохли. Я могу дышать, спать, есть, смеяться. А они нет, и так им и надо.
Мисаэль Абелино Сьерра Гонсалес
Заключенный № 40720-9
Мера наказания: сорок лет за убийство
Мы начали репетировать «Рождение мертвых». Половина труппы не успела поучаствовать в первых – они же последние – публичных показах. Новеньким не терпелось досконально разобраться в движениях и сценографии. Я решила отказаться от раздевания, но по-прежнему считала, что без крови нам не обойтись. Элемент, конечно, крайне провокационный в тюремных условиях, но не буду же я жертвовать всей постановкой, лишь бы никого не оскорбить.
Энтузиазм рос с каждой репетицией. Танцы – они как животные: обладают собственной жизнью и иногда уходят в неожиданных направлениях. Ты можешь сколько угодно воображать, будто все контролируешь, но в конце концов хореография тебя одолевает. Магический эффект более заметен, когда в танце много участников. В этом и состоит красота танца: он питается энергией, интуицией, порывами каждого танцора. Хореография по-разному дышит в зависимости оттого, кто ее исполняет. Новенькие балерины добавили свежести нашему номеру. Он стал более органичным, усилилось ощущение текучести на всем протяжении танца. Предыдущая версия была не такой плавной и ритмичной. А теперь прибавилось гармонии и пластики.
Однажды в зале появилась Мерседес. Она пришла без предупреждения, в середине репетиции. Мы застыли, смутившись ее присутствием. «Здравствуй, Мерседес», – сказала я, стараясь не выдать волнения. «Здравствуй, – ответила она, подошла и поцеловала меня в щеку. – Можно я останусь посмотрю?»
Я не могла отказать. Она вела себя неизменно вежливо, не отворачивалась от труппы. «Конечно, будем рады». Мерседес тихонько села в уголке и стала наблюдать.
Дотанцевав, мы услышали всхлипывания. Мерседес плакала. Я попыталась ее обнять, но она не дала, выставила вперед руку. Плакала, пока не выплакалась. Я протянула ей бумажный платок, она высморкалась. «Как ты?» – спросила я. Она утерла слезы тыльной стороной ладони и глубоко вздохнула. «Спасибо», – выговорила она. «За что спасибо?» – «За то, что не позволила мне пойти в тюрьму», – сдавленно произнесла Мерседес. Снова подступили слезы. Двумя пальцами она нажала на переносицу, как будто это движение могло остановить поток слез. Но они полились сквозь пальцы. «Я бы сошла с ума, – сказала она, преодолевая икоту. – Я и так схожу с ума». Я попросила остальных выйти и обняла ее. На этот раз она не отстранилась. Положила голову мне на плечо и разрыдалась.
Я проводила Мерседес до машины. Она открыла дверцу. Попыталась изобразить улыбку. «Я не вернусь в, Танцедеи“», – сказала она. «Решай сама, как лучше для тебя, – ответила я.
И помни, что здесь тебе всегда рады». Мы обнялись. Она села в машину, завелась и рванула с места.
Выйти от Эсмеральды в десять часов утра значило нарваться на сплетни. Все равно что пнуть корзину со змеями. Стоит только зародиться одному-единственному слуху о том, что он входил в дом к Машине, и разразится война. Машина посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы повесить усушенную башку Хосе Куаутемока в зале славы своего гребаного бесславия. Чистая шекспировская трагедия: два практически брата враждуют не на жизнь, а на смерть.
Чтобы не пересечься с шиномонтажником, который чинил колесо трактора напротив дома Эсмеральды, с продавщицей тако на углу, с мужиками, работавшими на соседней стройке, с двумя тучными сеньорами, которые имели обыкновение присаживаться на тротуаре и перемывать косточки соседям, Хосе Куаутемок решил уйти крышами. Он поднялся по винтовой лестнице из прачечного дворика, проверил, нет ли кого на смежных крышах, и двинул вперед, петляя между цистернами и параболическими антеннами. Спустился в гад, где не наблюдалось собак, и попал на улицу в трехстах метрах от жилища Эсмеральды.
Дошел до своего пикапа. Открыл дверцу и чуть не упал от хлынувшего изнутри жара. Северомексиканская сауна, две по цене одной. Сел. Пластиковые панели почти кипели. К рулю не притронуться. Включил кондиционер. Пока система охлаждалась, из воздуховодов несся горячий пыльный ветерок. От жары Хосе Куаутемок совсем осоловел. Вот оно, проклятие северного лета: тагоны. Так называются волны жара, идущие от земли. От них будто заживо варишься. Он открыл окна, чтобы кондиционером продуло вонь жженого винила. Блин, непросто будет завалить кого-то в таком густом утреннем зное, когда кругом сплошные миражи, глаза заливает потом, а свет с синего безоблачного неба так и слепит. Нужно купить темные очки. Не щуриться же на солнце – как-то это не подобает киллеру.
Наконец стало попрохладнее. Он поднял стекла – так жара останется снаружи, а холод внутри. Липкий пот, не дававший нормально двигаться, высох, и Хосе Куаутемок смог взяться за руль. Зачем вообще убивать двух типов, которые лично ему ничего не сделали? Живы Галисия и Лапчатый или мертвы – в его жизни ничего не изменится. Вот отправит он их в сабвей ту хелл – и что? Вынужден будет годами скрываться. Нет, ну правда, чего их мочить? Он чуть было не повернул к югу и не собрался ехать, пока на шоссе не появится плакат «Добро пожаловать в Мехико!», но тут в нем засвербело желание убивать. По вине этих двух идиотов он лишился своего оазиса. Они не заслуживают жизни.
Он поехал налево, туда, где, по словам Эсмеральды, жил Лапчатый. Описала она его приблизительно. С виду лет девятнадцать. Худосочный, мордаха детская, крашеный блондин, не высокий, не низкий. Голос писклявый, но, с тех пор как порешил дона Хоакина, с командирскими нотками, типа, «я тут главный по шкваркам». Совершеннолетний; значит, можно без угрызений совести всадить ему между глаз. Кто со стволом играет, от пули умирает.
Достать его будет либо трудно, либо легко. Трудно, если он бродит заодно с хитрожопыми «Самыми Другими». Подобраться близко, когда радом еще четыре-пять вооруженных бугаев, – это не жук чихнул. Ну а если мелкого засранца наградили за смерть дона отпуском и теперь он просто разъезжает по округе на своем новом «Форде 350 Лариате», – тогда как два пальца обоссать. Выследить машину и подстрелить водилу.
Он подъехал к дому Лапчатого. Повезло: «лариат» стоял прямо у входа. Он припарковался метрах в тридцати, у перекрестка, откуда просматривался весь квартал. Нужно запастись терпением. Может, Лапчатый появится через десять минут, а может, через две недели. Может, он днем спит, а ночью гуляет, а может, встает на работу с петухами. Тут уж не угадаешь. Остается только куковать в ожидании решающего момента.
Глушить мотор он не стал, чтобы кондиционер работал. Машина стояла в тени акации, но солнце все равно так жарило по кузову, что и климат-контроль не особо спасал. Бродячий кот отважился перебежать улицу и обжег лапы о брусчатку. Заскакал, как на батуте, стараясь спастись от раскаленной поверхности. Чуть не сварился там. Проехала машина с колонками, рекламируя однодневную распродажу хрен знает чего хрен знает где. Интонациями тот, кто нес запредельную белиберду в матюгальник, напоминал мычащую телку.
Час, два, три. Бензина все меньше, кондиционер холодит все хуже. Если останется меньше четверти, придется отменять миссию и ехать заправляться. Валить людей на пустой бак не отвечает официальным мексиканским стандартам киллерской техники безопасности. Хосе Куаутемок прождал еще пятьдесят минут. Он чуть было не захрапел, но тут из дома вышли двое. Один точно был Лапчатый. Во-первых, тощий и сутулый, как говорила Эсмеральда; во-вторых, ножищи огромные, не меньше четырнадцатого гринговского размера. Как ботинки у клоуна. Второй, наверное, был младший брат, пацаненок лет двенадцати, похож на Лапчатого. Хосе Куаутемок поразился, какое у Лапчатого ангельское личико, хоть в алтарь ставь. Милые детские черты. Поэтому кажется, что он младше своего возраста. Но Хосе Куаутемок разной фауны в тюрьме насмотрелся и стал экспертом по уголовным рожам: у этого, например, точно тень зла на лице присутствует.
Они подошли к машине. Раздался сигнал – разблокировали дверцы дистанционным ключом. Пора действовать. Хосе Куаутемок вышел из пикапа и решительно зашагал к ним. «День добрый», – поздоровался он. Оба насторожились и пристально уставились на него. У обоих за поясом торчали пистолеты. «Не знаете, где тут пива купить? – спросил Хосе Куаутемок. – Чего-то ездил-ездил, а магаза так и не нашел». Младший махнул рукой вправо: «Через три квартала завернете налево, и там на углу „Оксо“». Хосе Куаутемок поблагодарил и повернулся к Лапчатому: «Время не подскажешь?» Лапчатый поднял левую руку и принялся разбирать время на своем фальшивом, как банкнота в два песо и двадцать два сентаво, «Ролексе». Хосе Куаутемок выхватил револьвер и прицелился ему между глаз. Младший брат все еще соображал, правильно ли рассказал дорогу до «Оксо», и даже не заметил, что старшего вот-вот порешат. Лапчатый поднял взгляд, открыл рот, собираясь сказать, который час, и тут прогремел выстрел.
Позвонил Педро: «Выбрали дату для спектакля». Я так обрадовалась, словно нас пригласили выступить во Дворце изящных искусств. Педро и Хулиан старались нести культуру в тюрьмы, вернуть заключенным хоть немного человеческого достоинства. Это была очень смелая инициатива, в особенности со стороны Педро, открытого гомосексуала. В Восточной тюрьме сидело несколько агрессивных гомофобов, которые не просто убивали геев, а еще и изобретательно пытали их перед смертью. В каком бешенстве пребывал, например, Леобардо Рейес, когда на куски разрезал еще живого Игнасио Сантаскоя? Это же кошмар за гранью вообразимого. Запредельная жестокость.
Но Хулиан и Педро обращались с Леобардо точно так же, как с остальными учениками их литературной мастерской. «Я думал, у меня кровь закипит при виде него, – рассказывал Педро, – а он оказался застенчивым, учтивым мужчиной, никакой не зверь, как я себе вообразил».
Выступление назначили на двенадцатое августа (я осталась очень довольна, потому что это был папин день рождения). Редко когда будущее выступление вызывало у труппы столько восторгов и столько конфликтов одновременно. Мы лишились двух важных членов коллектива, но обрели единство, сплоченность, творческую энергию и, главное, взаимовыручку. Я приняла радикальное решение: поменяла музыку. Раньше мы танцевали под произведение Халифы, знаменитого ливанского композитора, но хореография изменилась, и теперь его мелодии нам не подходили. Люсьен попросил послать ему видео с репетиции, чтобы он мог найти что-нибудь подходящее. Через два дня он написал, и мы договорились встретиться в скайпе. Я чуть не упала, когда в окошечке на экране рядом с Люсьеном появился Кристиан Йост, один из величайших композиторов современности. Кристиан видел репетицию и предложил написать оригинальную музыку к нашему танцу.
Я не верила своим ушам. Осторожно спросила про гонорар. Кристиан ответил, что сочтет за честь поучаствовать безвозмездно.
Две недели спустя он прислал музыку. Она была глубокой, но дерзкой и свежей, ничего общего со строгой академической работой Халифы. Неоценимый вклад. В знак признательности за такой щедрый жест я пригласила Кристиана приехать из Франкфурта на наше выступление. Он обещал, что постарается, хотя у него на носу премьера оперы и неизвестно, получится ли.
На генеральную репетицию я привела своих детей. Хотела видеть, как они отреагируют на мою работу. Понять, выдержат ли в свои девять, семь и шесть лет полуторачасовой балет без театрального освещения, без ярких костюмов и спецэффектов. Подвергнуть их чистой хореографии. Танцуя, я не спускала с них глаз. Им, кажется, вовсе не было скучно, они смотрели как завороженные. Только Даниела иногда отвлекалась. В финале все трое захлопали. Я спросила, что они думают о танце. Клаудия сказала – «интересный», Мариано – «красивый», а Даниела – «смешной». Наивно было полагать, что я услышу от них объективную оценку. Больше всего их заинтересовало количество татуировок у танцовщиков и танцовщиц. Во времена моего отца наколки были только у моряков и зэков. Почему они вошли в моду у обеспеченной молодежи? Хулиан имел соображения на этот счет: «Средний и высший класс живут сегодня в такой безопасности, их существование так всесторонне контролируется, что у них не бывает шрамов. Вместо шрамов они наносят татуировки. По той же причине новая одежда, которую они покупают, похожа на рванину, искусственно состарена, как будто в ней годами тяжело трудились. Этим поколениям не хватает ран, ударов, улицы». И ведь он был прав. Все эти драные, заплатанные вещи с фальшивыми пятнами масла или краски. Шмотки механиков и работяг в гардеробе ухоженных молодых людей, которых у дверей дожидается шофер и которых пускают в самые эксклюзивные заведения. Шрамы от несуществующих ран на коже и ткани.
Альберто съездил в тюрьму за неделю до спектакля вместе с техническим персоналом, чтобы определить, как расставить свет и декорации. Работа осложнилась тем, что им не разрешили пронести внутрь инструменты. Как они ни старались убедить охрану, что у них специальное оборудование, пришлось довольствоваться теми приспособлениями, что им выдали в тюрьме, довольно примитивными и ржавыми. Мне не терпелось узнать, какое у Альберто осталось впечатление от поездки. «Сильное, – сказал он. – Как побывать на другой планете». Я спросила, было ли ему страшно за свою неприкосновенность. «Да пес с ней, с неприкосновенностью, мне было страшно за мой рассудок». В особенности его поразили взгляды заключенных: «Они изучают тебя в упор. Следят. И не догадаешься, о чем они думают. Большинство выглядят как побитые псы, но смотришь на них и даже не сомневаешься, что они способны в два счета выгрызть тебе внутренности».
Пять раз в неделю, с понедельника по пятницу, ты заставлял нас проплывать три километра. Хосе Куаутемоку едва исполнилось десять лет, мне было тринадцать. Ты записал нас в школу плавания при Олимпийском бассейне и потребовал от тренеров строго следить за выполнением твоего норматива: три километра. Ты хоть представляешь, что значит для ребенка изо дня в день шестьдесят раз подряд проплывать бассейн? Вместо того, чтобы играть с друзьями на улице, мы блюли твой спартанский режим. «Не хочу, чтобы у вас оставались силы думать о дурных привычках». О каких дурных привычках? Мы были маленькие. О чем ты вообще толковал? «Самые высокие жизненные идеалы, – разглагольствовал ты, – выковываются ежедневной дисциплиной».
После плавания мы должны были возвращаться домой пешком. Шесть тысяч двести семьдесят четыре шага отделяли Олимпийский бассейн от нашего квартала Унидад-Модело. Денег ты нам не давал, чтобы мы не садились на 73-й автобус, маршрут «Попо-Сур», у которого была остановка на другой стороне проспекта Рио-Чурубуско, в двух кварталах от нашего дома. В отличие от мамы, тебя не волновало, что нас может сбить машина, что на нас могут напасть, что мы можем заблудиться. «Улица им на пользу пойдет», – провозглашал ты. С четырех дня до семи вечера мы тренировались в бассейне, а с семи до половины девятого добирались домой. «Я босой ходил в школу за много километров, с рюкзаком, который едва мог поднять – столько там было учебников, и не ныл, и не сдавался. И дорога у меня была не ровная, как у вас. Сплошные склоны, вверх-вниз. И под дождем ходил, и от жажды умирал, а ходил. И голодал. Вечером приползал, и доставались мне две жалкие тортильи с жареным кактусом. Так что попробуйте мне только пикнуть – по губам получите».
Ты был прав. Как мы могли жаловаться после того, что тебе пришлось вытерпеть в детстве? Мы за день съедали столько, сколько ты и за год не видел: яйца, молоко, какао, мясо, хлеб, сыр, курица, овощи, салаты. Диета на основе белка, чтобы накачать мышцы, кальций для роста и витамины для здорового развития. «От плавания они вытянутся, – сученым видом уверял ты маму, – очень высокие будут». Тебе не давал покоя малый рост твоей расы. Ты винил во всем плохое питание и приводил в пример некоторых игроков в американский футбол, мексиканцев родом из Оахаки, переехавших в США. Их родители были совсем низенькие, а сыновья вымахали по метру девяносто пять, «а все благодаря питательному рациону и физкультуре». Отправив нас на плавание, ты убивал двух зайцев: не дать нам забить себе голову дурными мыслями и вытянуть нас.
В Олимпийском бассейне мы утопили свое детство. Мы плавали годами напролет, без каникул, без перерывов. После плавания мы должны были приготовить все уроки, даже если валились с ног от усталости. Иногда засыпали прямо над тетрадями от переутомления. Заботливая милая мама ласково будила нас. Она боялась, что ты застанешь нас спящими, поэтому спешила опередить тебя.
Твоя плавательная стратегия – с удовольствием признаю это – принесла плоды. Пока мы гребли и гребли, у нас не оставалось времени на пороки. Мы с братом никогда не пили и не баловались наркотиками, в отличие от Ситлалли, которая не в состоянии взаимодействовать с внешним миром, не приняв по крайней мере четыре порции виски. Имы действительно вытянулись, еще как. Я до метра восьмидесяти восьми, брат до метра девяноста. Ты гордо похлопывал нас по спине и приговаривал: «Добились мы своего». И мы, твои маленькие Франкенштейны, улыбались и смотрели на тебя сверху вниз. Образцовые спортсмены. Широкие спины, выпуклые бицепсы, объемистые трицепсы, мощные ноги. И примерные ученики, каждый – первый в своем классе. Не столько из прилежания, сколько из дикого страха.
Четверка означала розги. «Лучше колы носите, чем эти посредственные четверки!» – орал ты. Но за кол нам тоже доставалась взбучка. Ты насильно сделал нас первыми учениками. Мы могли без запинки назвать столицы всех стран. Умели извлекать квадратные корни в уме. Наизусть перечислять все элементы периодической таблицы с обозначениями. Помнили даты правления всех ацтекских тлатоани, вице-королей и президентов Мексики. Разбирались в философии, истории, географии. Ты обожал, когда твои друзья задавали нам каверзные вопросы, а мы отвечали без ошибок. «Столица Тайваня?» – «Тайбэй». «Когда был у власти Мануэль Пенья-и-Пенья?» – «Дважды временно занимал пост президента: с 16 сентября по 13 ноября 1847 года и с 8 января по 2 июня 1848 года». «В каком году Кант опубликовал „Критику чистого разума “?» – «Первое издание в 1781 году, второе, исправленное, в 1787-м». Мы были бездонными ларцами, полными разных сведений, цирковыми обезьянками, натасканными на потеху твоим друзьям. Эрудированными, прилежными, здоровыми подростками, которых, как ты считал, ждут великие дела, подвиги тела и духа. На самом деле ты сломал нам жизнь. Да, я стал успешным бизнесменом, но я не способен к человеческому общению. У меня нет жены, нет детей, нет друзей. А брат с сестрой – и вовсе сплошное разочарование. Сестра – хроническая алкоголичка, которой повезло подцепить приличного мужчину, терпящего ее запои и измены. А про Хосе Куаутемока и говорить нечего.
Лапчатый упал на спину, не издав ни звука. Младший брат окаменел от ужаса. Хосе Куаутемок навел револьвер на его лицо: «Медленно достань пистолет и брось на землю». Мальчонка-я-играю-в-киллера-но-ссусь-от-страха будто не слышал. Люди начали выглядывать из окон. Хосе Куаутемок понял, что действовать нужно быстро. Наверняка многие из «Самых Других» живут неподалеку и скоро заявятся по его душу с автоматами. «Бросай пушку». Пацаненок отмер, когда темный металлический цилиндр ока зался совсем близко от его глаз. Он поднес трясущуюся руку к поясу, вы пул пистолет, точнее, револьвер, медленно нагнулся и, стараясь не попасть в растекающуюся лужу крови, положил на брусчатку. Брат успел научить его, что оружие при падении может зазубриться, и не хватало еще, чтобы ствол выщербинами пошел. Хосе Куаутемок от такой аккуратности со стороны сопляка-киллера-ссусь-от-страха занервничал и чуть не устроил ему инвазивную лоботомию лобной доли мозга. Но немного успокоился, когда парень все-таки оставил ствол на земле и поднял руки. Он подобрал револьвер, забрал беретту Лапчатого и бросился к пикапу. Взвизгнул шинами. Вовремя смотался, потому что на районе действительно проживало несколько уродов из «Самых Других», которые, заслышав выстрел, вооружились и выбежали посмотреть, что происходит.
Все произошло так молниеносно, что убийцу никто не запомнил. Младший брат вообще ничего не отдуплял после того момента, как вышел к машине. «Переклинило провода», – сказал один из уродов. При убийстве малой будто бы и не присутствовал. Не видел, как в брата пальнули, не видел, как этот шкаф направил дуло ему самому прямо в рожу. Вообще ничегошеньки. Вернулся с луны только полчаса спустя, когда Лапчатого уже прикрыли простыней, а вокруг собралась целая уйма бандитов, дружно клявшихся отомстить и расчленить убийцу.