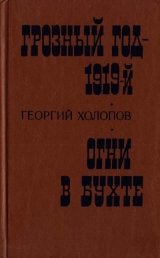
Текст книги "Грозный год - 1919-й. Огни в бухте"
Автор книги: Георгий Холопов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)
Акоп Агабабов побагровел и закричал на братьев:
– Чего, ишаки, вы все смеетесь? Что тут смешного?
– Да все смешно, – нехотя ответил Давид.
– Ну, например?
– Все, братец. Не горячись. Побереги свое здоровье.
Акоп Агабабов обратился к Савве Ионову:
– Что же ты в конце концов нам предлагаешь?
– Слабонервным – уехать куда-нибудь из Астрахани, до лучших времен; кое-кому скрыться в самом городе; кое-кому временно перебраться под Астрахань. Например, вам, мистер Хоу, и вам, мистер Чейс, – обернулся к ним Ионов с улыбкой. – Мне кажется, что мистеру Чейсу придется повременить с «холодильниками»… Полезно и вам уехать, Акоп Григорьевич. Уж слишком вы заметная фигура в городе.
– И это ты говоришь мне? – вскочил Агабабов. – Мне уехать и оставить им промыслы, заводы, все состояние?.. А не пора ли нам снова взяться за оружие?.. Денег на это дело я не пожалею, господа! Что на этот счет думает мистер Чейс? Спросите его, мистер Хоу.
– Он говорит, что свое мнение выскажет несколько позже, – ответил Хоу. – Мне же кажется, господа, что если в третий раз браться за оружие, то не выпускать его из рук! До победы!
– Временно надо смириться, выждать! – сказал Савва Ионов.
– Почему смириться? Сколько еще ждать? Целый год уже хозяйничают Советы, – взмолился Акоп Агабабов. – Ведь скоро весна, Савва Калистратович, пора готовиться к путине. Как же смириться?
– И все равно надо смириться, – не глядя на Агабабова, продолжал Ионов. – Надо дождаться подходящего и на этот раз верного случая.
– Хорошо тебе говорить: смириться! – горько усмехнулся Агабабов. – Ты от этого ничего не теряешь, а я… мы все, сидящие здесь… теряем миллионы. Понимаешь? Мил-ли-о-ны! Только весной и идет рыба косяками, тогда и богатеет наш брат – рыбник. Ты же это знаешь не хуже меня!.. Да!.. – покачал головой и тяжело вздохнул он. – От твоих слов, Савва Калистратович, Григорий Агабабов, наверное, уже перевернулся в гробу. – Хромой Акоп подошел к портрету отца, сказал по-армянски: – Апер, лисумес инче асум ес гижи?* – Потом обернулся к Ионову – тот смотрел на него слегка прищурившись. – Ты знаешь, какой у меня был отец и как он берег каждую копейку?
____________________
* Отец, слышишь, что говорит этот глупец? (Арм.)
– Об этом давно и все знают, – сказал Давид.
– Да и я не раз слышал, – признался Ионов.
– Хорошо! Черт с вами, что вы все знаете, – горячился Акоп Агабабов. – А вот мистер Чейс, наверное, не знает. – Он подошел к американцу. – У вас в Америке, думается мне, таких вещей не бывает. Я вам расскажу историю моего горба. Мистер Хоу, переведите! – обратился он к вице-консулу.
Тот подмигнул:
– Рассказывайте. Мистер Чейс великолепно поймет вас и без моей помощи.
– Тем лучше, – обрадовался Акоп Агабабов. – Так вот, мистер Чейс, слушайте. Когда мне было двенадцать лет, я на даче упал с дерева и сломал ногу. Меня лечили разные доктора, но безуспешно. Хотели даже отрезать ногу, но мать, царствие ей небесное, не согласилась и повезла меня в степь к знахарке. И та не только вылечила, но и сохранила мне ногу, хотя, правда, хромота все же осталась. Когда я уже стал ходить без костылей, отец позвал меня к себе и сказал: «Вот тебе, Акоп, пять копеек, пойди на базар и купи петуха. Надо сделать матах, раздать нищим. Смотри только не переплати и принеси сдачу»… Матах – это жертвоприношение у нас, армян. Когда армянина минует несчастье, он делает матах. Да, так вот слушайте! Беру я пятачок и иду на Татарский базар. Петухов там – сотни. Ну, я выбрал самого большого красавца петуха, заплатил за него пять копеек и прибежал домой. «Вот, отец, купил». – «Хороший петух!» – похвалил он. «Самый лучший!» – говорю. «А сколько ты за него заплатил?» – «Пять копеек». – «Все пять копеек?» – вскакивает с места отец. «Все пять копеек», – говорю я. Отец у меня был старик горячий и злой. Он схватил палку и ударил меня по спине. Видите, мистер Чейс, горб у меня? Это от того удара…
– Но я не понять, почему вас ударил отец?
– Отец сказал: «Цена этому петуху четыре копейки, а ты, дурак, польстился его красотой и заплатил пять!» За копейку ударил, мистер Чейс, за копейку! Переплатил копейку – вот и ударил, – чуть ли не со слезами на глазах закончил свой рассказ Акоп Агабабов.
– О, у вас был великий отец! – подняв палец, многозначительно сказал американец. – Он мог стать богатый человек и у нас Америка.
– Ему и здесь хватало богатства, – не без гордости ответил Агабабов. – Как видите, он и нам оставил солидное состояние. – Хромой Акоп обернулся к Ионову: – А ты, Савва Калистратович, говоришь – смириться! Как же смириться, когда пропадают миллионы? Не копейки!
– Я все хорошо понимаю, да и сам знаю деньгам цену, но временно смириться все равно надо, – сказал Ионов.
– А я не смирюсь! – ударил себя в грудь Акоп Агабабов. – Мы все не смиримся! Все! – выкрикнул он. – Промыслы наши, и мы за них горло всем перегрызем! Понимаешь?.. Горло! Как волки!..
– И все равно надо смириться. Выждать, – невозмутимо и спокойно отпарировал Савва Ионов, вставая.
Агабабов беспомощно опустил руки, посмотрел на портрет отца и тихо сказал:
– Апер, лисумес инче асум ес ахмахы?*
____________________
* Отец, слышишь, что говорит этот дурак? (Арм.)
Тот смотрел с портрета хищным орлиным взглядом, точно готовый выскочить из золоченой рамы и схватить Ионова за горло…
– Если вам будет интересно, господа, тогда я скажу, что думать о вашей Астрахань, – сказал мистер Чейс. – Я человек здесь новый и еще плохо знаю ваш старый и красивый город. Но, как правильно говорит русский человек, со стороны всегда все хорошо видно. Я думать, командир вашего полка дает вам хороший совет. Вам надо ждать! Собирать силы и ждать! Ждать удобный случай!.. Такой случай может получиться в один хороший момент… В городе нет хлеба… Это, конечно, очень и очень нехорошо… Бедные дети, женщины и старики, что они могут кушать?.. Как мне сказал мистер Хоу, на складах можно видеть пять вагонов мука. Это может хватить на пять дней. Каждому человеку – вот такой кусочек хлеба… Как будет дело с хлебом потом – ничего не известно, господа. Но красивых иллюзий не будем мечтать. Дорога плохая, паровозов нет, уголь тоже нет… Потом будут большевики Саратова думать о горожанах Астрахани – тоже большой секрет! Но хорошо, будем думать, что немного мука пришлют Астрахань. Ваш город имеет контакт с Центром только железной дорогой… Между прочим, господа, если бы вы были практик и немножко смотрели вперед, эту дорогу надо было давно взорвать! Совсем маленький отряд, три – пять человек, прилетел, взорвал и улетел в степь!.. Ищи потом, как говорит русский человек, ветер в поле. Но это между прочим, господа, между прочим… Будем думать, что немного мука пришлют из Саратова. Но в город из степи придет Одиннадцатая армия. Солдату надо кушать. Советы хлеб отдадут солдату. Это будет очень правдоподобно. Тогда горожанин останется совсем без хлеба. – Мистер Чейс поднял палец и пророчески изрек: – Вот тогда, господа, вы горожанину даете ружье и патроны и говорите: «Долой большевиков, долой Советы»…
Если и не всех, то многих советы командира Н-ского полка в эту ночь все же кое в чем убедили.
На другой же день стали готовиться к побегу за границу два брата Агабабовых – Давид и Артемий. Они захватили триста тысяч рублей денег, выкрали у брата Акопа все драгоценности из сейфа и, запасшись рекомендательными письмами мистера Хоу, ранним утром в старенькой кибитке времен Петра Первого уехали в калмыцкую степь. Возница, которому братья щедро заплатили, вывез их через малоизвестные степные дороги на Ставропольщину, оттуда Агабабовы перебрались на берег Черного моря, а там – и в Париж.
Скрылся на время из Астрахани и мистер Чейс. Савва Ионов поселил его недалеко от города, в занесенной снегом избушке старого бакенщика. Позади избушки был лес, камыш, пролегали дороги во все концы света: на запад – через просторы калмыцкой степи, на восток – через казахскую степь…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Уходили от белых в проклятую богом и людьми калмыцкую степь – в одиночку, небольшими группами, большими и малыми отрядами, верстовыми колоннами – пешими, на измотанных конях, на верблюдах, на ослах, на линейках, на тачанках и казачьих бричках, в цыганских тарантасах, на татарских арбах с саженными колесами.
На Астрахань! К спасительным берегам Волги!
Вместе с армией уходили мастеровой люд, иногородняя беднота, разноплеменный Северный Кавказ. Отряд матросов Черноморского флота. Балтийский отряд. Полки Таманской дивизии. Шахтерские отряды. Китайский, Латышский, Мадьярский батальоны. Население ближайших городов, станиц, сел, аулов. Десятитысячный обоз семей красноармейцев.
Не лучшие марковские и корниловские офицерские полки, одетые и обутые англичанами и французами, не белые полки терских и кубанских казаков, а голод, холод, повальный сыпной тиф и черная оспа заставили отступить 11-ю армию – раздетую и разутую, без вооружения и боеприпасов, брошенную на произвол судьбы Реввоенсоветом Каспийско-Кавказского фронта, где до середины января еще понятия не имели о трагедии армии. В эти дни отсюда летели в Москву телеграммы: «Во флоте и 11-й армии без перемен».
От Святого Креста до Кизляра на десятки верст в глубь степи растянулись отступающие части, прикрываемые бригадой Кочубея. Святой Крест пылал пожарами. Горели горы хлеба и фуража, так и не попавшие в армию по милости «архиерея» и других преступников из Реввоенсовета фронта. Взрывались тыловые склады. Не было транспорта, чтобы вывезти все это добро, а дорога до Астрахани была дальняя.
Огнем был обложен Кизляр. В темной ночи было светло как днем. Пылали дома и склады. На станции, забитой вагонами с армейским имуществом, стояло непрерывное грохотание. Это артиллеристы подрывали тяжелые орудия и снаряды, большой подвижной состав из пульмановских вагонов, в которых размещались артмастерские и артсклад, а заодно – штабеля турецких снарядов, по калибру непригодных к нашим орудиям.
Варили пищу, грелись у костров. Жгли все, что можно жечь.
Повсюду искали воду. За кружку платили пачки денег. Но воды нигде не было. Передние колонны всю выпили, иссушили колодцы. Тогда принялись за вино. Кизляр – пьяный город. Что ни двор, то винный погреб, у каждого свои виноградники. Брали вино и в дорогу. Запасались продуктами и одеждой.
Прощаясь с Кавказом, многие плакали от обиды, грозили кадету и нерадивым руководителям фронта, скопившим на складах горы всякого добра, и уходили в гибельные пески калмыцкой степи.
Отступающих преследовал конный корпус белых. Разъезды деникинцев налетали на обозы, добивали раненых и тифозных, хватали пленных и увозили их к себе в подвалы контрразведок: в Ачикулак, Архангельское, Воронцово-Александровск, Прасковею, Левокумское. Здесь их допрашивали. Упорствующих раздевали, обливали водой и выставляли на мороз. Вешали по пять, по десять человек вместе. Живыми зарывали в землю. Выкалывали глаза. Топили в колодцах. В лютый мороз запирали в пустых амбарах.
Армия все дальше и дальше уходила в глубь калмыцкой степи.
Бескрайна калмыцкая степь. На много сотен верст простирается она на север и на восток, в барханных песках, поросшая кое-где белой и красной шелюгой, молочаем, полынью-травой да триостницей. Вокруг ни деревца, ни ручейка. Только изредка попадаются солончаковые озера, еще реже колодцы-худуки кочевников с красноватой водой, малопригодной для питья.
Летом степь звенит от зноя и лишь одни коршуны парят в безоблачном небе. Зимой она покрыта снегом и шурган бушует над ней. Попадет в эту пору человек в калмыцкую степь – погибнет от лютых морозов, от голода, задохнется от шургана, волк загрызет.
Через калмыцкую степь проходят две главные дороги. Одна из них – старый Крымский Шлях, или Большая Татарско-Крымская дорога. Она тянется от поселка Форпост, расположенного на берегу Волги, как раз напротив Астрахани, и до озера Яшкуль, потом сворачивает на северо-запад, доходит до манычских лиманов и отсюда уже идет вдоль правого берега Маныча до места его впадения в Дон. Этой дорогой в далекую старину совершали набеги на южные княжества России сначала печенеги и хозары, потом половцы, шел Чингисхан во главе своих полчищ. Эта же дорога служила для связи крымских и астраханских ханов. Несколько позже Крымский Шлях был продолжен украинскими чумаками. С днепровских берегов ездили они к Каспию за белорыбицей, индийскими шелками и туркменским каракулем. Чумаками же в калмыцкой степи были проложены десятки скотопрогонных трактов, по которым гнали на Украину баранту и коней, которых скупали у кочевников.
Вторая дорога – Большая Кизлярская – берет свое начало от того же поселка Форпост, идет через села Басы и Елабужское, сворачивает на юг и до самого Кизляра тянется вдоль каспийского берега. По этой дороге еще не так давно Астрахань держала связь со всеми крепостями и редутами кавказской оборонительной линии. Потом она потеряла свое былое значение и стала только торговой магистралью, по которой низовье Волги сообщалось с Северным Кавказом.
Когда отступающая армия, блуждая по степи, попала наконец на эти дороги, ведущие в Астрахань, то особой радости не испытала, потому что и по этому пути не было подготовленных этапных пунктов, транспорта, околотков для больных. Положение армии стало еще более угрожающим, когда наступила пора сильных снегопадов, ударили морозы, забушевал шурган.
Всю ночь сквозь леденящий ветер шли матросы-балтийцы отряда Тимофея Ульянцева: герои революционного Кронштадта, герои «Гангута», «Авроры» и других кораблей Балтийского флота.
За балтийцами шли черноморцы. Командира, больного сыпняком, по очереди несли на носилках. Метался он в бреду, норовил вырваться из рук своих товарищей, но его снова укладывали.
Ночью ударил мороз, сковало пустыню. Застыли барханы в самых причудливых формах.
Молча шла колонна в ночи, прислушиваясь к крику командира отряда, к его плачу по Черноморской потопленной эскадре. Многих прошибала слеза, и не один тяжело вздыхал:
– Эх, эскадра!..
Вспоминали солнечный Севастополь, набережную, прибой и штормы, чаек, кружащихся над рейдом, многоголосую перекличку кораблей, поход эскадры в Новороссийскую бухту, многотысячные митинги, на которых решалась судьба Черноморского флота, наконец, потопление флота, плач матросов, их жен и снова тяжело вздыхали:
– Эх, эскадра!..
Когда забрезжил рассвет, привстал на носилках командир отряда, окинул воспаленными глазами заснеженную пустыню – и увидел пенистое море и корабли.
– Стой, ребята! – крикнул он. – Поклонимся эскадре!
Колонна остановилась. Правду говорил командир. Не эскадру ли «летучих голландцев» занесло из северных морей в калмыцкую степь? Нет, это был снежный броненосец, за ним второй, третий…
Отряд попал в район занесенных снегом и выточенных ветром песчаных дюн. И что ни дюна, то новый корабль. Казалось, что так и плывет по степи, сквозь снежную мглу, Черноморская эскадра.
Разомкнулась колонна на привал.
Вдруг вперед выбежал больной сыпняком матрос Петр Сидорчук, посмотрел сумасшедшими глазами на товарищей и побежал в сторону Каспия.
– Сидорчук! Петрусь!.. – кричали ему матросы.
Сидорчук на мгновение остановился, погрозил кулаком и снова побежал. Тогда трое бросились ловить его. Падали, поднимались и снова бежали. Но Сидорчук летел, точно на крыльях, и скрылся в снегах.
Всем было жаль Сидорчука: хороший был товарищ.
Вскоре впереди снова подняли носилки с командиром отряда и тронулись в поход, на Астрахань!
Свирепый шквал налетел с пенистых просторов Каспия. Закружилось все вокруг. На глазах менялся рельеф местности. Точно в пучине черноморской, исчезала снежная эскадра.
Потом забушевала метель с мелким, колючим снегом. Шурган, как называют ее кочевники.
Всю эту ночь в поисках Кизлярской дороги с остатками кавалерийского полка плутал по степи и Иван Боронин. Только под утро им удалось добраться до небольшого степного села. Еще издали они увидели очень странное зрелище. Вокруг десятка мазанок при свете факелов бушевала тысячная толпа. Мелькали папахи, кубанки, картузы, бескозырки, разноцветные башлыки. В мазанки, превращенные в изоляторы для тифозных, никого не пускали, у каждой стояло по станковому пулемету. Перед толпой ораторствовал тщедушный фельдшер в пенсне, охрипший от крика, сам больной сыпняком.
– Товарищи! Граждане! Братцы! – надрывался он, то и дело хватаясь за пенсне или прижимая руки к груди. – Уйдите подальше от заразы! Вам надо дойти до Астрахани! Сохранить себя для революции! Расквитаться с Деникиным!..
Голос фельдшера тонул в реве людей, замерзших, голодных, умирающих. Его ругали отборной бранью и напирали на стенки мазанок. Тогда пулеметчики открывали огонь поверху. Толпа откатывалась назад и на время замирала.
Растолкав впередистоящих, Иван Боронин пробился на коне к фельдшеру, крикнул ему:
– Фельдшер, расскажи про сыпняк!
Из толпы посыпались вопросы:
– Как уберечься от тифа?
– Как вшей извести?
– Где найти баню, чистое белье?
Обрадовался фельдшер, как утопающий схватился за соломинку, и стал читать лекцию о сыпном тифе.
Толпа загудела, зароптала, послышались смешки:
– И без тебя это знаем!
– Ты дело говори! Не трепли попусту языком!
– Вшей наблюдать!.. Я тебе зараз наскребу горсточку.
Фельдшер умоляюще прижал руки к груди.
И снова Боронин выручил его, спросив про признаки сыпного тифа.
– Боль в пояснице! Боль в ногах! Воспаленные, красные веки! – продолжал выкрикивать фельдшер. – Мелкая, обильная сыпь на груди, животе, руках! Отсюда и название болезни, товарищи, – сыпной тиф. Сып-ной!
«Нет, не болен», – облегченно вздохнул Иван Боронин и провел рукой по лицу, иссеченному морозом и ветром. Потом повернул коня. Окинул взглядом гудящую при свете факелов толпу.
– Товарищи! – крикнул он. – Становись в колонну! Будем пробиваться на Астрахань!
Толпа загудела сильнее. Послышались голоса:
– Не дойдем!
– Погибнем в песках!
К самому коню пробился больной красноармеец, закутанный в одеяло, прохрипел:
– Все равно пришла погибель. Пусть хоть дадут погреться в мазанке.
Иван Боронин приподнялся в стременах:
– Приказываю стать в колонну! Вместе пойдем на Астрахань. Товарищ фельдшер сказал хорошие слова: «Сохраним себя для революции». Нам еще придется биться с кадетом, товарищи. Мы должны расквитаться за все муки, за голод, за холод, за погибших. Больным – остаться, остальным – стать в колонну.
Красноармеец, закутанный в одеяло, крикнул:
– Конник пешему не товарищ. Сытый голодному не друг!
– Брешешь, дорогой! – Иван Боронин погрозил кулаком. – Я друг твой, и все мы братья… У нас у всех одно дело: разбить кадета, закончить войну и прийти до своего дому. Нас ждут матери, жены, дети. На Астрахань будем идти так: два часа я на коне, два часа ты на коне! Становись!
– А правду говоришь, товарищ командир?
Боронин слез с коня:
– Вот тебе моя коняга! Садись!
Повеселевший красноармеец ловко забрался на коня, крикнул толпе:
– Становись, ребята! С таким командиром наверняка дойдем до Астрахани.
Бойцы встали в колонну. Поредела бушующая толпа у мазанок.
Фельдшер с удивлением смотрел вслед колонне, уходящей за конницей, и крестился всей замерзшей пятерней.
Но не прошло и часа, как из разных концов степи снова стали собираться красноармейцы и беженцы, усталые, продрогшие, голодные, не спавшие которые сутки. Снова бушевала толпа, просила ночлега.
Вместе с разрозненными мелкими группами отступающих по степи брели два переодетых капитана: один – начальник контрразведки Марковского офицерского полка, ударной части Добровольческой армии, Николай Бахвалов, другой – капитан английской экспедиционной армии на Кавказе Адам Фокленд.
В дни отступления 11-й армии Фокленд на самолете был переброшен из Баку в Порт-Петровск, оттуда – в Кизляр, где его свели с Николаем Бахваловым. В походе на Астрахань выбор на Бахвалова пал не случайно: он был родом из Астрахани, где до сих пор жил его отец, некогда боевой генерал Бахвалов. В одежде расстрелянных пленных красноармейцев, с их документами Фокленд и Бахвалов стали «рядовыми бойцами» 11-й армии. Отличить их в массе отступающих было невозможно.
Голодные, продрогшие, облепленные снегом, шли они, сторонясь людских скопищ. Изредка делали привал. Выпивали по глотку водки, съедали по кусочку шоколада, зарывались в снег, дремали час-другой, прижавшись друг к другу, и снова шли.
В этой «экспедиции», как ни странно, больше всего страдал Николай Бахвалов. Он проклинал и калмыцкую степь, и суровую русскую зиму. Фокленд же ко всему относился терпеливо. Он был разведчиком-профессионалом и привык к лишениям. Он даже мог шутить, в трудные минуты декламировать стихи.
– Тяжела наша работа, – стуча зубами от холода, говорил Николай Бахвалов. – Любой командир роты если в бою возьмет деревню, так о нем трубят все газеты! А о нашем брате, разведчике, знает только его непосредственный начальник и в редком случае – узкий круг друзей.
– Да, кэптэн, – соглашался англичанин. – Это о нас сказал Редьярд Киплинг:
Пикет обойди кругом,
Чей облик он принял, открой.
Стал ли он комаром
Иль на реке мошкарой?
Сором, что всюду лежит,
Крысой, бегущей вон,
Плевком среди уличных плит, -
Вот твое дело, шпион!
– Да, Киплинг… – мрачно вздыхал Бахвалов.
– Поэт поэтов!.. Вы страшитесь снега, кэптэн. А вы знаете, что такое жара? Зной? Пыль?.. Нет, вы не знаете Африки.
Увидев приближавшуюся к ним группу красноармейцев, они замолкали, замедляли шаги, пропускали красноармейцев вперед и снова одни брели в снегах.



