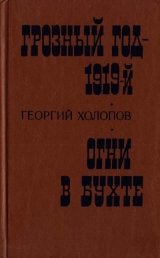
Текст книги "Грозный год - 1919-й. Огни в бухте"
Автор книги: Георгий Холопов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц)
ГЛАВА ШЕСТАЯ
В дежурной комнате Кауфман чуть не задохнулась от смеха.
Как долго она мучилась, чтобы узнать, кто этот таинственный больной по фамилии Лещинский. Сколько было догадок, предположений! Нигде не работает, а какой почет: отдельная палата, усиленное питание! Сам Киров навещает его через день!
Кто он?
Она подолгу простаивала у двери палаты, прислушиваясь то к бормотанию Лещинского, когда он бредил, то к песням, которые он пел, когда чувствовал себя лучше и пытался ходить по палате. Пел он много и хорошо. Любил романсы. Часто по-французски пел песни Беранже.
Кто он?
Разгадка наступила неожиданно, сегодня, когда к Лещинскому пришел Уллубий Буйнакский. Кауфман не раз видела Буйнакского в Военном комиссариате, когда он проездом в Царицын готовил в Астрахани транспорт оружия для Дагестана. «Но ведь это было в июле прошлого года, перед августовским мятежом, – думала она. – Как же он вновь очутился в Астрахани, когда Дагестан отрезан от России армией Деникина? Что может быть общего между Буйнакским и Лещинским?..»
Она взяла поднос с обедом и встала у двери палаты. Это – на всякий случай, оправдание хорошее: не решается войти к больному, у больного посетитель, они о чем-то разговаривают и спорят. Так она подслушала весь разговор Буйнакского с Лещинским.
Когда Кауфман увидела в окно Кирова, она ушла в дежурную комнату сестер, дождалась, когда он пройдет в палату, снова взяла поднос и встала у двери. Сомнений больше не могло быть: Лещинский – подпольный работник, вместе с Буйнакским он собирается в Дагестан.
В седьмом часу вечера Кауфман пришла домой. Ее ждала записка от мадам Сильвии. Кауфман приглашали на лото. Она обрадовалась и тут же стала переодеваться.
Муж, придя с работы, готовил в кухне обед. Две дочери – одна одиннадцати, другая тринадцати лет – мыли посуду.
– Может быть, сегодня побудешь дома? – спросил муж.
– Нет, мне надо идти по срочному делу, – ответила Кауфман.
– Интересно, когда у тебя закончатся эти «срочные дела»?..
– Опять недовольны! – возмутилась Кауфман. – И чем вы недовольны? Другие мечтают о куске хлеба – у вас есть даже икра! – Она с презрением посмотрела на мужа. – Что вам еще надо, что?
– Внимание к дому, к детям, – сдерживая гнев, сказал муж.
– Этого у меня не было, нет и не будет! – закричала она. – Вы понимаете – нет, нет, нет! – Она разрыдалась.
Девочки переглянулись и с сожалением посмотрели на мать. Она для них была словно чужая.
– И зачем люди женятся? Обзаводятся семьей? – сквозь всхлипывания говорила Кауфман. – Прислуживай мужу и детям, вечно заботься, стирай, стряпай для них… Тоска! А если я рождена не для этого, а для других дел? Более высоких и значительных?..
– Не надо было выходить замуж! – уже спокойно сказал муж.
– Ну, сделала глупость, так вы что, всю жизнь за это меня будете казнить?
– Нет. Мы уйдем от тебя. Казни себя сама. – Он кивнул дочерям, и они вышли из кухни…
Через некоторое время, забыв о семейной ссоре, в самом хорошем расположении духа Кауфман шла по Московской. У губкома навстречу ей попался помощник коменданта гарнизона Иван Бондарев, известный в Астрахани как человек особого «ндрава». Он шел из ревкома. Бондарев отличался тем, что никогда не здоровался первым. Увидев помощника коменданта гарнизона, Кауфман весело приветствовала его.
– Добрый вечер, – хмуро ответил Бондарев.
– Что невесел? Что могло случиться с начальником? – с наигранной тревогой в голосе спросила Кауфман и взяла Бондарева под руку. – Проводи до угла.
Они были друзьями. Кауфман всегда называла его «начальником», а это льстило его самолюбию.
– Начальником!.. Этого начальника ни во что не ставят, отменяют его законные действия и поступки. Вот сейчас, например, иду на свидание с проклятыми артистами театра. Надо вернуть им занавес и всякую там бутафорию. Муторно на душе, Кауфман, так бы и запил с горя.
Кауфман ничего не поняла из слов Бондарева, и ему пришлось коротко рассказать всю неприятную историю с театром.
– Я и не знала, что с тобой такое несчастье! – с той же наигранной тревогой в голосе сказала сестра. – Боюсь, что это цветочки, ягодки будут впереди.
– Я тоже так соображаю, – сказал Бондарев. – Но меня не проведешь. Бондарев – истинный пролетарий, потомственный бондарь. Вот, потрогай мозоли!.. Отец мой был бондарем, дед и прадед тоже. Мы бондарева рода, Кауфман!
– Чего уж там говорить! Тебя знает вся Астрахань, ты – признанный вождь форпостинского пролетариата! А вот, поди, не признает тебя ревком!..
– Не признает… Но ничего, – с угрозой проговорил Бондарев, – признает! Бондарев еще покажет себя. Он еще наведет в Астрахани порядок. – Он стиснул руку Кауфман и ушел, скрипя сапогами.
Зная характер Бондарева, Кауфман с удовольствием представила себе, какая пойдет смута по Астрахани против ревкомовской власти.
Еще недавно Бондарев жил на Форпосте, среди бондарей, рыбаков, таскалей и извозчиков. Имел небольшую мастерскую при доме, где работала вся его многочисленная семья, племянники-сироты, два слепых старца. Бондарев выгодно сплавлял товар подрядчикам. Но выбиться «в люди» ему так и не удавалось: работа бондаря грошовая, весь Форпост был в бондарных мастерских, конкурировавших друг с другом. Тогда он забросил бондарное дело, взвалил всю работу в мастерской на жену и долго пропадал где-то в верховьях Волги. Войну просидел в тыловых частях. После Октябрьской революции вернулся в Астрахань с отрядом анархистов и некоторое время «наводил анархию в городе». Потом анархисты уехали «подкормиться» на Кавказ, и Бондарев долго не знал, чем заняться, к кому примкнуть, пока дальновидные форпостинские дельцы не надоумили его войти в доверие к большевикам. Вскоре как раз представился подходящий случай: январский мятеж 1918 года. В боях с белогвардейцами Бондарев отличился и с этого времени при помощи дружков из Форпоста пошел в гору, стал по каждому поводу произносить громовые речи.
Его продвигали в «вожди форпостинского пролетариата». За него драли глотку владельцы рыбных садков, таскали и извозчики. Его тайно поддерживали хозяева бондарных мастерских, все эти горюновы, заваруевы, фатькины, федичкины и тишечкины. На первых порах Бондарев стал начальником районного отделения милиции. Потом друзья выхлопотали ему место помощника коменданта гарнизона Астрахани.
Не веря ни в белых, ни в красных, втайне мечтая лишь об одном – выбиться «в люди», Бондарев вскоре кое-что уразумел в «политических делах» и вдруг, на удивление астраханцам, на некоторое время затих: не появлялся на митингах и собраниях, не произносил речей, от которых у слушателей мурашки бегали по спине. Это было в период дружбы Бондарева с Кауфман, когда она вбивала ему в голову идею самостийности города Астрахани и Астраханского края. Бондарев загорелся бредовой мыслью создать в дельте Волги «царство рыбников и бондарей», обособить это «царство» от России, объявить Астрахань вольным городом и торговать белорыбицей и паюсной икрой со всем миром. У него даже был заготовлен герб будущего государства, нечто напоминавшее этикетку с консервной банки: перекрещенные севрюги на фоне приземистой дубовой бочки, символ «союза рыбников и бондарей».
Через черный ход Кауфман прошла в шляпный магазин мадам Сильвии. Прежде чем войти, она постучала и сказала пароль, как это было условлено между друзьями мадам Сильвии. Ей открыла татарка-служанка.
Антресоли гремели от шума и смеха. Играл граммофон. По винтовой лестнице Кауфман поднялась наверх. Там было полно народу. За столом играли в лото.
Мадам Сильвия с очаровательной улыбкой поднялась из-за стола навстречу Кауфман. Она всегда и всем улыбалась. Это была дама в туго затянутом корсете, с пышным, высоким бюстом, как у манекена. Она игриво взяла Кауфман за руку и повела на свою половину, за тяжелые цветастые портьеры, щебеча на невыносимом жаргоне – смеси русского, французского, немецкого и черт знает каких еще языков, без устали рассказывая сплетни, пикантные истории о княгине Тумановой, устаревшие анекдоты и сомнительной достоверности новости.
Кауфман тоже улыбалась и ждала. Она хорошо знала, что не из-за этих пустяков пригласила ее мадам Сильвия на лото.
«Что на этот раз нужно мадам Сильвии? – гадала Кауфман. – Бриллианты? Но она достаточно скупила их еще прошлым летом. Хрусталь? У нее пять ящиков хрусталя. Картины? Черная икра? Мука?..»
Нет, мадам Сильвии, оказывается, нужно было совсем другое: баночка цианистого калия и список коммунистов Астрахани.
Кауфман догадалась, в чем дело, и заказ приняла. Она могла все достать. Тем она и славилась. К тому же мадам Сильвия была щедрой женщиной и имела самую различную валюту, которую ей доставляли персидские купцы, привозившие в Астрахань сушеные фрукты, рис, хлопок.
Вдруг портьеры разлетелись в стороны, и на пороге появились знакомые лица:
– Начинаем новую игру! Просим за стол.
Дамы пошли к столу.
Банкомет объявил условия игры.
Карта стоила десять рублей николаевскими, тысячу рублей керенками. Десятая доля выигрыша шла в пользу хозяйки дома на оплату керосина.
Контролер, старый, плешивый господин, банковский служащий, с мешком в руке обошел игроков, роздал карты, собрал плату в мешок и под дружный хохот собравшихся водрузил мешок на стол, объявив астрономическую сумму банка.
Банкомет вытащил «бочку», и игра началась.
В первую же игру Кауфман выиграла.
«Счастлива, – сказала она себе, – я сегодня поразительно счастлива!»
Контролер выложил перед ней из мешка пеструю груду денег, она запустила в них руки, долго шуршала бумажками. Мадам Сильвия принесла ей наволочку.
Во вторую игру Кауфман снова выиграла и почти до отказа набила деньгами наволочку. На нее, как на героиню, смотрели игроки, и она всем улыбалась, счастливая и растерянная.
Потом выиграла дама с тройным подбородком, сидящая напротив мадам Сильвии. От радости с нею стало худо, она упала в обморок.
– Воды, воды! – закричали все вокруг стола.
Пока приводили счастливицу в чувство, банкомет объявил перерыв.
Мадам Сильвия снова увела Кауфман за портьеру, шепнула ей на ухо:
– К тебе, голуба, имеет интерес один важный господин.
– Да что вы, мадам Сильвия! – с притворным удивлением произнесла Кауфман.
– Да, да, голуба, очень важный господин!
– Интересно, зачем я ему понадобилась? Кауфман не красавица, да и не так уж молода…
– Но Кауфман – великая женщина! – сказала мадам Сильвия самым серьезным тоном.
Кауфман подкинула наволочку с выигрышем:
– Деловой человек?
– О да.
– Богатый?
– О да!
– И давно вы его знаете?
Мадам Сильвия отвела глаза. Кауфман захихикала, прикрыв ладонью рот. Потом сказала:
– Я догадываюсь, я, видимо, знаю его!
Мадам Сильвия замахала руками:
– Нет, голуба, вы не можете его знать, он из другого города, а не из этой паршивой Астрахани.
– Он немец из Сарепты, продавец горчицы Фриц Кениг, не так ли?
Потрясенная мадам Сильвия только простонала:
– Голуба…
– Вы удивлены? Сказать вам больше? Фриц Кениг – такой же продавец сарептской горчицы, как я китайская принцесса.
– О, я вас не понимаю! – отшатнулась от Кауфман мадам Сильвия.
– Не понимаете? – Кауфман снова захихикала. Потом, прищурив левый глаз, правым, сверлящим, как бур, впилась в мадам Сильвию. – Вы все прекрасно понимаете… А не знаете ли вы Адама Фокленда?
Услышав имя английского разведчика, мадам Сильвия упала в кресло, скрестив руки на своей пышной груди.
Кауфман решила сразить мадам Сильвию.
– Я знаю также, – продолжала она жестко, – что вы совсем не мадам Сильвия и что вы умеете делать не одни только французские шляпки. Но об этом потом, потом…
Мадам Сильвия закрыла лицо руками.
– Не надо, больше не надо, я боюсь вас, – простонала она.
Кауфман могла бы совершенно сразить мадам Сильвию, если б сказала, что хорошо знает и выполняет поручения и мистера Хоу, и мистера Чейса, представителя фирмы по производству холодильных машин… Но она предусмотрительно промолчала, подумав: «Бог ее знает, кому она еще служит, кроме англичан!»
– Я пошутила, – сказала Кауфман и похлопала мадам Сильвию по спине. – Я ваш старый друг. Нам долго еще вместе работать. Приходите завтра на чай. На five-o'clock… Впрочем… Вы ведь «француженка», а это английский обычай. Захватите и вашего «Фрица Кенига – немца из Сарепты». У меня безопасно. Списки коммунистов и цианистый калий – сущая ерунда! Для вашего Фокленда у меня есть кое-что поважнее. – Она подумала о Лещинском и Буйнакском.
Она оделась, взяла наволочку с выигрышем и откинула портьеру.
За столом играли. Кауфман спустилась по винтовой лестнице вниз. На стуле дремала татарка-служанка. Из наволочки Кауфман вытащила пачку керенок, сунула служанке в руку и вышла на улицу. Наверху, ей вслед, грянул граммофон: «Обидно, ах, досадно…»
На улицах было светло и оживленно, во многих квартирах раскрыты ставни. Навстречу то и дело попадались веселые парочки. Вчера этого еще не было. Иногда Кауфман встречала знакомых. Ее знали многие в городе: как медицинскую сестру, как активистку женотдела, как великую мастерицу на всякие сделки. Через Кауфман можно было достать любые продукты, продать драгоценности, купить валюту, найти богатую невесту для богатого жениха. Она была незаменимым посредником в коммерческих, семейных, но еще больше в темных делах, хотя об этом знал ограниченный круг людей.
К Кауфман относились по-разному. Впрочем, на это ей было наплевать. У нее было собственное мнение о себе и людях, которых она или презирала или ненавидела. Не случайно в таком большом городе, как Астрахань, среди большого круга знакомых она не имела ни одной подруги, ни одного друга… разве что «потомственного бондаря» Бондарева, шальную голову…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Вернувшись с объединенного собрания совета профсоюзов и фабрично-заводских комитетов, Киров вызвал в ревком Атарбекова и его комиссию по налаживанию работы ЧК и Особого отдела. На этом собрании был поддержан призыв ревкома и принято решение строго соблюдать хлебную монополию. Но среди профсоюзных работников нашлись и такие, которые потребовали отменить карточную систему, объявить свободную торговлю хлебом, в противном случае грозили забастовкой на своих предприятиях (на лесопильном заводе и в бондарной мастерской). Хотя собрание и встретило эти угрозы криками «позор» и подтвердило свое безоговорочное решение по хлебному вопросу, Кирова эта история заставила серьезно задуматься. Было ясно, что меньшевики, пробравшиеся в профсоюзы, не собираются складывать оружия, что они пользуются поддержкой астраханской контрреволюции, буржуазии, белоказачества и что реформы и декреты военно-революционного комитета и впредь они будут встречать в штыки.
Взволновало Кирова и другое событие, происшедшее в этот же вечер в клубе моряков. Там шел концерт. Последней выступала пианистка. Она должна была исполнить интермеццо из «Кармен», но сыграла похоронный марш Шопена.
Моряки вывели пианистку в коридор, учинили ей допрос. Пианистка отвечала дерзко, заявила:
– Не сегодня-завтра Астрахань будет взята белыми, вот и сыграла вам похоронную! О, как я вас ненавижу! – И с ней сделалась истерика.
Пианистка оказалась женой Гладышева, бывшего председателя правления астраханских консервных заводов, снятого на днях Кировым с работы. В концертную бригаду попала случайно, по мобилизации культкомиссии губисполкома.
Киров много курил, шагая по кабинету.
Тревожили думы и заботы. «Где Мусенко и Федорова с отрядом? Как пробирается Буйнакский по заснеженной степи? Где застряли хлебные маршруты? Как Боронин?» Иногда он останавливался у окна или садился на диван, закрывал рукой глаза. Хотя в эти дни в городе и не было замечено явных признаков готовящегося белогвардейского мятежа, на сердце было неспокойно.
Раньше улицы города в это время были полупустынными. Рабочие и служащие трудились на предприятиях и в учреждениях до позднего вечера, а обыватель отсиживался дома, и если он и пробегал по улице, то быстро, не желая быть замеченным патрулями. И что особенно резко бросалось в глаза – обыватель был плохо одет: все ценное он прятал.
А тут вдруг город ожил. Правда, и весна давала о себе знать, впервые выглянуло солнце. Но дело было не в весне: обыватель ждал каких-то событий.
Проходя с Ульянцевым по Никольской мимо парикмахерской, которая еще вчера была заколочена досками, Киров обратил внимание на двух людей. Один из них, статный господин с нафабренными усами, был в котелке, богатой шубе, второй – в пальто из дорогого сукна и мягкой добротной шляпе. Вели они себя так, будто бы не было ни войны, ни тифа, ни голода. Киров не слышал разговора этих людей, до него долетели лишь слова, сказанные господином в шубе: «Скоро весна!», затем реплика господина в пальто: «Надолго ли?» И снова слова господина в шубе: «На этот раз – навсегда!»
Киров обернулся. Господин в шубе что-то шепнул своему спутнику, и они громко, беспечно засмеялись.
Изменившись в лице, Киров сжал кулаки. Ульянцев сперва не понял, в чем дело; он стал оглядываться по сторонам, обернулся и увидел хохочущих; похлопал по маузеру, гневно сказал:
– Дай срок, наплачутся.
В эти дни Кирову несколько раз приходилось проезжать и проходить по Никольской. Это был торговый центр города. Здесь находились конторы богатейших фирм, агентства разных торговых и транспортных обществ, лучшие рестораны, винные погреба, магазины колониальных товаров. Совсем недавно тут было тихо и безлюдно, а сейчас везде чувствовалось оживление: торгаши высыпали на улицу.
В пятом часу вечера из Москвы приехал новый председатель Реввоенсовета фронта Мехоношин Константин Александрович. В простом пальто, с небольшим чемоданом в руке, он меньше всего походил на военного.
В Реввоенсовете Мехоношин первым делом засел за карту. Хотя он был в курсе всех последних астраханских событий, но внимательно выслушал рассказ Кирова о положении в городе и в армии.
Мехоношин был немногословен, нетороплив в оценках и выводах – это понравилось Сергею Мироновичу. Вообще чувствовалось, что в его лице Астрахань приобрела серьезного военного работника, наделенного к тому же большими полномочиями…
Когда Киров вернулся в ревком, там его уже дожидались Атарбеков, Чугунов и Аристов. Они вошли вслед за ним в кабинет.
– Москва утвердила назначение! – Атарбеков протянул Кирову телеграмму Дзержинского. – Как будто бы самому и не очень красиво ликовать по этому поводу, но время, время какое!..
Киров пробежал телеграмму, сказал:
– Да, вступаешь в должность в тяжелые, исторические дни. На твоем месте я бы тоже радовался. Поздравляю!.. Садитесь, товарищи.
– Веселое дело, черт побери, вступать в должность в такие дни! – Атарбеков сбросил шинель и подсел к столу. – Хотя бы на неделю раньше! На одну неделю! Ты даже не представляешь себе, как много можно было бы успеть… Прихожу на телеграф, спрашиваю, нет ли ответа из Саратова по поводу хлебного маршрута. Телеграфист – такой высокий, молчаливый парень, я его знаю еще по Пятигорску, – протягивает руку, говорит: «Поздравляю вас, товарищ Атарбеков». Я радостно пожимаю ему руку, говорю, что вот как хорошо получается: в такую тяжелую минуту получаем хлеб и всякое такое. Он молча меня выслушивает, потом говорит: «Получена «молния» от Дзержинского: вы назначены председателем ЧК»… Оказывается, телеграмма из Москвы пришла еще в пятом часу, а начальник телеграфа об этом никому не соизволил сообщить, потому что, видите ли, у него в это время не было посыльного на телеграфе.
– Вот тебе первое поручение – наведи порядок на телеграфе. Новый председатель Реввоенсовета человек серьезный и не потерпит там безобразий. Но об армейских делах сам поговорит с вами. Совещание назначено на девять вечера. – Сергей Миронович обвел всех веселым взглядом: радовал его и приезд Мехоношина, и назначение Атарбекова. – Что ж, товарищи, начнем наше «чрезвычайное заседание»? Кто будет докладывать?
– Пусть Атарбеков! Человек он у нас новый, ему все видней со стороны, – предложил Чугунов.
– К тому же – на должности теперь, – согласился Аристов.
– Прошу, Георг. – Киров откинулся назад, приготовившись слушать невеселые вести.
Атарбеков рассказывал о деятельности прежнего состава ЧК и Особого отдела. Картина получалась неприглядная. Многие сотрудники этих двух ответственных учреждений брали взятки, занимались различными злоупотреблениями. Большинство из них обманным путем пробралось в ряды партии. Чтобы создать видимость борьбы с контрреволюцией, они хватали и сажали в тюрьму порой совсем безвинных людей, и чаще всего коммунистов, осмелившихся покритиковать порядки, насаждаемые в учреждениях Шляпниковым и другими троцкистами.
– Наша комиссия пришла к выводу, – заключил Атарбеков, – весь состав ЧК и Особого отдела надо предать суду Ревтрибунала. Начало мы уже положили. Всех этих мерзавцев посадили в тюрьму, а помещение ЧК приказали продезинфицировать и проветрить. Раскрыть все окна настежь!..
– Это вы сделали правильно, – засмеялся Киров. – Только не остудите помещение, потом дров не напасетесь. – Он посмотрел на Чугунова. – Что так мрачен наш губвоенком?
– Не с чего быть веселым, товарищ Киров. – Чугунов задумчиво покрутил усы. – Надо ли нам цацкаться со всей этой сволочью? Я бы их и судить не стал. Расстрелял всех – и дело с концом! А то понаехало в Астрахань много всякой дряни. Город-то особенный! Форпост Советской России на далеком юге. Тут надо глядеть в оба!
Киров поднял руку:
– Только не перехлестывать, товарищи. И без партизанщины! Надо внимательно разобраться в каждом человеке.
Атарбеков положил перед Кировым список рекомендуемых сотрудников в новый состав ЧК и Особого отдела. В основном это были коммунисты астраханских предприятий и частей гарнизона. В списке можно было увидеть и кавказцев – из Пятигорска, Владикавказа, Грозного, попавших в Астрахань с отступающими частями 11-й армии.
Киров просмотрел список.
– Хорошо, вечером я согласую этот список с Мехоношиным, и мы его утвердим на ревкоме. Но с одним условием, – он с лукавинкой взглянул на Атарбекова, – новому составу не повторять ошибок старого ЧК!
– За этим уж я прослежу! Пусть попробуют ошибиться! – Аристов сощурил свои цыганские глаза, поигрывая кинжалом на тонком кавказском пояске.
Хотя это было сказано в шутку, но Атарбеков обиделся и неприязненно посмотрел на Мину Львовича Аристова.
Киров встал:
– До встречи на ревкоме, товарищи!
Ночью, после заседания ревкома, в котором участвовал и новый председатель Реввоенсовета фронта Мехоношин, Атарбеков провел широкую операцию по аресту контрреволюционной астраханской буржуазии. С одним из Коммунистических отрядов действовал Аристов, с ротой Реввоенсовета – Чугунов.
Аресту подверглись наиболее активные контрреволюционеры и «рыбные короли». Успех этой операции был обеспечен внезапностью и полной тайной ее подготовки.
В третьем часу ночи с отрядом красноармейцев Атарбеков окружил дом астраханского миллионера Павла Беззубикова. Еще несколько дней назад по городу распространился слух, что Беззубиков тяжело заболел. Говорили – у него произошло кровоизлияние в мозг, наступил паралич левой половины тела. Болтали и много другого. Эти слухи были до того назойливы и противоречивы, что Атарбеков решил сам заняться Беззубиковым.
Подойдя к дому миллионера, он позвонил. Ему долго не открывали. Тогда красноармейцы стали стучать в парадную дверь прикладами.
Вскоре на лестнице послышался топот ног, беготня, потом за дверями долго шептались, спорили, ругались, пока наконец не загремели засовы, тяжелые цепи и крюки. Дверь приоткрылась. На пороге показалась мадам Беззубикова. Позади нее, на ступеньках, с пистолетами в руках стояли два молодых человека.
Атарбеков показал мандат на обыск:
– Не пытайтесь сопротивляться. Дом окружен отрядом. На каждый выстрел мы ответим десятком выстрелов!
– Что вы, что вы! – Мадам Беззубикова замахала руками. – С какой стати нам стрелять? Мы мирные люди. А не открывали долго потому, что не знали, кто стучится в такой поздний час… – Приседая, она стала пятиться назад, прикрикнув на «племянников», чтобы они спрятали свои пистолеты.
– В таком случае прошу сдать оружие! – Атарбеков вошел в парадную.
Молодые люди переглянулись, не зная, на что решиться.
– Сережа!.. Павлик!.. – взмолилась мадам Беззубикова. – Отдайте ваши револьверы.
Зло глядя на Атарбекова, молодые люди молча протянули ему пистолеты.
– Ну вот и хорошо, – с усмешкой сказал Атарбеков. – А то они и выстрелить могут. – И он передал оружие рядом стоящему красноармейцу.
– Это мои племянники, – приседая, проговорила мадам Беззубикова. – Сыновья моей покойной сестры, мальчики неразумные, горячие…
Атарбеков приказал их обыскать. У милых «племянников» в задних карманах брюк нашли еще по пистолету.
Атарбеков стремительно пробежал по лестнице наверх. За ним – чуть ли не половина отряда.
В доме было многолюдно. Кроме родни Беззубикова и прислуги здесь было много посторонних. Атарбеков приказал всех собрать в столовой, а сам вместе с гарнизонным врачом Соколовым зашел в спальню. Там был полумрак. Грузный, двенадцатипудовый Павел Беззубиков лежал на громадной «екатерининской» кровати красного дерева и тяжело дышал. У постели больного, со скорбным лицом, с молитвенником в руке, сидела старая сестра-монахиня. Прислонившись к кафельной печи, стоял смертельно бледный лечащий врач. Атарбеков попросил сестру-монахиню и врача выйти из комнаты, а Соколова – осмотреть Беззубикова.
В спальню, рыдая, вошла мадам Беззубикова. Она просила не трогать мужа, который, по ее словам, вот уже третий день находится в бессознательном состоянии.
– Зря вы плачете, – успокоил ее Атарбеков. – Ни вам, ни вашему мужу, ни кому-либо другому в доме ничего не угрожает… при условии, конечно, если не найдут чего-либо компрометирующего. Скажите, по какому случаю у вас в доме собрано столько народу? В такой поздний час?
– Что же тут удивительного, – утирая слезы и косясь на кровать, ответила мадам Беззубикова. – Умирает Павел Иванович. Это все родственники и компаньоны фирмы. Прослышали о тяжелом состоянии мужа, вот и слетелись со всех сторон. Ждут смерти – урвать долю из наследства.
– Вашему мужу и на самом деле плохо?
Мадам Беззубикова опустила глаза:
– Мы потеряли всякую надежду…
Кивнув Соколову, чтобы тот занялся больным, Атарбеков вышел в коридор.
В столовой шел обыск, проверялись документы.
На чердаке в соломе красноармейцы нашли завернутый в одеяло разобранный «максим», пять ящиков патронов; в подвале среди старой мебели и всякой рухляди – семь шашек, двенадцать винтовок, четыре ящика патронов, с десяток гранат, носилки и флаг Красного Креста.
Атарбеков осмотрел чердак и подвал. По тому, как старательно были заложены мешками с землей, бочками с рыбой и икрой окна, превращенные в бойницы, он быстро определил место и назначение дома Беззубикова в планах белогвардейцев на случай мятежа. Присутствие в доме врача, двух медицинских сестер, фельдшера убеждало его в том, что кроме опорного пункта дом Беззубикова является также медицинским перевязочным пунктом. Флаг Красного Креста и носилки красноречивее любых признаний подтверждали это.
Вернувшись в столовую, Атарбеков приказал арестовать всех обитателей дома.
К нему подошел Соколов. Вид у него был смущенный. Он отвел Атарбекова в сторону и сообщил, что Беззубиков совершенно здоров.
– А вы сомневались еще! – сказал Атарбеков. – Однако вы чем-то смущены?
– Одним обстоятельством… Он предложил мне большую сумму денег, просил его не выдавать… Обещал подарить один из своих бывших промыслов…
– Щедрый он человек! – усмехнулся Атарбеков. – И что вы ему ответили?
– У меня не было другого выхода, как согласиться. – Соколов боязливо оглянулся. – У него под подушкой спрятан пистолет…
– Пистолет? – Атарбеков снова усмехнулся. – Разве вам не ясно было, что это враги пустили слух о болезни Беззубикова?.. Отвести внимание ЧК от его дома?.. Мы опередили, а возможно, и сорвали сегодня ночью выступление заговорщиков. – Вытащив из кобуры маузер, Атарбеков вдруг стремительно вошел в спальню.
Увидев его с оружием в руках, Беззубиков вскочил с постели, потом бросился грудью на подушку, чтобы выхватить пистолет, но раздался грозный окрик Атарбекова:
– Еще одно движение – и я вас уложу на месте, как бешеную собаку! – Атарбеков в страшной ярости подошел к бывшему миллионеру и, невзирая на его громадный рост и двенадцатипудовый вес, выволок из постели на середину комнаты.



