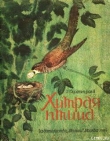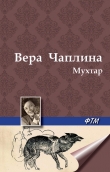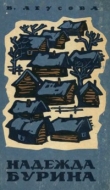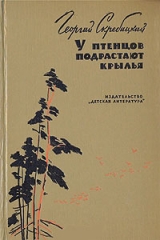
Текст книги "У птенцов подрастают крылья"
Автор книги: Георгий Скребицкий
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Николай Дмитриевич одобрительно кивнул.
– Прямо Поленов, – чуть-чуть улыбнувшись, сказал он. Потом обнял Толю за плечи и ласково добавил: – Только не нужно так увлекаться внешней стороной, не нужно за красивостью гнаться. Красота и красивость – вещи совсем разные.
– Значит, у меня красивость? – обиделся Толя.
– Нет, нет, – успокоил его Николай Дмитриевич. – Только уж очень много всего вы тут нагородили, прямо географическая карта, лучше поменьше бы. Но для первого раза совсем неплохо. И по цвету, и перспектива все-таки есть. Совсем неплохо!
Толя самодовольно улыбнулся. Когда мы пошли домой, он отозвал меня в сторонку и не без ехидства сказал:
– Видал, как Николай Дмитриевич напыжился, когда мою картину увидел? Это он от зависти. Сам-то так не сумеет, кишка тонка.
– Он Строгановское училище окончил, – ответил я. – Наверное сумеет, может, и получше.
– Ну да, сумеет, держи карман шире! – усмехнулся Толя и присоединился к ребятам.
Так был закончен наш первый художественный поход. К сожалению, он оказался и последним. Вскоре Николай Дмитриевич заболел воспалением легких и совсем прекратил свои уроки.
А жаль, очень жаль! Художников он из нас, конечно, бы не сделал, но наверное научил бы видеть иного хорошего, мимо чего мы равнодушно проходим, даже не замечая.
ЛЕВА
Во время подготовки к школьному вечеру я сдружился с Толей и Левой. Оба они мне очень нравились, хотя были совсем разные по характеру. Да и нравились они мне тоже совсем по-разному.
С Толей всегда было весело. Он все умел делать: и рисовать, и петь, и на гармошке играть. Уж если соберутся ребята, Толя всегда самый заводила, что-нибудь да придумает. «Не парень, а прямо душа общества», – шутили ребята. Шутили, а и вправду Толька во всякой компании был, что называется, именно «душой».
Вот Лева совсем наоборот. Ни смешной анекдот рассказать не сумеет, ни спеть, ни сыграть, только стихи читает хорошо. Да кто их, стихи-то эти, слушать будет, разве что на школьном вечере!
Лева и сам не любил компанию, веселье, даже в школе… Все в коридоре толкаются или во двор выйдут, а он сидит себе в классе в уголке да какую-нибудь книжку читает. Предложишь ему: «Пойдем во двор с ребятами поболтаем». – «Нет, – отвечает, – иди, а мне неохота, я лучше почитаю», – и останется один в углу, как сыч в дупле.
Сначала Лева мне очень не нравился, я все тужил, что сидели мы с ним на одной парте; лучше бы Толю мне в соседи: с ним и поговорить, и посмеяться можно, а это какая-то царевна Несмеяна, тоска, да и только!
Правда, я и сам был не очень-то боек, но, верно, именно поэтому меня и тянуло к тем, кто побойчее, вроде Толи Латина.
Постепенно я и к Леве попривык. Ну что ж, что он царевна Несмеяна, а все-таки славный малый. И какой-то он особенный, не такой, как мы все. Вот ходили в лес с Николаем Дмитриевичем, все ребята ветки деревьев, желтые листья или ягоды нарисовали, а он какую-то коряжину да еще птицу на ней. Плохо нарисовал, совсем плохо, а все-таки рисунок почему-то всем понравился. Даже Николай Дмитриевич похвалил, сказал: «Настроение, мысль и чувство есть». Одному ему только это и сказал.
Понемногу и Лева ко мне тоже попривык, перестал дичиться, даже иной раз и сам стал заговаривать. А уж после подготовки к школьному вечеру мы и совсем с ним подружились.
Помню, как-то пришли в школу, только один урок и должен был быть – урок пения, но и тот не состоялся: Маргарита Ивановна немножко заболела. Посидели мы в классе, потолковали о всяких делах да и разошлись по домам. Мы с Левой вышли вместе.
Погода чудесная. Поздняя осень, не сегодня-завтра зима наступит, а на дворе ну прямо весна. Утром дождь шел, земля и сучья деревьев все влажные. А теперь солнце выглянуло, все кругом блестит, будто ранней весной, да и пахнет совсем по-весеннему – отсыревшей землей, и увядшими, прелыми листьями из сада попахивает. Воробьи в палисаднике так расчирикались – удержу нет. Видно, тоже осень с весной спутали.
Вышли мы с Левой на выгон за школу. Хорошо, просторно. И ветерок такой теплый, чуть-чуть лицо обдувает. Лева сразу повеселел. Огляделся по сторонам и прочитал на память какие-то стихи:
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас.
Мне стихи очень понравились. Здорово как сказано, а главное – к месту. Вот бы мне такие сочинить!
– Кто это написал? – спросил я.
Лева удивленно взглянул на меня.
– А ты разве не знаешь? Тютчев написал. Ты разве его не читаешь?
– Читал, читал, – поспешно ответил я. И тоже продекламировал:
Люблю грозу в начале мая…
– Да у него не только про грозу, – перебил Лева. – У него много хороших стихов есть. Хочешь, дам тебе почитать?
– Спасибо, с удовольствием. Только не сейчас, не сегодня. Пойдем-ка лучше к речке, прогуляемся.
Лева согласился, и мы пошли.
– А здорово, что у нас такая школа! – сказал я.
– То есть какая – такая?
– Да вот такая: занятий нет, уроков не задают, жизнь, да и только.
Лева как бы в недоумении пожал плечами.
– Особенно хорошего я в этом ничего не нахожу.
– Да что ты? – изумился я. – А тебе бы хотелось целые дни уроки зубрить?
– Нет, целые дни зубрить мне бы не хотелось, – ответил он. – Но и целые дни ничего не делать – тоже хорошего мало. Если так продолжаться будет, глядишь, что и знал-то, забудешь.
– Ну, брат, «учение – не волк, в лес не убежит», – сказал я Леве свою любимую пословицу. – Сколько ни учись, все равно всего на свете не выучишь, что-нибудь другим да останется.
На это Лева ничего не ответил. Некоторое время мы шли молча. Я искоса поглядывал на приятеля и думал: «Что это он, фасонит передо мною своим прилежанием или вправду по учебе соскучился? Чудак какой-то».
Неожиданно Лева обратился ко мне:
– Вот ты радуешься, что мы не учимся. Ну, а дальше как, как же мы дальше в университете учиться будем?
Об этом я, правда, никогда и не задумывался, поэтому не знал, что ответить, но ответ пришел сам собой:
– А что значит – дальше? Как все, так и мы. Разве мы одни не учимся?
– Ну, это утешение плохое, – сказал Лева. – И, помолчав, спросил: – Ты кем хочешь быть, какую специальность себе выбрал?
И этот вопрос застал меня врасплох: «Кем же я хочу быть? Хочу писать рассказы, хочу путешествовать, поехать на Север, в тайгу, на Байкал, на Дальний Восток… Но это же не специальность».
– Да я, собственно, о специальности еще как следует не думал, – ответил я. – Еще впереди целых три года. Придумаю что-нибудь. А ты уже придумал?
– Я давно выбрал.
– Что выбрал, какую специальность? – заинтересовался я и подумал: «Может, и мне такая подойдет».
– Я буду доктором, врачом-терапевтом, – убежденно, как о деле давно уже решенном, сказал Лева.
– Врачом? – разочарованно протянул я. – Да что же в этом хорошего? Всю жизнь с больными возиться, всю жизнь охи да стоны – вот радость-то!
Я тут же вспомнил, как Михалыч постоянно сердится на больных, особенно на старух. Придет такая в больницу лечиться, а от чего, и сама не знает – всё болит, вот и весь разговор; от чего хочешь, от того и лечи.
– Врачом, да еще терапевтом, – повторил я, – ничего интересного. Ну хоть бы сказал – хирургом. Я хирургом не смог бы быть – духу не хватит, а кто может – это другое дело. Сделал операцию, что-нибудь там вырезал, отрезал – сразу работа видна, а терапевт – порошочки, капельки, присыпки, примочки… – Я рассмеялся. – Тоже нашел специальность, нечего сказать!
Но Лева совсем не обиделся на меня за такую резкую, даже просто безжалостную критику. Он спокойно выслушал и так же спокойно ответил:
– Нет, Юра, ты неправ, ты просто не представляешь себе работу врача.
– Как – не представляю? – чуть не вскрикнул я от изумления. – Я-то не представляю? Всю жизнь с Михалычем живу – и не представляю!
– Ну что ж, что с врачом живешь? – все так же спокойно отвечал Лева. – Живешь вместе, а наверное, и не очень интересуешься, чем он занимается.
Такая простая мысль прямо сразила меня. А ведь и верно! Я же никогда в жизни даже не спросил Михалыча про его работу. Мы все вечера беседуем с ним о рыбалке, об охоте, о ружьях, о собаках, а вот о работе никогда и не говорили. Я честно признался в этом Леве.
– Вот видишь: не говорил никогда, а надо мной смеешься – специальность плохая!
– Ну, а ты-то откуда знаешь, что хорошая? Ты-то с кем говорил?
– Я? – переспросил Лева. – Я с Алексей Михалычем говорил.
От изумления я просто остолбенел.
– С Михалычем? Почему, когда?
Взглянув на меня, Лева рассмеялся.
– Да что ж ты так удивился? – весело сказал он. – Что ж тут необыкновенного? Он не зверь, видишь, не съел меня.
– Да, но как тебе такая мысль в голову пришла?
– Очень просто. У меня летом горло долго не проходило, кашляю и кашляю, вот я и пошел к Алексею Михайловичу в больницу. Он меня выстукал, выслушал, какие-то порошки прописал. А потом и разговорились. Он увидел, что я интересуюсь всеми его инструментами, приспособлениями, дал мне и трубочку послушать, и показал, что и как он молоточком выстукивает, как границы сердца определяет. Очень интересно рассказывал, и про больных тоже. Как иной раз трудно болезнь бывает определить: думаешь одно, а на поверку оказывается совсем другое. А ведь ошибиться в этом деле нельзя. Ведь одна ошибка доктора может стоить больному здоровья, а то и жизни. С какой, значит, осторожностью нужно заключение делать, как всё предвидеть, взвесить, сравнить! Алексей Михайлович говорит, что поставить диагноз, то есть правильно определить, чем человек болен, – это, понимаешь, в медицине самое трудное, но и самое интересное…
Лева приостановился, припоминая что-то, потом продолжал:
– Ты знаешь, был такой знаменитый профессор по внутренним болезням, терапевт, значит, фамилия его Захарин. Так этот профессор так ловко диагноз ставил, что почти никогда не ошибался. Придет он, бывало, в клинику со студентами (Алексей Михайлович тоже у него учился), подойдет профессор к какому-нибудь больному, осмотрит, расспросит его, выстукает, выслушает, а потом студентам предложит то же самое сделать. Студенты тоже осмотрят, выстукают, выслушают. «Ну, какая же у него болезнь?» – спросит профессор. Вот студенты и примутся рассказывать. Одни одно говорят, другие другое, спорят, не соглашаются между собой. Захарин всех их выслушает да и начнет свои соображения выкладывать. Вот, мол, вы это упустили из виду да этого не заметили. Студенты слушают, только дивятся, как же он сам все учел, все запомнил, ничего не упустил. Какую он болезнь определит у больного, такая, значит, и есть. Будто он не снаружи человека осматривал, а в самое его нутро залез, там всё и разглядел. – Лева приостановился и не без гордости продолжал – Алексей Михайлович говорит, этого профессора от нас за границу возили.
– И ты тоже Захариным хочешь быть? – не без ехидства спросил я.
Лева удивленно поглядел на меня:
– Почему Захариным? Я буду обыкновенным врачом. Я про Захарина рассказал, чтобы показать, как трудно и как интересно в болезнях разбираться, а потом лечить человека. Ведь у каждого человека самое дорогое – здоровье и жизнь. А к доктору за тем и обращаются, чтобы поддержать их. А ты говоришь – доктором быть неинтересно, – закончил Лева.
Я молчал, молчал, потому что не знал, что и как отвечать. Ведь я и не думал раньше о работе врача, и Михалыч нам с Сережей ни о своей работе, ни о каком-то знаменитом профессоре никогда не рассказывал. А вот Леве сразу все рассказал. Почему это? Что ж, мы с Сережей глупее Левы, что ли? Мне стало немного обидно, и даже злость разобрала. Стыдно Михалычу к нам с Сережей так относиться, а еще говорит, что мы друзья! Хороши друзья, нечего сказать!
Мы вышли к берегу реки, пошли лугом по гладко накатанной дороге. По ней в конце лета возили сено. Дорога была ровная-ровная, даже немножко скользкая. Вдали она поблескивала на солнце, будто отполированная. Идти было очень легко. Мы обогнули излучину реки и присели отдохнуть на пригорке.
Я оглянулся и сразу узнал знакомое место. Вот и кусты лозняка у самой воды…
– Ты знаешь, Лева, – сказал я, – на этом самом месте мы с Михалычем один раз раков ловили. Вечер, помню, такой тихий, теплый. Солнце садится, весь городок наш освещает. Он и зеленый, и розовый – удивительный такой! И вдруг в соборе колокол зазвонил. Ты помнишь, как недавно в школе Николай Дмитриевич картину показывал, Левитан ее нарисовал, «Вечерний звон» называется? Ну, помнишь? Еще говорил про нее, что картину слушать можно.
Лева кивнул головой.
– Вот тогда, на реке с Михалычем, прямо как на той картине, всё, как там, – и вечер, и солнце садится, и колокола звонят…
Лева внимательно слушал, глядя за речку вдаль на наш городок.
– А ты любишь, когда вечером колокола звонят? – спросил я. – Вечерний звон любишь?
Лева кивнул.
– Люблю, – как-то неопределенно сказал он. – Красиво это. Да только…
– Что – только? – переспросил я.
– Только, пожалуй, ни к чему.
– Ни к чему? – удивился я. – То есть как – ни к чему?
– Да так… Ну звонят, в церковь богу молиться зовут.
– Ну и что же?
– А ты веришь в бога? Веришь, что он есть? – неожиданно спросил Лева.
– Верю, конечно, верю. Как же иначе? – ответил я и тут же вспомнил все свои сомнения на этот счет. Вспомнил, но вслух не высказал, побоялся: «А ну-ка бог услышит да еще накажет за такие слова».
– А я не верю, – тихо сказал Лева, – с тех самых пор, как мама умерла, и не верю.
– А при чем же тут твоя мама?
– При том, что она болела очень, очень мучилась. В прошлом году это было. Я бога и день и ночь просил, чтобы маму помиловал, чтобы выздоровела она. Обещал ему, если выздоровеет, в монахи пойду, всю жизнь только ему служить буду. А мама не выздоровела – умерла. Какой же он после этого всемогущий, всеблагий?
Я схватил Леву за руку.
– А ты знаешь, я ведь и сам об этом иной раз думаю, когда какую-нибудь несправедливость вижу. Смотрю и думаю: как же бог может до этого допустить?
– Ну вот, и сам тоже говоришь, – ответил Лева и, помолчав, добавил: – Молись не молись, никогда он ни в чем не поможет, потому что его и нет. Сказки всё это. Я в одной книжке читал. Там написано, что бога сами люди придумали, потому что не понимали явлений природы и боялись их. Блеснет молния, ударит гром – что это? Наверное, на небе кто-то страшный сидит и людей пугает. Так бога и придумали. По-разному придумали: у кого идолы, у кого иконы, распятия… А чем распятия лучше какого-нибудь там божка?
«А ведь, пожалуй, и верно», – подумал я, но вслух все еще не решался сказать.
– Лева, а ты не боишься такие слова говорить? – спросил я.
– Кого же бояться, если никого нет?
– А может, все-таки есть, услышит и накажет.
– А если есть, пусть сперва докажет, что он есть. Чего же он тогда прячется, от кого? Что он, людей боится? Пусть явится сюда и скажет: «Вот он я». А я ему тогда тоже скажу: «Какой же ты всемогущий и всеблагий? За что ты так маму мою мучил, зачем у меня отнял?» – Голос у Левы дрогнул. Он с раздражением махнул рукой. – Не с кем говорить, нет его, одни сказки.
Лева помолчал и, немного успокоившись, заговорил снова:
– Я хочу врачом быть, людей лечить, помогать им от болезней избавиться. А если бы существовал бог, тогда и докторов никаких не нужно, и больниц не нужно. Зачем они? Заболел человек. Отчего заболел? Значит, бога прогневил, согрешил перед ним, значит, не в больницу нужно идти, а в церковь грехи замаливать. Замолишь, простит тебя бог, значит, болезнь пройдет, а не простит, лечись не лечись – все равно не вылечишься, ведь бог всемогущий: раз он захотел наказать тебя болезнью, никакие порошки не помогут. Тогда и Алексею Михайловичу не доктором нужно быть, а в священники идти. Почему же он не пошел?
Что я мог возразить против всего этого? Только одно: что Лева умный, а я дурак. Лева книжки читает, о всяких таких вещах думает, а я вот только рыбу ловлю да за зайцами охочусь.
Я молчал и думал: «Он умный, а я дурак. Ну и пусть, не всем же умными быть. А хорошо все-таки за зайчиками сходить, – мелькнула неожиданно веселая мысль. – Есть бог или нет, кто его там знает. Да и стоит ли об этом вообще думать, ведь все равно ничего не придумаешь. А все-таки интересно: Колька и Миша верят в бога или нет? А Михалыч верит?» Мне захотелось их спросить, очень захотелось. Но я тут же подумал, что это просто невозможно. Еще Михалыча туда-сюда. А уж Кольку! Да тот прямо на «ура» подымет.
Про все это, что пришло мне в голову, я Леве ничего не сказал, да и вообще говорить на эту тему и ему самому, видно, больше не хотелось. Мы заговорили совсем о другом – о школе. Лева жалел, что у нас совсем задаром проходит время. Так ведь и весь год пройдет, и другой, и третий… Как тогда будем в университет поступать? Теперь я с ним уже не спорил, конечно, он был прав. Не спорил я и потому, что в тайне души хорошо знал: исправить-то ничего не возможно, значит, хочешь не хочешь, а этот годок все равно погуляем!
Под конец пути, когда мы уже входили в город, Лева вдруг предложил:
– А давайте сами, одни заниматься.
– То есть как – сами, без учителей?
– Конечно. А что же тут особенного? Устроим кружок по самообразованию, книжки достанем и будем сами учиться.
– Да кто ж в этот кружок пойдет? – поинтересовался я.
– Ну, для начала хоть ты, я, Толя Латин…
– Толя Латин? – переспросил я.
– Ну да. Он мне недавно говорил, что хочет на художника дальше учиться, в академию поступить А как же в академию без средней школы-то?
– Конечно, конечно, – подтвердил я.
Но сам подумал: «Будет тебе Толька сам, без учителей, заниматься! Держи карман шире». Насчет себя я тоже не очень был уверен. Но мне не хотелось сразу разочаровывать Леву. Поэтому я сказал, что его идея с кружком очень интересна и ее надо как следует обдумать. На этом мы и простились.
В ГОСТЯХ У МАРГАРИТЫ ИВАНОВНЫ
Это случилось совершенно неожиданно. Мы с Левой возвращались вечером после какого-то школьного собрания и вдруг столкнулись на улице с Маргаритой Ивановной. Она была такая веселая, довольная, так вся и сияла.
– Вы откуда и куда бредете? – спросила нас.
Мы сказали, что из школы и домой.
– Идемте лучше ко мне в гости, – неожиданно предложила Маргарита Ивановна. – Я вас чаем с вареньем напою и сыграю что-нибудь хорошее, если захотите.
Мы с Левой украдкой переглянулись: идти или нет? Пойти, пожалуй, интересно, только как-то неловко: с чего вдруг?
– А у меня сегодня радость, – улыбаясь и как бы читая наши мысли, сказала Маргарита Ивановна. – Знаете, все мои голубки откуда-то домой вернулись.
– Вернулись, прилетели! – обрадовались и мы не меньше самой Маргариты Ивановны.
– Вернулись, вернулись, – расплываясь в счастливой улыбке, повторяла Маргарита Ивановна. – Сегодня утром просыпаюсь и понять ничего не могу: чудится мне, что где-то совсем рядом голуби воркуют. Какие голуби, откуда они взялись – голубятня-то пустая? «А вдруг…» – думаю и поверить сама себе боюсь. Все-таки вскочила с постели, выглянула в окно, а они, мои голубки-то, по крыше сарая возле голубятни разгуливают, носами в дверку стучат, просятся, чтобы их домой пустили. Не помню, как я оделась, во двор выскочила, и тут вдруг страх на меня напал: ну как они от дома отвыкли? Полезу на крышу в голубятню дверцу открыть, а они поднимутся и улетят. Ни жива ни мертва, а все-таки залезла. Ничего, сидят, только шеи вытянули, насторожились. Я за дверцу взялась, потихонечку открыла. Гляжу: все разом в голубятню. Заворковали, засуетились там, родному дому, видно, очень обрадовались. Ну и я тут на радостях давай кормить, поить их, а сама гляжу не нагляжусь. Пересчитала – все тут. Еще раз пересчитала: не ошиблась ли? Нет, все до единого.
– А вы нам их покажете? – спросил я.
– Покажу, конечно, покажу, – охотно согласилась Маргарита Ивановна.
– Тогда пошли? – предложил я Леве.
– Пошли, если зовут, – улыбнулся он.
И мы втроем свернули в боковую улицу.
Квартира у Маргариты Ивановны была очень миленькая. Одна комнатка и закуточек-кухонька. Но как все было уютно, чисто, хорошо! В комнатке у стены стояло старенькое пианино, а над ним висело много каких-то фотографий.
Пока Маргарита Ивановна зашла в кухню, чтобы поставить самоварчик, мы с Левой принялись рассматривать фотографии на стене. Там были какие-то пожилые люди – мужчины и женщины. А вот карточка какого-то совсем молодого военного.
– Прапорщик! – сказал Лева. – Видишь, на погонах одна звездочка.
– А как на Маргариту Ивановну похож! Посмотри-ка, прямо одно лицо. Только она толстая, а этот худой.
Лева в знак согласия кивнул головой.
– Должно быть, брат, – сказал он.
В это время в комнату с чашками в руках вошла сама Маргарита Ивановна.
– Фотографии разглядываете? – спросила она. – Это вот сын мой, офицером был.
– Почему был, а сейчас?.. – Я сказал и запнулся, невольно догадавшись.
– Да, да, – кивнула Маргарита Ивановна, – убили его. В первый же год войны погиб. – Она подошла к нам, тоже стала смотреть на карточку. – Андрюша его звали. Мы с ним тогда не здесь, в Ефремове жили. – Она помолчала, как бы вспоминая что-то, потом снова заговорила: – Помню, получила известие о его смерти, кажется, все в душе оборвалось. И жить незачем. Брожу по Ефремову и все жду: вот-вот его встречу. Может, думаю, купаться пошел или в лес за грибами. До того, ребятки, додумалась, чуть с ума не сошла. Уж один врач-старичок посоветовал: «Вы, Маргарита Ивановна, временно поезжайте куда-нибудь, чтобы от своих мыслей хоть немножко отключиться». А куда ехать, разве от самой себя уедешь куда-нибудь? Только тут, на мое счастье, предложили мне месяца на два в Чернь съездить. Какой-то помещик умер, жена в библиотеку книги пожертвовала, по музыке много книг и ноты разные. Вот меня и попросили поехать и разобраться во всем этом. Я думаю: и правда, съезжу-ка, хоть отвлекусь немного. Приехала, начала разбираться. Днем в библиотеке сижу, а вечером на речку отправляюсь. И до того мне ваша Чернь понравилась, что я и решила тут остаться. Сняла вот эту комнатенку и добро свое сюда из Ефремова перевезла. А какое у меня добро-то? Самое ценное – это инструмент. – Она кивнула головой в сторону пианино. – Инструмент да голуби. Очень Андрюша мой голубей любил, и почему-то именно белых. Андрюши-то давно уж и в живых нет. Зато я теперь вместо него этим делом занимаюсь, в память об Андрюше.
Я слушал Маргариту Ивановну, и вдруг мне стало все понятно: почему она, пожилая, толстая, а лазает по крыше и гоняет голубей да еще с мальчишками из-за них воюет. Стало понятно, почему она так огорчилась, когда все голуби враз пропали. Пропали-то, значит, не голуби, а последняя память о сыне. Голуби то его или их дети – все равно его детище, его хозяйство.
Мы с Левой попросили, чтобы Маргарита Ивановна слазила с нами на голубятню и показала своих питомцев. Она очень охотно согласилась. Вышли во двор, по узенькой лесенке поднялись на голубятню. Там было все так же чисто и аккуратно, как и в комнате самой Маргариты Ивановны. Голуби, сытые, прибранные, сидели парочками, изредка переговариваясь друг с другом.
– Вот так же, бывало, залезу вместе с Андрюшей, – сказала Маргарита Ивановна. – Он мне своих любимцев показывает: этот тем-то хорош, а другой еще чем-нибудь. Я слушаю Андрюшу, головой в знак согласия киваю, будто понимаю, а сама-то даже голубей одного от другого отличить не могу, все белые, мохноногие, все на одно лицо. А вот как не стало идрюши, тут-то я начала к его питомцам приглядываться. И вправду ведь: один на другого совсем не похож, и лица у них разные, и фигуры, а уж про попа дки и говорить нечего: один суетливый, беспокойный, другой, наоборот, флегматичный, один заботливый – он и от голубки не отходит, и от птенцов тоже, а другому и семьи не нужно, только бы полетать, в небе покувыркаться. Если бы я писательницей была, обязательно книгу бы о голубях написала. Не о том, как их разводить, нет, об этом уже много написано, я бы о характерах, об их отношении друг к другу, о их семейной жизни написала. Очень все это интересно. Иной раз, когда свободное время есть, загляну сюда, сижу тихонько и наблюдаю за своими голубками, разговариваю с ними об их прежнем хозяине – об Андрюше рассказываю. Только он-то не слышит этого и голубков своих уж никогда больше не увидит. Ну, что ж поделать, видно, так уж суждено, на то и война, чтобы люди гибли…
Осмотрев голубей, мы вернулись в комнату. Маргарита Ивановна принесла крохотный кипящий самоварчик и напоила нас чаем с душистым свежим вареньем. Самовар стоял на столе, шипел, пускал тонкую струйку белого теплого пара. От этого пара запотели окна, стали матовые. А за окном уже сгущались ранние осенние сумерки.
– Ишь как стекло запотело. Значит, холодно на дворе, – сказала Маргарита Ивановна.
После чая она показывала нам толстый альбом с фотографиями. Там и она, еще молодая, совсем худенькая, ее муж – толстый, с бородой, с усами, чем-то очень похожий на Михалыча. И Андрюша был снят много раз: совсем маленьким на руках у Маргариты Ивановны, и потом мальчишкой-подростком, и еще старше, вроде нас с Левой, и под конец уже офицером в военной форме.
– Это перед самой отправкой на фронт, – сказала Маргарита Ивановна и, забрав у нас альбом, предложила: – Ну, хотите, я вам что-нибудь поиграю?
– Очень, очень хотим.
– А что же мне вам поиграть?
На этот вопрос мы совсем не знали, что ответить. Наши музыкальные сведения были так невелики. Но Маргарита Ивановна решила сама:
– Я вам поиграю то, что Андрюша любил, – Чайковского, «Времена года».
– Какие «Времена года»? – не понял я.
– Это так называются его фортепьянные пьесы. Двенадцать пьес, по числу месяцев, и каждая рисует картинку, соответствующую какому-нибудь месяцу. Помните, я вам в школе как-то рассказывала, что звуками так же, как красками или карандашом, можно рисовать. Вот Чайковский умел это делать, как никто другой. Слушаешь его и действительно видишь то, что он хотел в своей вещи изобразить. – Маргарита Ивановна достала с полки тетрадку нот. – Темно, нужно свет зажечь, – сказала она. Взяла со стола спички, но вместо лампы зажгла две свечи, вставленные в специальные боковые подсвечники, укрепленные на передней стенке пианино.
В комнате сразу так хорошо запахло горящими свечами, будто на елке. И сама комната стала еще уютнее, вся в сереньких вечерних сумерках, одно пианино только освещено неровным, колеблющимся светом свечей да на потолке такой же неяркий колеблющийся отсвет.
– Ну, слушайте, – сказала Маргарита Ивановна, усаживаясь на круглый стульчик перед пианино. – Вы знаете, кто такой Чайковский?
– Знаем: «Евгений Онегин», «Пиковая дама», – поспешили мы с Левой наперебой блеснуть своими познаниями.
– Верно, верно. Эти оперы он написал. Чудесные оперы, чудесная музыка, – сказала Маргарита Ивановна, – но, кроме этого, он написал еще очень много разных музыкальных произведений. Вот и «Времена года» тоже написал. А почему именно «Времена года»?
Вот этого мы, конечно, не знали.
– Потому, что Чайковский очень любил природу, – сказала Маргарита Ивановна, – вообще больше всего в жизни он любил три вещи: музыку, свою родину и свою родную русскую природу. В его музыке очень часто встречаются картины природы, но «Времена года» уже целиком посвящены ей. Это, конечно, не просто картины – зима, лето… Нет, это то настроение, которое рождается в нас, когда мы, например, в солнечный морозный день идем по лесной дороге и смотрим на кусты и лиловые тени, лежащие на белом снегу. Вот я вам сейчас сыграю «Март». А подзаголовок у него «Песня жаворонков». Конечно, никакой птичьей песни вы не услышите, даже намека нет на нее, зато весеннее настроение очень хорошо чувствуется. Представьте себе: вы распахнули дверь. Сошли с крыльца в старый, заваленный снегом сад, пошли по березовой аллее. Кругом все еще бело, всюду снег. Но солнце светит уже по-весеннему, и настроение у вас такое же весеннее. И радостно, и ждешь чего-то, и немножко грустно, что столько весен уже позади, и в душе невольно возникает какая-то мелодия, звенящая и немножко печальная. Вот слушайте ее…
Маргарита Ивановна заиграла. А мы с Левой сидели, притулившись в уголках старенького дивана, слушали, как такое же старенькое пианино звенит, и поет, и рассказывает о чем-то: может, о весне, а может, и совсем об ином… И я вдруг вспомнил, как Михалыч читал как-то вечером стихи Толстого «Алеша Попович». Мне они очень понравились. Я их почти сразу запомнил. Там тоже все про пение, про музыку, и так хорошо про это сказано:
Песню кто уразумеет?
Кто поймет ее слова?
Но от звуков сердце млеет
И кружится голова…
Вот и теперь, слушая Маргариту Ивановну, я, по совести, сколько ни пытался, не мог себе вообразить ни сада, ни березовой аллеи… «А нужно ли непременно что-нибудь себе представлять, – подумал я, – когда на душе и так хорошо?»
Потом Маргарита Ивановна играла «Сентябрь» – охоту. Вот это представить себе было легко. Слушаешь и действительно будто видишь, как охотники верхом на конях отправляются на охоту с борзыми. Даже как будто охотничий рог слышится. И так все это бодро, весело. Ну, прямо кажется: сели на коней да и поскакали.
– А это «Октябрь» – осенняя песня, – сказала Маргарита Ивановна. – Эпиграфом к ней Петр Ильич взял первые строки из стихотворения А. Толстого:
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят.
Такие грустные картины, – сказала Маргарита Ивановна, – были понятны, близки и даже просто сродни самому Чайковскому. Петр Ильич в личной жизни был очень несчастливый человек, совсем одинокий, всегда задумчивый, с тревожной, впечатлительной душой. Потому-то ему особенно удавалась именно такая музыка, где чувствуется раздумье над жизнью и неутешная грусть о том, что так быстро и невозвратно все проходит. – Маргарита Ивановна взглянула в ноты и еще раз прочитала:-«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» Вот и листья на деревьях когда-то были сочные, зеленые, полные свежих соков, а теперь они высохли, пожелтели, падают с веток на землю. Скоро зима. Грустно. Жалко ушедшего лета, как жалко прожитой жизни… Ведь и в жизни человека тоже наступает осень, когда все молодое, светлое, радостное уже позади. Слушайте, дорогие мои, Чайковский расскажет вам об этом лучше меня. – И Маргарита Ивановна тихонько заиграла.
А под конец она сыграла «Ноябрь», «Тройку». Вот тут все сразу ясно и понятно, будто сам сидишь в санках и слушаешь, как звенят, переговариваются бубенчики. А по сторонам поля, перелески… Так бы вот ехал и ехал куда глаза глядят. И мне вдруг захотелось, чтобы поскорее наступала зима.
Маргарита Ивановна кончила играть, зажгла настольную лампу со стеклянным розовым абажуром, а свечи потушила. Над свечами закурился сизый дымок, и опять в комнате празднично запахло зажженной елкой.