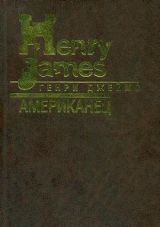
Текст книги "Американец"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Бенджамину Бэбкоку.
P. S. Луини ставит меня в тупик».
Это письмо, с одной стороны, развеселило Ньюмена, с другой – вызвало почтительное восхищение. Сначала рассуждения о чувствительной совести мистера Бэбкока представились ему грубым фарсом, а его повторную поездку в Милан с единственной целью запутаться во впечатлениях еще больше он посчитал карой за педантизм, карой изощренной, нелепой, но заслуженной. Потом наш герой стал думать, что все написанное Бэбкоком весьма загадочно; а вдруг он – Ньюмен – и впрямь злорадный, гнусный циник и его отношение к сокровищам искусства и к радостям жизни в самом деле низменно и безнравственно? Надо сказать, что Ньюмен глубоко презирал безнравственность и в тот вечер, когда получил письмо, добрых полчаса, любуясь отражением звезд в теплом Адриатическом море, чувствовал себя виноватым и подавленным. Он не мог придумать, как ответить на письмо Бэбкока. Природное добродушие не позволяло ему рассердиться на самоуверенные увещевания молодого священника, а стойкое, никогда не изменявшее ему чувство юмора не давало отнестись к ним серьезно. Ньюмен так и не ответил на письмо, а спустя день или два наткнулся в лавке, торговавшей всякой всячиной, на забавную статуэтку шестнадцатого века, которую отправил Бэбкоку без всяких объяснений. Фигурка из слоновой кости изображала костлявого аскетичного монаха с длинным постным лицом; одетый в рваную сутану с капюшоном, он стоял на коленях, молитвенно сложив руки. Резьба была необыкновенно тонкой, и сквозь одну из прорех сутаны можно было разглядеть жирного каплуна, привязанного к поясу монаха. Что имел в виду Ньюмен, посылая Бэбкоку эту статуэтку? Хотел ли он сказать, что будет стараться стать таким же «высокоморальным», каким казался монах на первый взгляд? Или желал выразить опасения, что собственные стремления Бэбкока к самосовершенствованию могут оказаться столь же безуспешны, как и у молящегося, более внимательный взгляд на которого позволяет судить о тщетности его усилий? Не стоит думать, будто Ньюмен решил посмеяться над аскетизмом самого Бэбкока, ведь такая шутка и впрямь была бы циничной. Но, как бы то ни было, он сделал своему бывшему спутнику весьма щедрый подарок.
Покинув Венецию, Ньюмен через Тироль приехал в Вену, а затем через Южную Германию свернул на запад. Осень застала его в Баден-Бадене, где он провел несколько недель. Место было прелестное, и он не спешил уезжать, кроме того, ему хотелось оглядеться и решить, где обосноваться на зиму. Лето подарило ему уйму впечатлений, и, сидя под вековыми деревьями на берегу маленькой речки, весело бегущей мимо клумб Баден-Бадена, он перебирал эти впечатления в памяти. Он много повидал, многое понаблюдал и много сделал, многое доставило ему удовольствие, он чувствовал, что стал старше, и в то же время ощущал себя помолодевшим. Ему вспомнился мистер Бэбкок и то, как молодой священник стремился составить обо всем свое мнение, вспомнилось и то, что сам он не извлек никакой пользы из стараний своего спутника привить ему ту же достойную привычку. Неужели он не может наскрести хотя бы несколько собственных умозаключений? Нет города прелестней Баден-Бадена, а вечерние симфонические концерты под звездным небом – поистине великолепный новый обычай! Вот оно – одно из его умозаключений! И, продолжая размышлять, Ньюмен пришел к выводу, что поступил очень мудро, когда решил сняться с места и поехать за границу. Знакомиться с миром чрезвычайно интересно! Он многое узнал, сейчас он еще не может сказать, что именно, но все надежно припрятано у него в голове под шляпой. Он сделал то, что хотел: повидал великие творения и дал своему уму шанс усовершенствоваться, если только его бедным мозгам это под силу. Ньюмен бодро уверял себя, что его старания увенчались успехом. Да, смотреть вот так на мир очень приятно, и он с удовольствием продлил бы это занятие. Ему тридцать шесть – впереди еще целая прекрасная полоса жизни, и пока нет нужды отсчитывать недели. Что же ему завоевывать дальше? Как я уже говорил, Ньюмен помнил глаза леди, которую застал в гостиной миссис Тристрам; прошло четыре месяца, а он еще не забыл их. За время своих странствий он не раз вглядывался – заставлял себя вглядываться – в другие глаза, но в памяти вставали только эти – глаза мадам де Сентре. Если он хочет узнать жизнь лучше, не в ее ли глазах он обретет ответ? Нет сомнений, они откроют ему целый мир, а уж земной или небесный, называйте, как хотите. Среди всех этих довольно беспорядочных размышлений он иногда вспоминал свою прежнюю жизнь и длинную череду лет (ведь трудиться он начал очень рано), когда его занимало только одно – «прибыльное дело». Теперь эти годы казались ему далекими, так как нынешняя его жизнь была не просто каникулами, а скорее полным разрывом с прошлым. Он как-то заметил Тристраму, что маятник качнулся в обратную сторону и оказалось, это движение продолжается. Прибыльные дела, с которыми пока было покончено, все еще занимали его ум, представляясь ему в разное время по-разному. Мысль о них сразу вызывала в памяти сотни забытых, теснящих друг друга эпизодов. Некоторые он вспоминал с благодушным удовлетворением, от других отворачивал взгляд. Все это было давным-давно – давняя борьба и подвиги, канувшие в прошлое, примеры «ловкости» и сообразительности. Некоторыми из тех давних дел он, несомненно, гордился, восхищался собой, словно речь шла о другом человеке. Ему и правда было чем гордиться – он мысленно перебирал все свои качества, позволившие ему вершить большие дела, – решительность, упорство, смелость, предприимчивость, верный глаз и твердая рука. Что касается некоторых его поступков, то сказать, будто Ньюмен стыдился их, было бы преувеличением – он никогда не имел склонности к грязным сделкам. Провидение наделило его способностью инстинктивно, одним ударом срывать личину с любого соблазна, каким бы привлекательным этот соблазн ни прикидывался. И конечно, уж кого-кого, а его непростительно было бы упрекнуть в недостатке честности. Ньюмен с первого взгляда отличал жульничество от честной игры и, сталкиваясь с ним, как правило, испытывал живейшее отвращение. Тем не менее кое-что из приходившего ему на память сейчас выглядело довольно непривлекательным и, более того, неблаговидным, и ему даже стало казаться, что если он никогда не сделал ничего особенно плохого, то, с другой стороны, ни разу не сделал и ничего поистине стоящего. Свои годы он потратил на упорное наращивание и умножение имевшихся у него тысяч, и теперь, когда перестал этим заниматься, добывание денег казалось ему занятием весьма сухим и бесплодным. Однако легко насмехаться над этим занятием, когда карманы уже набиты. Заметим к тому же, что в столь благородные рассуждения Ньюмену следовало пуститься несколько раньше. Правда, на это можно возразить, что при желании он мог бы нажить еще одно, не меньшее состояние, добавим к тому же, что он вовсе не занимался самобичеванием. Просто ему думалось, что все лето он любовался миром богатым и прекрасным, где далеко не все было создано предприимчивыми владельцами железных дорог и биржевыми маклерами.
В Баден-Бадене Ньюмен получил письмо от миссис Тристрам, она журила нашего героя, почему это он сообщает своим друзьям лишь скудные сведения о себе, и просила дать ей решительные основания надеяться, что он не вынашивает никаких ужасных планов зазимовать в дальних странах, а исполнен разумных намерений в скором времени вернуться в самый приятный город в мире. Ньюмен ответил ей вот таким письмом:
«Я думал, Вы знаете, что я не мастер писать письма, и потому ничего от меня не ждете. Не уверен, что за всю свою жизнь написал хотя бы десятка два не деловых, а чисто дружеских писем; в Америке вся моя корреспонденция сводилась к телеграммам. Это письмо – чисто дружеское и представляет собой достопримечательность, которую, надеюсь, Вы оцените. Вас интересует, что произошло со мной за эти три месяца? Чтобы рассказать об этом, лучше всего отправить Вам с полдюжины моих путеводителей с карандашными пометками на полях. По ним Вы сможете узнать, что всюду, где окажутся подчеркнутые слова, крестик или заметки: „Прекрасно!“, „Вот это да!“ или „Ни то ни се“, я испытывал потрясение того или иного свойства. Вот так протекала моя жизнь с тех пор, как я расстался с Парижем: Бельгия, Голландия, Швейцария, Германия, Италия – все это мной проштудировано и, думаю, пошло мне на пользу. По-моему, о Мадоннах и церковных шпилях я теперь знаю больше всех на свете. Я видел множество прекрасных вещей и, вероятно, буду рассказывать о них зимой у Вашего камина. Как видите, я вовсе не против возвращения в Париж. У меня были всевозможные планы и мечты, но Ваше письмо почти все их развеяло. Как гласит французская пословица: „L’appétit vient en mangeant“, [60]60
Аппетит приходит во время еды (франц.).
[Закрыть]и я убеждаюсь, что чем больше вижу, тем больше мне хочется увидеть. Раз уж я вступил на этот путь, почему бы мне не пройти его до конца? Иногда я подумываю о Востоке и на языке у меня вертятся названия восточных городов: Дамаск, Багдад, Медина, Мекка. Месяц назад я провел неделю с вернувшимся из тех краев миссионером, и он уверял меня, что стыдно слоняться по Европе, когда на Востоке можно увидеть столько поистине великого. Я с удовольствием бы туда отправился, но, думаю, мне, пожалуй, лучше отправиться на Университетскую улицу. Что слышно о той прелестной леди? Если бы Вам удалось выудить у нее обещание, что она будет дома, когда мне вздумается снова нанести визит, я бы немедленно вернулся в Париж. Я более, чем когда-либо, уверен в том, о чем мы с Вами тогда говорили: мне нужна первоклассная жена. Из всех хорошеньких девушек – а я ко многим присматривался – ни одна не соответствует моим требованиям, даже не приближается к ним. Все, что я повидал здесь, радовало бы меня в тысячу раз больше, если бы рядом со мной была та, вышеупомянутая мной леди. Мне же пришлось довольствоваться обществом священника-униата из Бостона, который очень скоро потребовал развода из-за несовместимости характеров. Он заявил, что я низок душой и аморален, а также приверженец „искусства ради искусства“, что бы это ни означало; его слова глубоко огорчили меня, потому что на самом деле он – славный малый. Потом мне встретился англичанин, с которым я завязал знакомство, поначалу казавшееся многообещающим, – очень смышленый юноша, он печатается в лондонских газетах и знает Париж почти так же хорошо, как Тристрам. С неделю мы странствовали вместе, но затем и он с отвращением отринул меня: я, мол, невыносимо добродетелен и чересчур строгий моралист. Мое проклятие – сообщил он по-дружески – щепетильная совесть; я подхожу ко всему как методистский священник и рассуждаю как старая леди. Это привело меня в немалое замешательство. Кому из двух моих критиков верить? Я не очень расстроился и скоро пришел к заключению, что оба они – болваны. В одном вряд ли у кого хватит дерзости укорять меня – в том, что я остаюсь Вашим верным и преданным другом.
К. Н.»
Глава шестая
Отказавшись от мысли посетить Багдад и Дамаск, Ньюмен еще до конца осени вернулся в Париж. Он поселился в комнатах, которые подыскал ему Том Тристрам, причем тот руководствовался собственными соображениями насчет того, что, как он выражался, соответствует положению Ньюмена в обществе. Ньюмен же, услышав, что при подыскании квартиры надо сообразовываться с положением в обществе, сразу заявил, что ничего в таких делах не понимает, и упросил Тристрама взять эту заботу на себя.
– Вот уж не подозревал, что занимаю в обществе какое-то положение, – объяснил он. – А если и занимаю, то не имею ни малейшего представления какое. По-моему, занимать в обществе положение означает, что ты можешь пригласить на обед тысячу или две тысячи человек. А здесь я знаю только тебя, твою жену и милого месье Ниоша, который прошлой весной давал мне уроки французского. Могу ли я пригласить вас всех на обед, чтобы вы познакомились? Если могу, приходите завтра же.
– Вы не слишком-то любезны по отношению ко мне, – заметила миссис Тристрам. – Не я ли весной представляла вас всем, кого только знаю?
– Да и верно, я совсем забыл. Но мне казалось, вы и хотите, чтобы я позабыл об этих знакомствах, – сказал Ньюмен с тем давно усвоенным простодушием, которое часто отличало его высказывания, отчего собеседники терялись: что это – добродушное, хотя и несколько странное подчеркивание своей наивности или смиренная претензия на проницательность. – Вы же сами говорили, никто из них вам не нравится.
– О, вы делаете мне честь, вы хотя бы это запомнили! – воскликнула миссис Тристрам. – Однако впредь, прошу вас, не держите в памяти злонамеренных высказываний, запоминайте только добрые. Это совсем нетрудно, да и не перегрузит вашу память. Но хочу вас предостеречь – если вы доверите моему мужу подобрать вам комнаты, вы обречены ужас что получить.
– Ужас, дорогая? – вскричал мистер Тристрам.
– Сегодня я не настроена говорить гадости, а то выразилась бы еще определеннее.
– Как ты думаешь, Ньюмен, что бы она сказала, – засмеялся Тристрам, – пожелай она действительно выразиться определеннее? Ведь она может свободно излить свое неудовольствие на нескольких языках! Это дает ей передо мной неоспоримое преимущество – меня хоть режьте, выругаться я могу только по-английски. Когда я злюсь, я сразу возвращаюсь к нашему дорогому родному языку. По мне, так лучше его на свете нет.
Ньюмен объявил, что совершенно не разбирается в столах и стульях и, поскольку речь идет о жилье, с закрытыми глазами примет все, что предложит ему Тристрам. Отчасти это была чистая правда, но отчасти – потворство другу, ведь наш герой прекрасно знал, что из всех возможностей убить время для сердца Тристрама нет ничего милей, чем рыскать по городу в поисках квартиры, осматривать комнаты, заставлять хозяев открывать окна, тыкать тростью в диваны, судачить с хозяйками и выведывать, кто живет наверху, кто – внизу; Ньюмен тем более был склонен передать все хлопоты в руки Тристрама, что понимал: его услужливому приятелю заметно некоторое охлаждение в их былых отношениях. Кроме того, Ньюмен не отличался должным вкусом в выборе обоев, драпировок и обивок и был не слишком изощрен в требованиях к удобству и уюту. Он тяготел к роскоши и комфорту, но вполне удовлетворял эту тягу с помощью незамысловатых приспособлений. Он вряд ли замечал разницу между жестким стулом и креслом и обладал способностью вытягивать свои длинные ноги, развалившись на любом из них и прекрасно обходясь без каких-либо более затейливых удобств. Комфорт, по его мнению, заключался в том, чтобы жить в очень просторных комнатах, иметь их много и знать, что в каждой из них к его услугам богатый выбор патентованных изобретений, пусть даже половиной из них вряд ли представится случай воспользоваться. Наш герой любил, чтобы комнаты были светлые, чистые, с высокими потолками, чтобы, как он однажды заметил, в них не хотелось снимать шляпу. В остальном Ньюмена вполне удовлетворяли заверения любой уважаемой особы, что все «в лучшем виде». Соответственно Тристрам подыскал ему апартаменты, к которым можно было с полным правом применить это определение. Они находились на бульваре Османа, на первом этаже, и состояли из анфилады комнат, с пола до потолка покрытых позолотой толщиной чуть ли не в фут, с атласными драпировками светлых тонов и обставленных в основном зеркалами и часами. Ньюмен нашел квартиру великолепной, от всего сердца поблагодарил Тристрама, немедленно вступил во владение, и один из его нераспакованных чемоданов в течение трех месяцев красовался посреди гостиной.
Настал день, когда миссис Тристрам объявила ему, что ее подруга красавица мадам де Сентре вернулась из своего загородного поместья, она встретила ее три дня назад, когда та выходила из церкви Сен-Сюльпис; сама миссис Тристрам поехала в такую даль в поисках некой кружевницы, о мастерстве которой была много наслышана.
– И что вы скажете об интересующих меня глазах? – спросил Ньюмен.
– Глаза покраснели от слез, если вам хочется знать, – отвечала миссис Тристрам. – Она была на исповеди.
– Это не согласуется с вашим рассказом о ней, – заметил Ньюмен. – Разве у нее есть грехи, в которых нужно исповедоваться?
– Речь шла не о грехах, а о страданиях.
– Откуда вы это знаете?
– Она пригласила меня к себе. Сегодня утром я была у нее.
– И что же за причина ее страданий?
– Я не спрашивала. С ней приходится вести себя крайне сдержанно. Но догадаться нетрудно. Причина тому – злая старуха-мать и братец-тиран. Они всячески ее донимают. Впрочем, я была бы готова простить их: она, как я вам уже говорила, святая и недостает только страданий, чтобы эта святость проявилась до конца, а она обрела мученический венец.
– Очень удобная теория. Надеюсь, вы не собираетесь делиться ею с ее любезными родственниками? Почему она позволяет им себя мучить? Разве она не хозяйка сама себе?
– Полагаю, юридически – да, но морально – нет. Во Франции, что бы мать ни потребовала, отказывать ей нельзя. Пусть она даже самая отвратительная старуха в мире и превратила вашу жизнь в пытку, она прежде всего – ma mère, [61]61
Моя мать (франц.).
[Закрыть]и никто не имеет права ее судить. Нужно просто подчиняться. Но во всем этом есть и своя притягательная сторона – мадам де Сентре может красиво склонить голову и сложить крылья.
– Не может ли она хотя бы брата заставить не вмешиваться в ее дела?
– Ее брат – chef de la famille, [62]62
Глава семьи (франц.).
[Закрыть]как тут говорят; он глава клана. Для этих людей семья – все: вы обязаны жить не ради собственного удовольствия, а в интересах семьи.
– Хотелось бы знать, чего бы требовала от меня моя семья? – воскликнул Тристрам.
– Жаль, что у тебя ее все равно что не было, – сказала его жена.
– Но чего они хотят от бедной графини? – спросил Ньюмен.
– Чтобы она снова вышла замуж. Они небогаты. Они хотят, чтобы она принесла в семью деньги.
– Вот он, твой шанс, милый мой! – заметил Тристрам.
– А мадам де Сентре возражает? – продолжал расспрашивать Ньюмен.
– Ее уже продали один раз; и она, естественно, не хочет быть проданной вторично. В первый раз сделка оказалась неудачной: месье де Сентре оставил жалкие гроши.
– За кого же они хотят выдать ее на этот раз?
– Я решила, что лучше не спрашивать; но можете не сомневаться – за какого-нибудь мерзкого богатого старика или за беспутное титулованное ничтожество.
– Вот тебе миссис Тристрам во всей красе! – вскричал ее супруг. – Обрати внимание – какая сила воображения. Не задав ни единого вопроса – ведь задавать вопросы вульгарно, – она тем не менее знает все. Все об истории замужества мадам де Сентре. Она уже видит прелестную Клэр на коленях с распущенными локонами, с глазами, полными слез, а вся семья собралась вокруг с орудиями пытки, и, если она откажет подвыпившему герцогу, все скопом обрушатся на нее. А на самом деле речь наверняка идет лишь о том, что ей отказывают в деньгах на модистку или на ложу в опере.
Ньюмен переводил недоверчивый взгляд с Тристрама на его жену.
– Вы и впрямь уверены, – спросил он миссис Тристрам, – что вашу подругу вынуждают на такой опасный шаг?
– Я считаю это в высшей степени вероятным. Ее родные вполне на подобное способны.
– Совсем как в мелодраме! Очень похоже! – сказал Ньюмен. – Старый мрачный дом, в котором уже свершилось что-то скверное и может свершиться впредь.
– Их дом в окрестностях Пуатье еще мрачнее. Мадам де Сентре рассказывала мне о нем. Там-то летом, видно, и зародился этот план – вторично выдать Клэр замуж.
– Вот именно «видно»! Не забывай, что ты этого не знаешь! – вставил Тристрам.
– В конце концов, – заметил Ньюмен после некоторого молчания, – она ведь может страдать из-за чего-то другого.
– Тогда это другое – что-то еще более страшное, – убежденно заявила миссис Тристрам.
Ньюмен молчал; казалось, он весь ушел в раздумья.
– Неужели, – спросил он наконец, – здесь возможны подобные вещи? Чтобы беззащитную женщину запугивали и принуждали выйти за человека, который ей ненавистен?
– Беззащитным женщинам во всем мире живется трудно, – сказала миссис Тристрам. – Их повсюду запугивают и принуждают.
– И в Нью-Йорке такое сплошь и рядом случается, – вставил Тристрам. – Девушек уговаривают, запугивают, подкупают, а то и делают все это одновременно, и выдают за мерзавцев. Это да и другие гадости на Пятой авеню – дело обычное. Ох уж эти тайны Пятой авеню! Давно пора, чтобы кто-то открыл их миру.
– Не верю! – очень серьезно сказал Ньюмен. – Чтобы в Америке девушек принуждали – не верю! Дай Бог, если у нас в стране со дня ее основания набралась хотя бы дюжина подобных случаев.
– Вот он – глас парящего орла! – воскликнул Тристрам.
– Парящему орлу неплохо бы использовать свои крылья, – сказала миссис Тристрам. – Пусть летит спасать мадам де Сентре.
– Спасать?
– Пусть ринется вниз, схватит ее и унесет. Женитесь на ней сами.
Ньюмен не сразу нашелся с ответом.
– Полагаю, – сказал он после паузы, – разговоры о замужестве ей уже надоели. Самое достойное было бы восхищаться ею, а о замужестве и не заговаривать. Вся эта история позорна, – добавил он. – Даже слушая, я выхожу из себя.
Однако ему пришлось выслушивать эту историю еще не раз. Миссис Тристрам снова повидалась с мадам де Сентре и снова нашла, что у той очень печальный вид. Только на этот раз в ее красивых глазах она не заметила слез, они были ясные и сухие.
– Она холодна и спокойна, ни на что уже не надеется, – заявила миссис Тристрам и добавила, что, когда в разговоре с мадам де Сентре упомянула о мистере Ньюмене и сообщила, что он снова в Париже и верен своему желанию ближе узнать мадам де Сентре, эта прелестная женщина, несмотря на отчаяние, нашла в себе силы улыбнуться и, посетовав, что весной не смогла принять его, выразила надежду, что решимость нанести ей визит его не покинула.
– Я рассказала ей кое-что о вас, – заметила миссис Тристрам.
– Это хорошо, – невозмутимо отозвался Ньюмен. – Я люблю, когда обо мне знают.
Через несколько дней в осенних сумерках Ньюмен снова направился на Университетскую улицу. Уже вечерело, когда он остановился у бдительно охраняемого особняка Беллегардов и осведомился, принимают ли. Ему сказали, что мадам де Сентре дома; он пересек двор, вошел в дальнюю дверь, его проводили через просторный, мрачный и холодный вестибюль, откуда по широкой каменной лестнице со старинными железными перилами провели в покои на втором этаже. Слуга объявил о его приходе, и он очутился в каком-то подобии будуара, обшитом панелями, в дальнем конце которого перед камином сидели двое – леди и джентльмен. Джентльмен курил сигарету, в комнате царил полумрак, она освещалась только двумя свечами и пламенем камина. Оба встали, чтобы поздороваться с Ньюменом, и в слабом свете он узнал мадам де Сентре. Она протянула ему руку с улыбкой, которая одна, казалось, могла бы озарить все вокруг, и, указав на своего собеседника, тихо сказала:
– Мой брат.
Джентльмен искренне и дружески приветствовал Ньюмена, и наш герой узнал в нем того молодого человека, который заговорил с ним во дворе во время его первого визита и уже тогда показался ему славным малым.
– Миссис Тристрам много рассказывала мне о вас, – мягко сказала мадам де Сентре, занимая прежнее место у камина.
Расположившись рядом с ней, Ньюмен вдруг задумался, в чем же, собственно, цель его визита. У него возникло необычное для него ощущение, будто он вторгся в совершенно неведомый ему мир. Вообще говоря, он не был наделен способностью чуять опасность или предвидеть катастрофу и никакого волнения, отправляясь сюда, не испытывал. Ни робостью, ни наглостью Ньюмен не отличался. Он слишком хорошо относился к себе, чтобы допустить первое, и слишком доброжелательно – к окружающим, чтобы позволить себе второе. Однако иногда его природная проницательность брала верх над добродушием и, как бы легко он ни смотрел на все, ему приходилось признавать, что некоторые вещи не так просты, как кажется. А сейчас у него было такое ощущение, будто вдруг, спускаясь по лестнице, он не обнаружил ступеньку там, где ожидал ее найти. Эта незнакомая прелестная женщина, беседующая с братом у камина в сумрачных глубинах своего, такого негостеприимного с виду дома, – что же ему сказать ей? Казалось, она целиком погружена в свой причудливый мир: на каком основании он решился приподнять отделявшую ее завесу? Мгновение ему казалось, что его затягивает куда-то в пучину – словно его выбросило в океан и надо бороться, чтобы не утонуть. Меж тем он смотрел на мадам де Сентре, которая, повернув к нему лицо, поудобнее усаживалась в кресле и оправляла платье. Их взгляды встретились; она тут же отвела глаза и знаком попросила брата подложить в камин полено. Но этого мига и пронзившего Ньюмена взгляда было достаточно, чтобы он освободился от первого и последнего в своей жизни приступа непривычного замешательства. Он принял любимую позу, всегда свидетельствовавшую о его уверенности в том, что он владеет ситуацией, – вытянул ноги. И вновь оказался во власти того впечатления, которое мадам де Сентре произвела на него при их первой встрече – она поразила его даже сильнее, чем он предполагал. Мадам де Сентре была мила, с ней было интересно: он открыл книгу и первые строчки приковали к себе его внимание.
Мадам де Сентре стала задавать ему вопросы: давно ли он виделся с миссис Тристрам, давно ли вернулся в Париж, сколько времени собирается здесь провести, нравится ли ему город. Она говорила по-английски без всякого акцента – точнее, с тем несомненно британским выговором, который по приезде Ньюмена в Европу поразил его, словно он услышал совершенно чужой язык, правда, в женских устах такой английский чрезвычайно ему нравился. Поначалу какие-то выражения, употребляемые мадам де Сентре, казались ему не совсем правильными, но уже через десять минут Ньюмен ловил себя на том, что ему не терпится услышать эти милые шероховатости еще раз. Они очаровывали его, и он только диву давался, как могут ошибки, даже явные, звучать так изящно.
– У вас красивая страна, – заметила вдруг мадам де Сентре.
– О да, великолепная, – подхватил Ньюмен, – вам непременно надо познакомиться с ней.
– Я никогда ее не увижу, – ответила мадам де Сентре с улыбкой.
– Почему? – удивился Ньюмен.
– Я не путешествую, особенно в такие дальние края.
– Но вы же не всегда живете в городе, иногда и вы уезжаете из Парижа?
– Только летом и недалеко.
Ньюмен хотел спросить у нее еще о чем-нибудь, что касалось ее самой, но он толком не знал о чем.
– Вы не находите, что здесь очень… очень… тихо? – сказал он. – Так далеко от улицы?
Наш герой хотел сказать «очень уныло», но решил, что это будет невежливо.
– Да, здесь очень тихо, – согласилась мадам де Сентре. – Но нам это нравится.
– Нравится? – медленно повторил Ньюмен.
– К тому же я прожила здесь всю свою жизнь.
– Всю жизнь? – так же медленно переспросил Ньюмен.
– Я здесь родилась, а до меня здесь родились мой отец, мой дед и прадед. Все здесь. Так ведь, Валентин? – повернулась она к брату.
– Да, так уж у нас заведено – являться на свет в этом доме, – засмеялся молодой человек; он встал, бросил в огонь окурок и прислонился к камину.
Наблюдательный глаз заметил бы, что ему, пожалуй, хотелось получше рассмотреть Ньюмена, которого он потихоньку изучал, поглаживая усы.
– Значит, ваш дом невероятно старый? – сказал Ньюмен.
– Сколько ему лет, друг мой? – спросила брата мадам де Сентре.
Молодой человек снял с каминной полки две свечи, поднял их повыше и посмотрел на карниз под потолком, проходивший над камином. Карниз был из белого мрамора в привычном для минувшего столетия стиле рококо, но над ним сохранились более старые панели, отделанные причудливой резьбой и покрашенные в белый цвет с сохранившейся местами позолотой. Белая краска пожухла, позолота потускнела. На самом верху узор переходил в некоторое подобие щита, на котором был вырезан герб. Над гербом виднелись рельефные цифры: 1627.
– Вот видите, – сказал молодой человек, – судите сами, старый это дом или новый.
– Знаете, – сказал Ньюмен, – в вашей стране все мерки сильно сдвигаются, – он закинул голову и оглядел комнату. – Ваш дом принадлежит к очень любопытному архитектурному стилю.
– А вы интересуетесь архитектурой? – спросил молодой человек, по-прежнему стоя у камина.
– Как вам сказать, – ответил Ньюмен, – этим летом я не поленился осмотреть, если не ошибаюсь в подсчетах, четыреста семьдесят церквей – быть может, на одну-две больше или меньше. Значит ли это, что я интересуюсь архитектурой?
– Возможно, вы интересуетесь теологией, – ответил молодой человек.
– Не слишком. А вы католичка, мадам? – обратился Ньюмен к мадам де Сентре.
– Да, сэр, – ответила она серьезно.
Ньюмена поразила серьезность ее тона; он откинул голову и снова оглядел комнату.
– А вы никогда не видели эту дату наверху? – вдруг спросил он.
Мадам де Сентре на мгновение замялась.
– Видела в прежние годы, – ответила она.
Ее брат заметил, как Ньюмен оглядывал комнату.
– Может быть, вы хотите осмотреть дом? – предложил он.
Ньюмен медленно опустил глаза и перевел их на молодого человека у камина; у него зародилось подозрение, что тот склонен иронизировать. Это был красивый юноша с закрученными кончиками усов, на его лице играла улыбка, в глазах плясал веселый огонек. «Черт бы его побрал с его французским нахальством, – сказал себе Ньюмен, – чего он усмехается?»
Он взглянул на мадам де Сентре. Она сидела, уставив глаза в пол, но тут подняла их и, встретившись взглядом с Ньюменом, повернулась к брату. Ньюмен снова поглядел на молодого человека и поразился, до чего тот похож на сестру. Это говорило в его пользу. К тому же и первое впечатление от графа Валентина было у нашего героя благоприятным. Его недоверие рассеялось, и он ответил, что был бы очень рад осмотреть дом.
Молодой человек дружелюбно рассмеялся и взялся за свечу.
– Прекрасно! – воскликнул он. – Тогда идем!
Но мадам де Сентре тотчас вскочила и схватила его за руку.
– Ах, Валентин, – сказала она, – что ты надумал?
– Показать мистеру Ньюмену дом, это будет интересная прогулка.
Продолжая держать брата за руку, она с улыбкой повернулась к Ньюмену.
– Не поддавайтесь на его уговоры, – сказала она. – В нашем доме нет ничего интересного. Такое же пропахшее плесенью жилище, как и все старые дома.
– В нем много занятного, – настаивал граф. – Да мне и самому охота по нему пройтись. Такая редкая возможность.
– Не дело ты задумал, брат, – возразила ему мадам де Сентре.
– Ничем не рискнешь, ничего и не получишь, – воскликнул молодой человек. – Ну что, идем?








