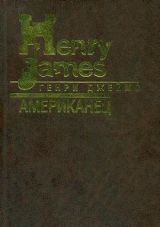
Текст книги "Американец"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Тут миссис Хлебс опять замолчала, и ее драматической паузе мог бы позавидовать самый искусный рассказчик. Ньюмен сделал движение рукой, будто перевернул страницу книги.
– Значит, маркиз действительно умер? – воскликнул он.
– Через три дня он уже лежал в могиле, – неторопливо изрекла миссис Хлебс. – А тогда я немного посидела у его постели, а потом прошла в вестибюль, выглянула во двор и увидела, что мистер Урбан возвращается, да только один. Я подождала, думала, они с миледи поднимутся к маркизу, но они оставались внизу. А я вернулась, села у постели хозяина и поднесла к его лицу свечу. Не знаю, как я ее не выронила, сэр! Он на меня смотрел! Смотрел широко открытыми глазами! Я упала перед кроватью на колени, схватила его руки и стала умолять, чтобы он, ради всего святого, сказал мне, что же с ним – жив он или умер. Он все глядел на меня молча, а потом сделал знак, чтобы я наклонила к нему ухо. «Я мертв, – прошептал он, – маркиза меня убила». Я так и затряслась, понять не могла, что он хочет сказать, что с ним приключилось. Можете себе представить, сэр, – ни живой, ни покойник. «Ну теперь-то, – говорю, – вам станет лучше». И тогда он тихонько так прошептал: «Я уже не воскресну – ни за какие сокровища. Быть этой женщине мужем – нет, ни за что!» И дальше повторил, что она его убила. Я спросила, что она с ним сделала, но он только твердил: «Убила, убила! И дочь мою убьет, мое несчастное дитя». И начал меня умолять, чтобы я не дала мадемуазель пропасть. А потом опять сказал, что умирает. А я боялась от него отойти, сама была ни жива ни мертва. И вдруг он попросил меня взять карандаш и написать под его диктовку. Пришлось признаться, что я писать не умею. Тогда он велел посадить его, чтобы он мог написать сам, а я сказала, что он не сможет, никак не сможет. Но, видно, страх за дочь дал ему силы. Я нашла карандаш, клочок бумаги и книгу, положила бумагу на книгу, вставила маркизу в пальцы карандаш и придвинула свечку. Вам, наверно, трудно поверить в мои слова, сэр, я и сама тогда глазам своим не верила. А главное, я ведь понимала, что он умирает, и очень мне хотелось помочь ему выполнить задуманное. Села я к нему на кровать, обняла одной рукой и так поддерживала. Откуда и силы взялись, мне даже казалось, я могу взять его на руки и отнести куда-нибудь. Просто чудо, что он смог писать, но он строчил, да так размашисто, и исписал почти весь лист с одной стороны. Казалось, он пишет очень долго, а на самом деле прошло, наверно, минуты три-четыре. И все время он страшно стонал. Потом сказал, что больше не может, я опустила его на подушки, и он отдал мне листок и велел сложить, спрятать и передать тем, кто займется его делом. «Кому это? – спросила я. – Кто займется вашим делом?» Но в ответ он только стонал, а говорить от слабости уже не мог. Через несколько минут он, однако, попросил меня подойти к камину и взглянуть на бутылку с лекарством. Я знала, что там микстура, от которой у него утихает боль в желудке. Подошла к камину, посмотрела, а бутылка пустая. Когда я вернулась к маркизу, глаза у него были широко раскрыты и он смотрел на меня, но тут же опустил веки и не вымолвил больше ни слова. Я спрятала записку в карман, даже не заглянула в нее. А ведь читаю я хорошо, хотя писать не умею. И снова уселась у кровати, но миледи с мистером Урбаном пришли только через полчаса. У маркиза вид был точно такой же, как когда они уходили, и я ничего не сказала им о том, что произошло. Мистер Урбан объяснил, что доктора вызвали к роженице, но ему обещали сразу же направить его во Флерьер, как только вернется. Еще через полчаса он и правда приехал, осмотрел маркиза и сказал, что мы зря испугались – больной очень слаб, но, слава Богу, жив. Когда он это говорил, я наблюдала за миледи и ее сыном, и должна сказать, что они даже не переглянулись. Доктор объяснил, что нет оснований думать, будто маркиз умирает, он так быстро поправлялся. А потом спросил, отчего это маркизу вдруг стало хуже, мол, когда он уезжал, больной чувствовал себя вполне прилично. Миледи снова повторила свой рассказ – тот, что она преподнесла нам с мистером Урбаном, а доктор только посмотрел на нее и ничего не сказал. Он провел в château весь следующий день и ни на шаг не отходил от маркиза. Я безотлучно была у него под рукой. Мадемуазель и мистер Валентин приходили взглянуть на отца, но он не шевелился. Странно так лежал, неподвижно, как мертвый. Миледи тоже все время была рядом, и лицо у нее было такое же белое, как у маркиза, а держалась она очень гордо – всегда так держится, когда кто ее ослушается. А тут получалось, будто несчастный маркиз ее подвел, и такой у нее был вид, что мне даже страшно становилось. Доктор из Пуатье весь день возился с маркизом, но мы еще ждали доктора из Парижа, помните, я говорила, что он провел во Флерьере несколько недель. Ему рано утром дали телеграмму, и к вечеру он приехал. Немного поговорил в другой комнате с доктором из Пуатье, а к больному они вошли вместе. У постели сидели я и мистер Урбан. Миледи встречала парижского доктора внизу и обратно уже не поднялась. Доктор сел рядом с маркизом и взял его за запястье – я вижу все это как сейчас, – мистер Урбан наблюдал за ними, вставив в глаз монокль. «Я уверен, что ему лучше, – сказал доктор из Пуатье, – уверен, он очнется». И только он это проговорил, как маркиз открыл глаза, будто проснулся, и всех нас оглядел, одного за другим. А на меня посмотрел… как бы это сказать – тишком. И тут на цыпочках в комнату вошла миледи, подошла к кровати и встала между мной и графом. Маркиз, как ее увидел, громко и страшно закричал, пробормотал что-то, но слов никто не мог разобрать, и с ним сделались судороги. Затрясся весь, потом закрыл глаза, а доктор вскочил и схватил за плечи маркизу, довольно грубо. Маркиз был мертв! На сей раз сомнений не было, уж они-то в этом разбирались.
У Ньюмена было такое ощущение, словно он при свете звезд читает важнейшие показания в деле о страшном убийстве.
– А записка? Записка? Где она? – взволнованно спросил он. – Что там было написано?
– Не могу вам сказать, сэр, – ответила миссис Хлебс, – я не сумела ее прочитать, она по-французски.
– Неужели никто не мог вам прочесть?
– Я ни одной живой душе не показывала.
– Так никто ее и не видел?
– Если вы увидите, то будете первым.
Ньюмен обеими руками схватил руку старой служанки и горячо сжал ее.
– Не знаю, как вас благодарить, – вскричал он. – Очень рад, что буду первым. Пусть она принадлежит мне, и никому другому. Вы самая мудрая женщина во всей Европе! А где она, эта записка? – сведения об имеющейся улике будто влили в него новые силы. – Дайте же мне ее!
Миссис Хлебс поднялась не без некоторой величавости.
– Это не так-то просто, сэр, хотите видеть записку, придется подождать.
– Поймите же, я не в состоянии ждать! – взмолился Ньюмен.
– Но я ведь ждала. Ждала все эти долгие годы, – ответила миссис Хлебс.
– Это верно, вы ждали меня. Я этого никогда не забуду. И все же как случилось, что вы не выполнили просьбу маркиза и никому не показали бумагу?
– А кому я могла ее показать? – сокрушенно сказала миссис Хлебс. – Надо же было знать кому. Я много ночей не спала, думала об этом. Когда через шесть месяцев мадемуазель выдавали за гнусного месье де Сентре, я чуть было все не рассказала. Я чувствовала, что обязана что-то сделать с запиской, но очень уж боялась. Сама я не знала, что там написано и к чему все может привести, а посоветоваться мне было не с кем, никому я не решилась довериться. И мне сдавалось, что я окажу плохую услугу моей любимой, доброй мадемуазель, если она узнает, что ее отец очернил и опозорил ее мать. А я считала, что в записке именно это и написано. Я думаю, она предпочла бы быть несчастной в замужестве несчастью такого рода. Ради нее-то и ради моего любимого мистера Валентина я и сидела спокойно. Спокойно! Ох и трудно оно мне давалось, это спокойствие! Вконец меня измучило, я с тех пор совсем стала другая, не такая, как прежде. Но ради своих любимцев держала язык за зубами, и никто до этого часа так и не знает, что я услышала от бедного маркиза.
– Но какие-то подозрения все-таки возникли, – сказал Ньюмен. – Иначе откуда у мистера Валентина появились такие мысли?
– А все из-за этого доктора из Пуатье. Ему случай с маркизом очень не понравился, и он, не стесняясь, дал волю языку. Французы, они приметливые, а он бывал в доме изо дня в день и, думаю, много чего нагляделся, только виду не подавал. Да и, правду сказать, каждый бы диву дался, если бы при нем маркиз, едва взглянув на жену, тут же и умер. Второй-то доктор, из Парижа, был куда привычней ко всякому, и он нашего одергивал. Но все равно до мистера Валентина и мадемуазель что-то дошло. Они знали, что их отец умер как-то необычно. Конечно, им не приходило в голову обвинять свою матушку, ну а я… я вам уже говорила – молчала как гробовая доска. Мистер Валентин, бывало, смотрит на меня, и глаза у него блестят, будто его так и подмывает что-то спросить. Я ужасно боялась, вдруг и впрямь спросит, и всегда старалась скорей отвернуться и заняться своим делом. Я была уверена, что, доведись мне все ему рассказать, он бы потом меня возненавидел, а тогда мне вообще лучше было бы не родиться. Раз я позволила себе большую вольность: подошла к нему и поцеловала, как целовала, когда он был маленьким. «Не надо так печалиться, сэр, – сказала я ему, – поверьте вашей бедной старой Хлебс, такому красивому, блестящему молодому человеку нет причин печалиться». И мне показалось, он понял, понял, что я его отвожу от вопросов, и сам для себя что-то решил. Так мы и ходили – он со своим незаданным вопросом, а я со своей нерассказанной правдой – оба боялись навлечь позор на их дом. И с мадемуазель было так же. Она не знала, что случилось, и не хотела знать. Ну а миледи и мистер Урбан меня ни о чем не спрашивали, у них и причины не было. Я жила тихо, как мышь. Когда я была помоложе, миледи считала меня вертихвосткой, а потом принимала за дуру. Где уж мне было о чем-то догадаться.
– Но вы сказали, доктор из Пуатье не держал язык за зубами? – спросил Ньюмен. – Что ж, никто на его разговоры не обратил внимания?
– Ни о чем таком, сэр, я не слышала. Здесь, во Франции, вы, может, заметили, вечно сплетничают. Наверно, и вслед мадам де Беллегард головами качали. Ну а так-то, что они могли сказать? Маркиз болел, и маркиз умер – все умрем, все там будем. Доктор не мог доказать, что судороги у маркиза начались не просто так. На следующий год доктор вообще отсюда уехал, купил себе место в Бордо, так что если какие слухи и ходили, то тут же и заглохли. И думаю, не очень-то к ним прислушивались. Ведь у миледи такая безупречная репутация.
При этих словах Ньюмен разразился громким неудержимым смехом, миссис Хлебс поднялась с камня, на котором сидела, и двинулась к крепостной стене. Ньюмен помог ей перебраться через пролом и спуститься на тропинку.
– Да уж, репутация у вашей миледи безупречная, ничего не скажешь. То-то будет шуму, когда раскроется, какова ей цена.
Они дошли до открытой площадки перед церковью и там на минуту остановились, глядя друг на друга, словно люди, которых с недавних пор что-то объединило, будто два великосветских заговорщика.
– Но что же, – спросил Ньюмен, – что же все-таки она сделала с мужем, ведь не зарезала же и не отравила?
– Не знаю, сэр. Этого никто не видел.
– Кроме мистера Урбана. Вы же сказали, он шагал по передней. Может, он подглядел в замочную скважину? Хотя вряд ли! Он безмерно доверяет своей матери.
– Сами понимаете, я тоже очень часто думала, как она это сделала, – сказала миссис Хлебс. – Уверена, что она до него не дотрагивалась. Никаких следов насилия на нем не было. Я думаю, дело обстояло так: у него, верно, начался приступ и он попросил свое лекарство, а она, вместо того чтобы дать ему микстуру, пошла и вылила ее у него на глазах. Тогда он понял, что она задумала, и испугался до ужаса, он ведь был совсем слабый и беспомощный. И, наверно, сказал ей: «Вы хотите меня убить», а она ему: «Да, маркиз, хочу», села и впилась в него глазами. Вы же знаете, как она смотрит, сэр, вот взглядом она его и убила. У нее взгляд такой леденящий, от него все вянет, как цветы от мороза.
– Да вы – умнейшая женщина! – сказал Ньюмен. – И проявили большой такт. Вот такая экономка мне и нужна – ваши услуги дорогого стоят.
Они начали спускаться с холма, и миссис Хлебс не произнесла ни слова, пока не очутилась внизу. Ньюмен легко ступал рядом с ней, запрокинув голову и не отрывая глаз от звезд – он уже катил по Млечному Пути на триумфальной колеснице мщения.
– Значит, сэр, вы это серьезно обдумали? – тихо проговорила миссис Хлебс.
– Что вы будете жить у меня? Ну, разумеется. Я готов заботиться о вас до конца ваших дней. В этом доме вам больше оставаться нельзя. Вы сами понимаете, после нашего разговора вы и дня не должны тут жить. Отдадите мне записку и сразу съезжайте.
– Конечно, мне, в мои-то годы, место менять не пристало, – горестно проговорила миссис Хлебс, – но раз вы намерены поставить здесь все вверх дном, я не хотела бы при этом присутствовать.
– Ну, – бодро, как человек, имеющий под рукой большой выбор разных возможностей, сказал Ньюмен, – констеблей я в château вряд ли приведу, если вы это имеете в виду. Что бы мадам де Беллегард ни натворила, боюсь, закон здесь бессилен. Но я даже рад этому – буду вершить суд сам.
– Смелый вы джентльмен, сэр, – пробормотала миссис Хлебс, взглянув на него из-под полей своей большой шляпы.
Ньюмен проводил ее до château. Для трудолюбивых жителей Флерьера уже прозвонил вечерний колокол, и на улице было темно и пусто. Миссис Хлебс пообещала, что записка маркиза будет в руках у Ньюмена через полчаса. Она остереглась входить в главные ворота, и они прошли по тропинке, огибающей стену парка, до калитки, от которой у миссис Хлебс был ключ и через которую можно было войти в château с заднего входа. Договорились, что Ньюмен будет ждать здесь же, у стены, пока она не вернется с вожделенным документом.
Миссис Хлебс скрылась, а Ньюмену его полчаса на темной тропинке показались бесконечными. Правда, ему было о чем подумать. Но вот калитка в стене наконец отворилась, и в проеме показалась миссис Хлебс. Одной рукой она придерживала задвижку, в другой сжимала сложенный в несколько раз листок бумаги. Ньюмен мгновенно завладел запиской и тут же спрятал ее в карман жилета.
– Приходите ко мне в мою парижскую квартиру, – сказал он. – Мы должны все уладить насчет вашей дальнейшей жизни. И я переведу вам с французского, что написал бедняга маркиз.
Никогда еще он не испытывал большей благодарности к месье Ниошу за его уроки.
Потухший взгляд миссис Хлебс проследил за исчезновением записки, и она тяжело вздохнула.
– Что ж, вы получили от меня, что хотели, сэр, да и дальше, поди, своего добьетесь. Так что теперь уж вы даже обязаны обо мне позаботиться. Очень вы настойчивый джентльмен.
– Сейчас, – отозвался Ньюмен, – я джентльмен, сгорающий от нетерпения, – и, пожелав ей спокойной ночи, он быстро направился в свою гостиницу.
Вернувшись туда, Ньюмен распорядился приготовить ему экипаж, чтобы ехать в Пуатье, затем закрыл дверь общего зала и поспешил к единственной лампе, стоявшей на камине. Вытащив записку, он торопливо ее развернул. Бумага была испещрена карандашными строчками, которые в слабом свете лампы сначала показались ему неразборчивыми. Но любопытство, сжигавшее Ньюмена, помогло ему выжать смысл из неровных дрожащих строк. В переводе записка звучала так:
«Моя жена пыталась убить меня, и это ей удалось.
Я умираю, умираю страшной смертью. Все это сделано для того, чтобы выдать мою дорогую дочь за месье де Сентре. Я решительно против этого брака, я запрещаю его. Я не лишился рассудка, спросите врачей, спросите миссис Хлебс. Все произошло ночью, когда я был с женой наедине. Она задумала меня убить и убила. Это убийство! Настоящее убийство! Спросите врачей.
Анри Урбан де Беллегард».
Глава двадцать третья
Через день после разговора с миссис Хлебс Ньюмен вернулся в Париж. Предшествовавший день он провел в Пуатье, читая и перечитывая маленькую записку, хранившуюся теперь в его бумажнике, и обдумывая, что ему следует предпринять и как именно поступить в сложившихся обстоятельствах. Хотя он вряд ли назвал бы Пуатье интересным местом, день пролетел для него незаметно. Снова водворившись в свою квартиру на бульваре Османа, он отправился на Университетскую улицу и осведомился у привратницы, вернулась ли маркиза. Привратница ответила, что мадам де Беллегард и месье маркиз приехали накануне и если он хочет их повидать, то они дома. Говоря это, маленькая старушонка-привратница, выглядывающая из мрачной сторожки у входа в особняк, нехорошо ухмыльнулась, и ее ухмылка, как показалось Ньюмену, должна была означать: «Входите, если осмелитесь!» Она, очевидно, была осведомлена о том, что происходит в семействе Беллегардов, ибо несла службу в таком месте, где могла ощущать пульс дома. С минуту Ньюмен постоял, глядя на привратницу, покрутил ус, потом быстро повернулся и ушел. Ушел не потому, что побоялся войти, хотя, несомненно, если бы он вошел, ему не удалось бы без помех добраться до родственников мадам де Сентре. Причиной его отступления явилась как раз уверенность в себе – уверенность, быть может, чрезмерная. Он берег свою будущую «бомбу» для грядущего удара, он лелеял ее, не хотел с ней расстаться. Он словно поднял ее в вытянутой руке в рокочущее, слабо вспыхивающее грозовое небо прямо над головами своих жертв и наблюдал за их бледными, запрокинутыми к ней лицами. Вряд ли ему случалось вглядываться в чьи-нибудь лица с таким же наслаждением, какое он испытывал, смотря на эти две физиономии, освещаемые, как я только что упомянул, призрачными вспышками; ему хотелось упиваться местью медленно и раздумчиво. Необходимо еще добавить, что он, сколько ни бился, не мог придумать, как сделать так, чтобы «бомба» взорвалась при нем. Посылать мадам де Беллегард свою карточку было бесполезно, она, разумеется, не согласится его принять. Ворваться к ней силой он не мог. Он приходил в ярость при мысли, что придется ограничиться письмом, то есть лишиться возможности наблюдать за произведенным эффектом, однако его несколько утешала надежда, что после получения письма его могут вызвать для разговора. Вернувшись домой и чувствуя себя усталым, – а надо признаться, вынашивание планов мести – занятие изнурительное, оно отнимает все силы, – Ньюмен бросился в одно из своих парчовых кресел, вытянул ноги, засунул руки поглубже в карманы и, глядя, как лучи заходящего солнца играют на затейливо украшенных верхушках домов на другой стороне бульвара, начал составлять в уме выдержанное в холодном тоне послание мадам де Беллегард. И когда он углубился в это занятие, слуга распахнул дверь и церемонно объявил: «Мадам Хлебс».
Ньюмен выжидательно приподнялся, и через секунду на пороге его гостиной возникла сия достойная дама, с которой он столь полезно для себя побеседовал при свете звезд на вершине холма во Флерьере. Как и для предыдущей встречи, миссис Хлебс надела свое самое нарядное платье. Ее внушительный вид произвел впечатление на Ньюмена. Лампа в комнате не была зажжена, и, глядя в полумраке на крупное, серьезное лицо миссис Хлебс, затененное мягкими полями шляпы, он с трудом мог поверить, что эта дама всего лишь служанка. Наш герой тепло ее приветствовал, пригласил войти, сесть и устроиться поудобнее. Судя по тому, как держалась миссис Хлебс, подчиняясь его приглашениям, что-то всколыхнуло в ней смешливость и впечатлительность давно забытой поры девичества, и она сама не знала, плакать ей или смеяться. Она не притворялась польщенной его обхождением, что было бы просто нелепо. Однако изо всех сил пыталась вести себя так смиренно, как будто даже проявлять смущение было бы с ее стороны дерзостью. Но совершенно очевидно было одно – ей никогда и не снилось, что судьба уготовит ей чуть ли не полуночный визит к одинокому любезному джентльмену в его холостой, обставленной а la bohéme [150]150
стиле богемы (франц.).
[Закрыть]квартире на одном из новых бульваров.
– Искренне надеюсь, сэр, что вы не сочтете, будто я не знаю своего места, – пробормотала она.
– Не знаете своего места? – удивился Ньюмен. – Наоборот, вы наконец-то его обрели! Ваше место здесь! Вы приняты ко мне на службу, и вот уже две недели вам начисляется жалованье как моей домоправительнице. А заняться моим хозяйством давно кому-нибудь пора. Почему бы вам не снять шляпу и не расположиться здесь?
– Снять шляпу? – растерянно повторила миссис Хлебс. – Но у меня нет с собой чепца, сэр. С вашего позволения, я не могу заниматься хозяйством, когда на мне мое лучшее платье.
– Об этом не беспокойтесь, – беспечно отозвался Ньюмен, – у вас скоро будут платья получше.
Миссис Хлебс провела ладонью по тусклому черному шелку юбки и строго посмотрела на нашего героя, будто двусмысленность ее положения ощутимо усилилась.
– О, сэр, я люблю то, что имею, – тихонько проговорила она.
– Во всяком случае, надеюсь, вы ушли от этих скверных людей? – заметил Ньюмен.
– Да, сэр, и пришла к вам, – ответила миссис Хлебс. – Пока я только это могу вам сказать. Перед вами бедная Кэтрин Хлебс. Странное это для меня место, ваша квартира! Сама себя не понимаю, никогда не думала, что я такая решительная. Только поверьте, сэр, я зашла очень далеко для себя, дальше не могу.
– Ну что вы, миссис Хлебс, – почти с лаской в голосе проговорил Ньюмен, – не мучайтесь, не тревожьтесь ни о чем. Пора и вам успокоиться, поверьте.
Она снова заговорила дрожащим голосом.
– Мне казалось, было бы достойнее, если бы я могла… могла…, – но она не нашла сил договорить, голос дрогнул еще явственнее и смолк.
– Перестать наниматься в услужение? – участливо спросил Ньюмен, стараясь угадать, что она имеет в виду, и полагая, будто она предпочла бы больше никому не служить.
– Перестать существовать, сэр! Мне теперь не о чем беспокоиться – разве только о том, чтобы меня прилично похоронили по протестантскому обряду.
– Похоронили! – рассмеялся Ньюмен. – Да полно, с какой стати, это было бы довольно грустной шуткой. Только негодяю выгодно умереть пораньше, чтобы восстановить свое доброе имя. Честным же людям, вроде нас с вами, надо жить столько, сколько им положено. Так давайте жить-поживать вместе. Идемте! Вы захватили вещи?
– Мой сундук уже заперт и приготовлен, но я еще ничего не говорила миледи.
– Так поговорите, и делу конец. Хотел бы я иметь такую возможность, как вы, чтобы поговорить с ней! – воскликнул Ньюмен.
– А я бы охотно ее вам уступила. Много я провела тяжких минут в будуаре миледи, но то, что мне предстоит, будет самым тяжким. Она обвинит меня в неблагодарности.
– Что ж, – ответил Ньюмен, – а вы можете обвинить ее в убийстве.
– Ну нет, сэр. Только не я, – вздохнула миссис Хлебс.
– Вы не собираетесь об этом заговаривать? Тем лучше! Предоставьте это мне.
– Если она назовет меня неблагодарной старухой, – сказала миссис Хлебс, – мне нечего будет возразить в свое оправдание. Но это и к лучшему, – тихо добавила она. – Тогда моя миледи до конца останется сама собой. Так будет достойней.
– А потом вы перейдете ко мне и будете служить джентльмену, – сказал Ньюмен. – Это будет еще достойнее.
Миссис Хлебс, не поднимая глаз, встала, и, помолчав немного, взглянула Ньюмену прямо в лицо. Ее взбаламученные представления о пристойном поведении, видимо, начали потихоньку вставать на место. Она так долго и пристально смотрела на Ньюмена и в ее унылом взгляде светилась такая истовая преданность, что теперь уже нашему герою было от чего прийти в замешательство.
– Вы неважно выглядите, сэр, – участливо сказала она наконец.
– Разумеется, – ответил Ньюмен. – С чего бы мне хорошо выглядеть? Я впадаю то в ярость, то в полное безразличие, то тоскую, то веселюсь, то совершенно разбит, то полон сил – и все это разом. Все во мне перемешалось.
Миссис Хлебс беззвучно вздохнула.
– Если хотите чувствовать что-нибудь одно, могу рассказать новости, от которых вам станет вовсе тоскливо. Новости о мадам де Сентре.
– Что такое? – вскинулся Ньюмен. – Уж не виделись ли вы с нею?
Миссис Хлебс покачала головой.
– Нет, сэр, не виделась и никогда не увижусь. Вот от чего тоска и берет. Ни я не увижусь, ни миледи, ни маркиз де Беллегард.
– Вы хотите сказать, ее строго охраняют?
– О да, сэр. Очень строго, – тихо ответила миссис Хлебс.
Казалось, от этих слов сердце Ньюмена на какой-то момент перестало биться. Он откинулся в кресле, не отрывая взгляда от старой служанки.
– Они тоже пытались с ней встретиться? И она не захотела? Не смогла?
– Отказалась – на веки вечные! Мне это горничная миледи передала, – пояснила миссис Хлебс, – а она слышала от самой миледи. Уж если миледи заговорила об этом с горничной, видно, она совсем была не в себе. Мадам де Сентре отказалась с ними встретиться. А сейчас у нее последняя возможность. Скоро никакой возможности больше не будет.
– Вы имеете в виду, ей не позволят эти матушки или сестры, как их там называют?
– Уж такие правила у них в монастыре, а вернее, у их ордена, – ответила миссис Хлебс. – Нигде нет таких строгих порядков, как у кармелиток. По сравнению с ними падшие женщины в исправительных домах живут как королевы. Femme de chambre [151]151
Горничная (франц.).
[Закрыть]сказала мне, что все кармелитки ходят в старых коричневых балахонах, таких грубых, что их и на лошадь-то не набросишь. А бедная графиня всегда так любила платья из мягких тканей, не выносила жестких да накрахмаленных. Спят они на земле, – продолжала миссис Хлебс, – словом, им живется не слаще, чем… – и она нерешительно поискала сравнение, – чем жене мусорщика. Они отказываются от всего мирского, даже от своего имени, которым их в детстве бедные старые нянюшки называли, отказываются от всех – от отца с матерью, от братьев и сестер, не говоря уже о других-прочих, – деликатно добавила миссис Хлебс. – Подумайте, под этими коричневыми балахонами они носят власяницы, подпоясанные веревкой, а зимой встают по ночам и отправляются в самую стужу молиться Деве Марии. Дева Мария – госпожа строгая. Живописуя эти ужасы, миссис Хлебс побледнела, но глаза ее были сухи, а руки, лежавшие на обтянутых шелком коленях, крепко сжаты. Ньюмен горестно застонал и склонился вперед, обхватив голову руками. В комнате надолго воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем больших позолоченных часов на камине.
– Где этот монастырь? – наконец поднял глаза Ньюмен.
– Я узнала, их два, – ответила миссис Хлебс. – Я так и подумала, что вы захотите там побывать, хотя это слабое утешение. Один монастырь на Мессинской авеню, так мадам де Сентре там – они это выяснили. А другой – на Рю-д’Анфер. [152]152
В переводе с французского – улица Ада (франц.).
[Закрыть]Ужасное название, вы, верно, знаете, что это значит.
Ньюмен встал и отошел в дальний угол комнаты. Когда он вернулся, миссис Хлебс уже стояла перед камином, сложив руки на груди.
– Скажите, – спросил он, – могу я побывать там, пусть даже мне нельзя будет ее увидеть? Можно ли через решетку или еще откуда-то поглядеть на то место, где она теперь?
Говорят, все женщины любят влюбленных, и даже свойственная миссис Хлебс уверенность в предначертанном свыше порядке вещей, при которой все слуги «знают свое место», подобно планетам, двигающимся по своим орбитам (заметьте, я отнюдь не имею в виду, будто миссис Хлебс когда-либо сознательно сравнивала себя с планетой), – даже эта уверенность вряд ли могла умалить материнскую печаль, с какой она, склонив голову набок, посмотрела на своего нового господина. Быть может, в эту минуту ей даже почудилось, что сорок лет назад она качала его на руках.
– Вам от этого легче не станет, сэр. Вам только покажется, что она от вас еще дальше.
– Как бы то ни было, я хочу там побывать, – ответил Ньюмен. – Мессинская авеню, вы сказали? А как называется само заведение?
– Монастырь кармелиток.
– Запомним.
Миссис Хлебс немного поколебалась, а потом произнесла:
– Мне нужно сказать вам еще кое-что. В монастыре есть часовня, и изредка, в воскресенье, туда пускают на мессу. Не всех, конечно. Говорят, видеть несчастных, которые там томятся, нельзя, но можно услышать, как они поют. Подумать только, что у них еще есть силы петь! Как-нибудь в воскресенье я расхрабрюсь и выберусь туда. Уж ее-то голос я узнаю из ста.
Ньюмен с глубокой благодарностью взглянул на свою гостью и крепко пожал ей руку.
– Спасибо, – сказал он. – Если можно пойти туда на мессу, я пойду.
Через несколько минут миссис Хлебс церемонно засобиралась уходить, но Ньюмен остановил ее и вручил ей зажженную свечу.
– У меня здесь с полдюжины комнат пустует, – объяснил он, выводя ее в коридор. – Посмотрите их и выберите, какая вам удобней. Поселяйтесь в той, что больше понравится.
Миссис Хлебс сначала отпрянула, услышав столь необычное предложение, но Ньюмен так ласково и мягко подталкивал ее к открытой двери, что в конце концов она сдалась и пустилась в глубь коридора, освещая себе путь колеблющимся огоньком свечи. Она отсутствовала более четверти часа. Все это время Ньюмен ходил из угла в угол, лишь иногда останавливался у окна, смотрел на огни бульвара и снова принимался шагать. Видимо, миссис Хлебс вошла во вкус своих исследований, но вот она вернулась в гостиную и водрузила свечу на каминную полку.
– Ну, какую же комнату вы себе выбрали? – спросил Ньюмен.
– Никакую, сэр! Для такой старой замухрышки, как я, они все чересчур шикарные. Все как одна в позолоте.
– Да это ведь мишурное золото, миссис Хлебс, – разуверил ее Ньюмен. – Вот побудете здесь и увидите, как оно облезает, – и он мрачно усмехнулся.
– О, сэр, хватит уж с меня всякой облезлой позолоты, – в тон ему ответила миссис Хлебс, качая головой. – Но раз я прошлась по комнатам, я все хорошенько посмотрела. Вы, сэр, верно, и не знаете – в углах повсюду ужасная грязь. Да уж, домоправительница вам ой как нужна, чтобы аккуратная была, как все англичанки, и не считала зазорным взять в руки метлу.
Ньюмен заверил ее, что хотя он и не вникал в то, сильно ли запущена квартира, но подозревал, что изрядно, и посему считает миссис Хлебс именно той особой, которая достойно справится со столь необходимой работой. Она снова подняла свечу и обвела жалостливым взглядом все углы гостиной, а потом дала понять, что берется за возложенную на нее миссию и спасительный характер задачи будет ее поддерживать при разрыве с мадам де Беллегард. После этого, сделав книксен, миссис Хлебс удалилась.
На следующий день она вернулась уже с пожитками, и Ньюмен, войдя в гостиную, нашел ее перед диваном стоящей на коленях, хоть они у нее сгибались с трудом, – она подшивала оторвавшуюся от обивки бахрому. Он спросил, как она рассталась со своей госпожой, и миссис Хлебс ответила, что это оказалось проще, чем она думала.








