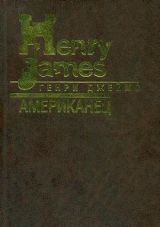
Текст книги "Американец"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц)
С минуту Ньюмен смотрел на нее; он видел, что она прехорошенькая, но ослеплен не был. Он вспомнил, как беспокоила месье Ниоша ее «наивность», и, встретившись с ней глазами, снова рассмеялся. В ее облике самым непостижимым образом совмещались юность и искушенность, и легкая испытующая улыбка на открытом лице, казалось, таила в себе пропасть сомнительных намерений. Она была очень хорошенькая, и ее отец имел все основания за нее беспокоиться, что же касается наивности, то Ньюмен был готов тут же на месте присягнуть, что мадемуазель Ниош с ней расставаться не пришлось. По той простой причине, что наивной она никогда не была. Она изучала мир с тех пор, как ей исполнилось десять, и разве что мудрец мог открыть ей теперь какие-нибудь тайны. Проводя долгие утренние часы в Лувре, она не только изучала Мадонн и Святых Иоаннов, она наблюдала самые разные проявления человеческой натуры вокруг и делала выводы. Ньюмену казалось, что в каком-то смысле месье Ниош может быть спокоен: его дочь способна на шальной поступок, но глупостей не наделает никогда. За медлительной, широкой улыбкой Ньюмена, за его манерой говорить не спеша, крылось стремление все взвесить, и сейчас он задавался вопросом, почему мадемуазель Ниош так на него смотрит. У него мелькнула мысль, что она обрадовалась бы, если бы он признался, будто считает ее испорченной девчонкой.
– О нет, – ответил он наконец, – судить о вас было бы непозволительно с моей стороны. Я вас совсем не знаю.
– Но отец вам жаловался? – спросила мадемуазель Ноэми.
– Он говорит, что вы кокетка.
– Напрасно он аттестует меня так джентльменам. И вы поверили?
– Нет, – серьезно ответил Ньюмен. – Нимало.
Она снова взглянула на него, пожала плечами и, улыбнувшись, показала на маленькую итальянскую картину «Свадьба св. Екатерины».
– Как насчет этой? – спросила она.
– Она мне не нравится, – сказал Ньюмен. – Эта молодая женщина в желтом платье некрасива.
– Ах, какой вы знаток, – проворковала мадемуазель Ноэми.
– Картин? О нет. Я разбираюсь в них очень плохо.
– А в хорошеньких женщинах?
– И о них я вряд ли знаю больше.
– А что вы тут скажете? – спросила копиистка, показывая на превосходный портрет итальянки. – Я ее уменьшу для вас.
– Уменьшите? А почему бы не сделать такого же размера, как оригинал?
Мадемуазель Ноэми бросила взгляд на блистательный венецианский шедевр и слегка качнула головой.
– Мне не нравится эта женщина. У нее глупый вид.
– А мне нравится, – возразил Ньюмен. – Решительно, я хочу иметь этот портрет. И в натуральную величину. Пусть она будет точно такая глупая, как здесь.
Мадемуазель Ноэми снова задержала на нем свой взгляд и насмешливо улыбнулась.
– Вот уж изобразить ее глупость мне труда не составит, – проговорила она.
– Что вы хотите сказать? – удивился Ньюмен.
Она снова слегка пожала плечами.
– Значит, вы действительно хотите этот портрет – золотые волосы, пурпурный атлас, жемчужное ожерелье и роскошные руки?
– Да, все как там.
– Может быть, вам все-таки подойдет что-нибудь другое?
– И другое тоже, но эту непременно.
Мадемуазель Ноэми вдруг повернулась, прошла в другой конец зала и постояла там, рассеянно глядя по сторонам. Затем вернулась к Ньюмену.
– До чего же, наверно, приятно иметь возможность заказывать картины чуть ли не дюжинами: венецианские шедевры, портреты в натуральную величину. Да вы распоряжаетесь en prince. [46]46
По-королевски (франц.).
[Закрыть]И собираетесь так же путешествовать по всей Европе?
– Да, собираюсь, – сказал Ньюмен.
– Заказывая, покупая, соря деньгами?
– Конечно, уж сколько-то денег я потрачу.
– Счастливчик – они у вас есть! И вы совершенно свободны?
– Что значит «свободен»? Что вы имеете в виду?
– Никаких забот – ни семьи, ни жены, ни fiancée. [47]47
Невеста (франц.).
[Закрыть]
– Да, можно сказать, я свободен.
– Счастливчик! – задумчиво повторила мадемуазель Ноэми.
– Je le veux bien! [48]48
На том стою! (франц.)
[Закрыть]– сказал Ньюмен, выказывая, что знает французский лучше, чем признавался.
– И долго вы пробудете в Париже? – продолжала допытываться мадемуазель Ноэми.
– Еще несколько дней.
– Почему так мало?
– Здесь становится жарко, мне нужно в Швейцарию.
– В Швейцарию? Прекрасная страна! Я бы пожертвовала своим новым зонтиком, только бы посмотреть ее. Озера, горы, романтические долины, снежные вершины. Да, поздравляю вас. А мне предстоит просидеть здесь все жаркое лето, корпя над вашими картинами.
– А вы не торопитесь, – сказал Ньюмен. – Пишите себе понемножку.
Они пошли дальше, посмотрели еще дюжину картин. Ньюмен показывал те, что ему нравятся, а мадемуазель Ноэми, как правило, критиковала его выбор и предлагала что-нибудь другое. Потом внезапно отклонилась от темы и перевела разговор на то, что ее интересовало.
– Почему вы в тот раз заговорили со мной в Salon Carré? – спросила она.
– Меня восхитила ваша картина.
– Но вы долго колебались.
– А я ничего не делаю очертя голову, – ответил Ньюмен.
– Да, я видела, что вы наблюдаете за мной. Но никак не думала, что вы со мной заговорите. А что буду расхаживать здесь с вами сегодня, мне и в голову не могло прийти. Чудеса, да и только!
– Все это вполне естественно, – заметил Ньюмен.
– О, прошу прощения, не для меня. Хоть я и кокетка, как вы меня назвали, но на публике с джентльменом еще не разгуливала. О чем думал мой отец, когда он согласился на сегодняшнюю нашу встречу?
– Верно, каялся в душе, что несправедливо вас подозревает, – ответил Ньюмен.
Мадемуазель Ноэми помолчала. Потом опустилась на диван.
– Итак, насчет тех пяти решено, – сказала она.
– Пять копий – ослепительно прекрасных, если у меня получится. Осталось выбрать еще одну. Не понравится ли вам одна из этих картин великого Рубенса – «Свадьба Марии Медичи»? Взгляните только, как она хороша.
– О да, она мне нравится, – сказал Ньюмен. – На ней и закончим.
– На ней и закончим? Хорошо, – засмеялась она, глядя на него. Потом вдруг поднялась и встала перед ним, постукивая ладонью о ладонь. – Не понимаю вас, – заявила она. – Не понимаю, как можно быть таким профаном.
– Не спорю, я – профан, – сказал Ньюмен и засунул руки в карманы.
– Но это же смешно! Какой я художник? Ведь я совсем не владею кистью!
– Как так?
– Да я малюю как курица лапой! Прямую линию не могу провести! Пока вы несколько дней назад не купили у меня картину, я не продала ни одной, – и, сообщая эту неожиданную новость, она продолжала улыбаться.
Ньюмен расхохотался.
– Зачем вы мне это рассказываете? – спросил он.
– Потому что меня выводит из себя, когда умный человек делает такие промахи. Ведь мои картины – просто мазня!
– А та, что я купил?
– Та даже хуже, чем другие.
– Ну и пусть, – сказал Ньюмен. – А мне она все равно нравится.
Мадемуазель Ноэми покосилась на него.
– Очень мило с вашей стороны, – проговорила она. – Но мой долг предупредить вас, пока вы не сделали следующий шаг. Поймите, выполнить этот ваш заказ невозможно. За кого вы меня принимаете? Да с такой работой и десять художников не справятся. Вы выбираете в Лувре шесть самых сложных картин и ждете, что я сделаю с них копии. Будто мне предстоит подшить дюжину носовых платков. Я просто хотела посмотреть, как далеко вы зайдете.
Ньюмен слушал молодую француженку в некоторой растерянности. Несмотря на дурацкий промах, за который его сейчас распекали, он был далеко не простак, и у него возникли сильные подозрения, что неожиданно пустившаяся в откровения мадемуазель Ноэми, по сути дела, была не более честна, чем если бы она предоставила ему заблуждаться. Она затеяла какую-то игру; она не просто сожалела о его эстетической, с позволения сказать, девственности. Что она надеялась выиграть? Ставки были высоки и риск велик; а значит, и куш должен быть соответствующий. Но, даже допуская баснословный выигрыш, Ньюмен не мог удержаться от восхищения перед отвагой своей собеседницы. Одной рукой она отвергала то, что могла бы заработать другой, – весьма крупную сумму денег.
– Вы шутите или вы серьезно? – спросил он.
– Совершенно серьезно! – воскликнула мадемуазель Ноэми, улыбаясь своей странной улыбкой.
– Я очень плохо разбираюсь в картинах, еще хуже в том, как их пишут. Раз вы не можете все их написать, значит, не можете. Не о чем и говорить. Сделайте то, что сможете.
– И сделаю очень скверно.
– Ну, – засмеялся Ньюмен, – если решишь сделать скверно, оно скверно и будет. Но зачем заниматься живописью, если все, что вы пишете, скверно?
– А что я могу поделать? У меня нет способностей.
– Выходит, вы обманываете отца?
Мадемуазель Ниош помолчала.
– Он это прекрасно знает.
– Вовсе нет, – заявил Ньюмен. – Я убежден, он верит в вас.
– Он боится меня. Как вы правильно сказали, все, что я пишу, скверно. Но я хочу научиться. Мне это занятие нравится. Мне нравится здесь сидеть. Сюда можно приходить каждый день; во всяком случае, это лучше, чем сидеть в темной сырой комнатушке в суде или стоять за прилавком, продавая пуговицы и китовый ус.
– Да, конечно, здесь гораздо интересней, – согласился Ньюмен. – Но не слишком ли это дорогое удовольствие для бедной девушки?
– Да, разумеется, я поступаю дурно, в этом нет сомнений, – проговорила мадемуазель Ноэми. – Но чем зарабатывать себе на хлеб, как некоторые девушки, надрываясь над шитьем в четырех стенах, в темных каморках, я лучше брошусь в Сену.
– Ну зачем такие крайности? – заметил Ньюмен. – Ваш отец рассказывал вам о моем предложении?
– О вашем предложении?
– Он хочет, чтобы вы вышли замуж, и я обещал ему предоставить вам возможность заработать себе на dot. [49]49
Приданое (франц.).
[Закрыть]
– Он сказал мне об этом, и, как вы сами видите, я этим уже распорядилась. Но почему вас так беспокоит мое замужество?
– Меня беспокоит ваш отец. Я сдержу свое обещание. Сделайте то, что сможете, и я куплю все, что вы напишете.
Минуту-другую мадемуазель Ноэми стояла, задумавшись и глядя в пол. Потом подняла глаза на Ньюмена.
– Какого мужа можно получить за двенадцать тысяч франков? – спросила она.
– Ваш отец говорит, у него на примете есть очень хороший молодой человек.
– Из бакалейщиков, мясников, жалких mâitres de cofés. [50]50
Владельцы кафе (франц.).
[Закрыть]Нет уж! Я или вообще не выйду замуж, или сделаю блестящую партию.
– Вряд ли стоит быть слишком привередливой, – сказал Ньюмен. – Больше ничего посоветовать не могу.
– Напрасно я вам все это выложила! – воскликнула мадемуазель Ноэми. – Какая польза об этом говорить! Просто само собой вырвалось.
– А какой пользы вы ждали?
– Да никакой, заболталась, вот и все.
Ньюмен внимательно посмотрел на нее.
– Что ж, может быть, картины вы пишете плохие, но все равно для меня вы слишком умны. Я вас не понимаю. До свидания, – и он протянул ей руку.
Но она не протянула ему свою, не стала прощаться. Она отвернулась и боком села на диванчик, опустив голову на руку, сжимавшую барьер, который ограждал картины. Ньюмен еще некоторое время смотрел на нее, потом повернулся и пошел прочь. Он понял ее куда лучше, чем в том признался. Вся эта сцена была прекрасной иллюстрацией к словам ее отца, назвавшего дочь откровенной кокеткой.
Глава пятая
Когда Ньюмен рассказал миссис Тристрам о своей безуспешной попытке нанести визит мадам де Сентре, она стала убеждать его не расстраиваться, а осуществить летом свой план «повидать Европу», чтобы осенью вернуться в Париж и спокойно обосноваться на зиму.
– Мадам де Сентре никуда не денется, – успокаивала его миссис Тристрам. – Она не из тех женщин, кто готов выходить замуж хоть каждый день.
Ньюмен воздержался от заверений, что непременно возвратится в Париж, он даже обмолвился насчет Рима и Нила и не проявил какой-то особой заинтересованности в вопросе о том, останется ли мадам де Сентре вдовой и впредь. Такая сдержанность совсем не вязалась с его всегдашней откровенностью, и, возможно, ее следует рассматривать как проявление у нашего героя начальной стадии той болезни, которую обычно именуют «таинственным влечением». Дело в том, что в душу Ньюмена глубоко запал взгляд глаз, таких сияющих и в то же время таких кротких, и он не желал бы мириться с мыслью, что никогда больше в эти глаза не заглянет. Он поделился с миссис Тристрам многими другими соображениями, более или менее значительными – судите, как хотите, – но о вышеуказанном обстоятельстве предпочел промолчать. Ньюмен сердечно распрощался с месье Ниошем, заверив его, что сама Мадонна в голубом плаще могла бы присутствовать при его свидании с мадемуазель Ноэми – за себя, во всяком случае, он ручается, – и оставил старика любовно поглаживающим нагрудный карман в приступе радости, которую не смогла бы омрачить даже жесточайшая неудача, сам же снова отправился путешествовать со своим обычным видом фланирующего бездельника, но, как всегда, сосредоточенный и целеустремленный. Казалось, не было человека, который проявлял бы меньше торопливости, но при этом не было и человека, который за столь короткое время успевал бы достичь большего. Ньюмен обладал неким практическим инстинктом, прекрасно помогавшим ему в трудном ремесле туриста. По наитию находил дорогу в незнакомых городах, а если считал нужным обратить на что-то свое благосклонное внимание, увиденное откладывалось в его памяти навсегда, из разговоров же с иностранцами, в языке которых он вроде бы не понимал ни слова, извлекал исчерпывающие сведения о том, что хотел узнать. Его интерес к фактам был неистощим, и хотя многое из того, что он записывал, обычному сентиментальному путешественнику представилось бы удручающе сухим и бесцветным, внимательное рассмотрение заметок Ньюмена позволило бы заключить, что и его воображение можно поразить. В прелестном городе Брюсселе – это была его первая остановка после отъезда из Парижа – он задавал бесконечные вопросы о конке и испытывал большое удовольствие при встрече в Европе со столь знакомым ему символом американской цивилизации, но при этом на него произвела огромное впечатление и прекрасная готическая ратуша, и он стал прикидывать, нельзя ли возвести что-либо подобное в Сан-Франциско. Он с полчаса простоял на запруженной народом площади перед величественным зданием, подвергаясь риску попасть под колеса и слушая бормотание беззубого чичероне, который на ломаном английском излагал трогательную историю графов Эгмонта и Хорна, [51]51
Граф Эгмонт Ламораль (1522–1588) – правитель Фландрии. Он и граф Хорн Филипп де Монморанси подвергались гонениям испанского двора за приверженность принцу Оранскому. Оба были казнены. Смерть встретили героически.
[Закрыть]и по причине, известной ему одному, записал имена двух упомянутых джентльменов на обратной стороне старого письма.
Поначалу, уезжая из Парижа, Ньюмен ни к чему не испытывал особого любопытства; казалось, «спокойные» развлечения на Елисейских полях и в театрах – это все, что ему нужно, и хотя, как он сказал Тристраму, он стремился увидеть то, что загадочно именовал «наилучшим», вовсе не помышлял о путешествии по всей Европе и не подвергал сомнению достоинства того, что было доступно ему в Париже. Он считал, что Европа создана для него, а не он для Европы. Утверждая, что хочет усовершенствовать свой ум, он, вероятно, испытал бы замешательство, даже стыд – быть может, напрасный, – доведись ему в эту минуту застать себя врасплох, мысленно взглянуть самому себе в глаза. Ни в вопросах самосовершенствования, ни в других подобных вопросах Ньюмену не было свойственно чувство высокой требовательности к себе; главное его убеждение состояло в том, что человек должен жить легко и уметь брать от жизни все. Мир представлялся ему огромным базаром, где можно бродить не торопясь, покупая красивые вещи; но он отнюдь не считал себя обязанным покупать, как не признавал за собой никаких обязательств перед обществом. Он терпеть не мог предаваться неприятным мыслям, находя такое занятие чем-то недостойным, мысль же, что нужно подгонять себя под какой-то стандарт, была и неприятной, и, пожалуй, унизительной. Для него существовал лишь один идеал – стремление к процветанию, позволяющему не только брать, но и давать. Позволяющему без особых хлопот умножать свое состояние – без неуклюжей робости, с одной стороны, но и без крикливого рвения – с другой. Умножать до тех пор, пока не пресытишься тем, что Ньюмен называл «приятным деловым опытом», – вот наиболее исчерпывающее определение его жизненной программы. Ньюмен не любил приезжать заранее к поезду, но никогда не опаздывал, точно так же и пресловутую «погоню за культурой» он считал пустой тратой времени сродни ожиданию на вокзале – занятию, подобающему женщинам, иностранцам и прочим неделовым особам. Однако, несмотря на все вышеизложенное, вступив на туристическую тропу, Ньюмен наслаждался своим путешествием так, как может наслаждаться только рьяный dilettante. [52]52
Любитель (франц.).
[Закрыть]В конце концов, теории теориями, главное – душевный настрой. Наш герой был умен и ничего не мог с этим поделать. Не спеша, не строя никаких планов, но посмотрев все, что стоило посмотреть, он объехал Бельгию, Голландию, побывал на Рейне, в Швейцарии и Северной Италии. Для гидов и valets de place [53]53
Здесь: смотритель в зале (франц.).
[Закрыть]он являл собой настоящую находку. Он всегда был у них на примете, потому что имел обыкновение проводить много времени в вестибюлях и на террасах гостиниц, мало пользуясь возможностями предаваться соблазнительному уединению, хотя в Европе такие возможности в изобилии предлагаются путешественникам с толстым кошельком. Когда его приглашали совершить экскурсию, посмотреть церковь, картинную галерею или какие-нибудь развалины, Ньюмен, молча осмотрев приглашающего с ног до головы, первым делом садился за столик и заказывал что-нибудь выпить. Во время этой процедуры чичероне обычно удалялся на почтительное расстояние, а иначе вполне могло статься, что Ньюмен предложил бы и ему присесть рядом, выпить стаканчик и честно сказать, точно ли церковь или галерея, о которых идет речь, стоят того, чтобы из-за них беспокоиться. Наконец Ньюмен распрямлял свои длинные ноги, вставал, кивком подзывал торговца достопримечательностями, смотрел на часы и спрашивал: «Ну так что это?», «А ехать далеко?» – и, каков бы ни был ответ, никогда не отказывался от предложения, хотя сначала могло показаться, что он колеблется. Он садился в открытый экипаж, предлагал своему проводнику сесть рядом, чтобы отвечать на вопросы, приказывал кучеру ехать как можно быстрее (Ньюмен не выносил медленной езды) и отправлялся – чаще всего через пыльные пригороды – к цели путешествия. Если эта цель его разочаровывала, если церковь оказывалась убогой, а руины представляли собой кучу щебня, Ньюмен никогда не возмущался и не бранил своего соблазнителя, а, одинаково бесстрастно взирая как на прославленные, так и на малозначительные памятники, просил проводника сообщить положенное, выслушивал рассказ, не пропуская ни одного слова, осведомлялся, нет ли поблизости еще каких-нибудь достопримечательностей, и уезжал на той же резвой скорости. Боюсь, наш герой не слишком ясно представлял себе разницу между хорошей и плохой архитектурой и, пожалуй, не раз с прискорбной доверчивостью созерцал весьма посредственные образцы. На церкви, не отличающиеся красотой, он тратил не меньше времени, чем на шедевры, да и вся его поездка по Европе была сплошной приятной тратой времени. Кстати, у людей, не блещущих воображением, оно подчас проявляется с необычайной силой, и Ньюмен, случалось, бродя без провожатых по незнакомому городу, вдруг застывал, охваченный странной внутренней дрожью перед какой-нибудь одинокой церковью с покосившимся шпилем или перед топорным изображением законника, который в неведомом далеком прошлом отправлял здесь свои обязанности. Нашего героя не обуревало волнение, он не задавался вопросами, он испытывал глубокую тихую отрешенность.
В Голландии Ньюмен случайно встретил молодого американца, и на какое-то время у них сложилось своего рода товарищество – оба решили путешествовать вместе. Они оказались людьми совершенно разной складки, но каждый по-своему был славным малым, и, во всяком случае, в течение нескольких недель им доставляло удовольствие вместе переживать все дорожные перипетии. Новый приятель Ньюмена, носивший фамилию Бэбкок, был невысокий, худой, аккуратно одетый молодой священник-униат [54]54
Униаты – лица, придерживающиеся греко-католического вероисповедания.
[Закрыть]с удивительно доброй физиономией. Уроженец Дорчестера, штат Массачусетс, он ведал душами небольшой паствы в городке близ столицы Новой Англии. [55]55
Имеется в виду Бостон.
[Закрыть]Страдая несварением желудка, он питался хлебом из муки грубого помола и кукурузной кашей и так зависел от этой диеты, что, высадившись на континенте и не обнаружив подобных деликатесов в меню table d’hote, [56]56
Общий обеденный стол в ресторанах, пансионатах и гостиницах (франц.).
[Закрыть]решил, что его путешествие под угрозой. Но в Париже, обратившись в заведение, именующее себя «Американским агентством», где в числе прочего можно было приобрести иллюстрированные нью-йоркские газеты, он обзавелся мешком кукурузной муки и повсюду возил этот мешок с собой, проявляя завидное спокойствие и твердость, когда в каждой следующей гостинице, где они останавливались, оказывался в довольно-таки щекотливом положении, настаивая на том, чтобы ему варили мамалыгу, да еще в неурочные часы. В свое время Ньюмену пришлось побывать по делам в родном городе мистера Бэбкока, где он провел целое утро, и по причинам, слишком неясным, чтобы о них распространяться, воспоминания об этом визите всегда настраивали его на шутливый лад. Поэтому шутки ради – правда, лишенная должных пояснений, шутка эта вряд ли покажется остроумной – он, обращаясь к своему компаньону, часто называл его «Дорчестер». Очень скоро спутники сблизились; хотя в родной Америке эти крайне несхожие характеры вряд ли нашли бы точки соприкосновения. Оба и впрямь были настолько не похожи друг на друга, насколько это возможно. Ньюмен, никогда не обращавший на такие тонкости внимания, относился к их содружеству совершенно спокойно, тогда как Бэбкок имел обыкновение предаваться раздумьям на эту тему, часто он даже пораньше удалялся в свою комнату, единственно затем, чтобы добросовестно и беспристрастно поразмыслить о себе и о своем попутчике. Он не был убежден, что ему пристало коротко сходиться с нашим героем, чьи взгляды на жизнь так мало отвечали его собственным. Ньюмен был славным щедрым малым, иногда мистер Бэбкок даже говорил себе, что его попутчик – человек благородный и не любить его, разумеется, просто невозможно. Но не следовало ли попробовать повлиять на него, попытаться пробудить его нравственные силы, обострить чувство долга? Ньюмену все нравилось, он все принимал, от всего получал удовольствие, ничем не гнушался и никогда не впадал в высокомерный тон. Молодой священник обвинял Ньюмена в грехе, который считал чрезвычайно серьезным и которого всеми силами старался избегать сам, – в грехе, который назвал бы «нравственной слепотой». Самому мистеру Бэбкоку очень нравились картины и церкви, он возил с собой в чемодане труды миссис Джеймсон, [57]57
Джеймсон Энн Броунел Мерфи (1794–1860), английская писательница и искусствовед.
[Закрыть]получал наслаждение от эстетического анализа, и все, что видел, оказывало на него своеобразное воздействие. При всем том в глубине души он питал тайную ненависть к Европе и ощущал мучительную потребность выразить протест против интеллектуальной всеядности Ньюмена. Боюсь, моральное malaise [58]58
Нездоровье (франц.).
[Закрыть]мистера Бэбкока коренилось очень глубоко, и все мои попытки дать ему определение останутся тщетны. Он с недоверием относился к европейскому темпераменту и страдал от европейского климата, его возмущал час обеда, установленный обитателями Европы, европейская жизнь представлялась ему беспринципной и аморальной. Но при этом он обладал тонким чувством красоты, а поскольку красота часто оказывалась теснейшим образом связанной со всеми вышеуказанными огорчительными моментами и поскольку молодой священник прежде всего стремился быть справедливым и беспристрастным, а также, что немаловажно, был крайне предан «культуре», он никак не мог заставить себя сделать вывод, что Европа совсем уж дурна, но находил, что дурного в ней предостаточно, и его расхождения с Ньюменом объяснялись прискорбно малой способностью нашего непросвещенного эпикурейца распознавать дурное. По сути дела, сам Бэбкок разбирался в дурных проявлениях жизни не лучше грудного младенца. Острее всего он ощутил дыхание зла, когда сделал открытие, что у одного из его соучеников по колледжу, изучавшего архитектуру в Париже, завязался роман с молодой женщиной, которая отнюдь не рассчитывала на законный брак. Бэбкок рассказал эту историю Ньюмену, и наш герой наградил молодую даму весьма нелестным эпитетом. На следующий день Бэбкок спросил, уверен ли Ньюмен, что он подобрал правильные слова для характеристики возлюбленной молодого архитектора? Ньюмен выпучил на него глаза и рассмеялся.
– Да для таких случаев запас слов очень богат, – ответил он. – Выбирайте любые.
– Я вот что хочу сказать, – продолжал Бэбкок, – а что, если взглянуть на нее в ином свете? Вы не думаете, что на самом деле она рассчитывала на законный брак?
– Почем знать, – сказал Ньюмен. – Очень может быть. Я не сомневаюсь, что она превосходная женщина, – и он опять рассмеялся.
– Я не совсем это имел в виду, – пояснил Бэбкок. – Боюсь, что, говоря об этом вчера, я мог забыть… не принять во внимание… Впрочем, пожалуй, я напишу самому Персивалю.
Бэбкок написал Персивалю (который ответил ему в весьма резком тоне) и стал размышлять над тем, что со стороны Ньюмена было, пожалуй, необоснованно и опрометчиво называть эту молодую парижанку «превосходной женщиной». Категоричность суждений попутчика часто приводила Бэбкока в замешательство и сбивала с толку. Ньюмен имел обыкновение клеймить людей без права на обжалование приговора или провозглашать кого-нибудь отменнейшим малым, несмотря на наличие симптомов, говорящих об обратном. Все это казалось Бэбкоку недостойным человека с развитым чувством совести. При всем том Ньюмен нравился бедняге Бэбкоку, и он говорил себе, что, хотя тот временами раздражает и ошеломляет, это еще не причина отказываться от его общества. Гёте рекомендовал принимать человеческую натуру в самых разных ее проявлениях, а мистер Бэбкок истово почитал Гёте. Когда у спутников выдавались какие-нибудь полчаса для беседы, Бэбкок не упускал случая привить Ньюмену хоть гран собственной суровой сути – однако натура нашего друга противилась любому воздействию и никаким прививкам не поддавалась. Строгие принципы держались у него в голове не дольше, чем вода в сите. Он высоко ставил принципы и утверждал, что Бэбкок, у которого их так много, не чета другим. Он соглашался со всем, что втолковывал ему требовательный компаньон, откладывая все это куда-то на потом, в надежное, как ему казалось, место, однако милейший Бэбкок так и не заметил, чтобы Ньюмен в повседневной жизни хоть раз воспользовался его дарами.
Вместе они проехали всю Германию, а оттуда направились в Швейцарию, где недели три-четыре бродили по узким ущельям в горах и нежились на голубых озерах. Потом перешли через Симплон и направились в Венецию. Мистер Бэбкок впал в некоторую мрачность и даже стал несколько раздражителен; казалось, он пребывает в дурном расположении духа, рассеян, поглощен своими мыслями; намерения его постоянно менялись, то он собирался сделать одно, то тут же принимался за другое. А Ньюмен вел себя, как обычно, заводил знакомства, с удовольствием посещал картинные галереи и соборы, проводил долгие часы на площади Святого Марка, накупал плохие картины и две недели от души наслаждался Венецией. Как-то вечером, возвращаясь в гостиницу, он обнаружил, что Бэбкок ждет его в садике перед входом. Молодой священник с мрачным видом подошел к Ньюмену, протянул ему руку и торжественно объявил, что, к сожалению, им необходимо расстаться. Ньюмен удивился, выразил свое огорчение и поинтересовался, чем вызвана эта необходимость.
– Помилуйте, вы мне нисколько не наскучили, – сказал он.
– Не наскучил? – воскликнул Бэбкок, устремив на Ньюмена взгляд ясных серых глаз.
– Да с чего бы? Такой славный малый, как вы! И вообще я ни от кого не устаю.
– Но мы не понимаем друг друга, – возразил молодой священник.
– Я вас не понимаю? – удивился Ньюмен. – Да что вы! Мне казалось – напротив. Но если даже и нет, что тут такого?
– Это я не понимаю вас, – пояснил Бэбкок.
Он сел и склонил голову на руку, не сводя печальных глаз со своего высоченного друга.
– Ну и на здоровье! И не надо, – рассмеялся Ньюмен.
– Но для меня это крайне огорчительно. Я места себе не нахожу. Не могу ни на чем сосредоточиться. Вряд ли это хорошо для меня.
– Слишком близко вы все принимаете к сердцу, вот в чем беда, – сказал Ньюмен.
– Вот-вот. Вам и должно так казаться. По-вашему, я принимаю все слишком серьезно, а по-моему, так это вы относитесь ко всему слишком легко. Нам никогда не прийти к согласию.
– Но ведь все это время мы жили в полнейшем согласии.
– Нет, – покачал головой Бэбкок, – только не я. И от этого-то мне не по себе, я должен был расстаться с вами еще месяц назад.
– О Господи! Поступайте как знаете, – воскликнул Ньюмен.
Мистер Бэбкок сжал руками голову.
– Вам, по-моему, чуждо все то, на чем я стою, – сказал он наконец, поднимая голову. – Я стараюсь во всем докопаться до истины. К тому же мне за вами не поспеть. Для меня вы чересчур порывисты, чересчур широки. Я чувствую, мне нужно снова проехать по всем тем местам, где мы побывали, но уже одному. Боюсь, я во многом ошибся.
– О, не нужно объяснений, – остановил его Ньюмен. – Просто я вам надоел, у вас есть для этого все основания.
– Нет-нет, нисколько! – воскликнул изнемогший молодой священник. – Нельзя допускать такие чувства – это грех!
– Сдаюсь, – засмеялся Ньюмен. – Однако и дальше ошибаться вам, конечно, никак нельзя. Ради Бога, идите своим путем. Мне будет вас не хватать, но вы же видите, я очень легко завожу друзей. А вот вам будет одиноко; напишите, когда захочется, и я присоединюсь к вам где угодно.
– Наверно, я вернусь в Милан. Боюсь, я не был справедлив к Луини. [59]59
Луини Бернардино (предп. 1475–1532), известный итальянский живописец.
[Закрыть]
– Бедный Луини! – воскликнул Ньюмен.
– Я хочу сказать, что боюсь, я его переоценил. Не думаю, что он живописец из наилучших.
– Луини? – удивился Ньюмен. – Что вы! Да это восхитительный, великолепный художник. Его гений чем-то напоминает прекрасную женщину. Он оставляет те же впечатления.
Мистер Бэбкок поморщился и нахмурился. Следует добавить, что и для самого Ньюмена такой метафизический полет мысли был необычным, но, будучи в Милане, он успел проникнуться большой любовью к этому художнику.
– Вот видите! Опять! – вздохнул мистер Бэбкок. – Нет, нам лучше расстаться.
И на следующее утро он направил свои стопы вспять, чтобы умерить чересчур сильное впечатление от великого ломбардского живописца. Через несколько дней Ньюмен получил от своего бывшего спутника письмо следующего содержания:
«Дорогой мистер Ньюмен!
Боюсь, что мое поведение в Венеции неделю назад показалось Вам странным и неблагодарным, и мне хотелось бы объяснить свою позицию, которую, как я тогда сказал, Вы, по-моему, не одобряете. Я уже давно собирался предложить Вам расстаться, и этот шаг не был таким внезапным, как, возможно, Вам показалось. Прежде всего надо учесть, что я путешествую по Европе на деньги, предоставленные мне моей паствой. Эти люди были настолько добры, что предложили мне отпуск и дали возможность обогатить мой ум знакомством с сокровищами искусства и природы Старого Света. Поэтому я считаю, что обязан использовать свое время наилучшим образом. У меня сильно развито чувство долга. Вы же, мне кажется, думаете только о том, как насладиться каждой минутой, и отдаетесь этому наслаждению так самозабвенно, что я, признаюсь, не в состоянии с Вами состязаться. По-моему, мне необходимо утвердиться в моих взглядах и выработать свою точку зрения на целый ряд вещей. Искусство и жизнь представляются мне крайне серьезными явлениями, и во время путешествия по Европе нам следует помнить о чрезвычайно серьезном назначении искусства. Мне кажется, Вы считаете, что если какое-то произведение радует Ваш глаз в данную минуту, то больше ничего и не надо, а до удовольствий Вы падки гораздо больше, чем я. Более того, Вы предаетесь удовольствию так безоглядно, что иногда, вынужден признаться, – Вы не рассердитесь? – мне это представляется чуть ли не циничным. При всех условиях Ваш путь – это не мой путь, и было бы неразумно, если бы мы и дальше пытались путешествовать вместе. Тем не менее позвольте добавить: в пользу Вашего отношения к жизни можно сказать многое; находясь в Вашем обществе, я очень сильно ощущал его притягательность. Иначе я расстался бы с Вами давно. Но я испытывал постоянную тревогу. Надеюсь, я не слишком виноват перед Вами. Мне кажется, я растратил много времени и теперь надо это наверстать. Прошу Вас принять мои слова в том смысле, в каком они написаны, то есть, Бог свидетель, я ни в коей мере не думал Вас оскорбить. Я лично очень высоко ценю Вас и надеюсь, придет день, когда мое равновесие восстановится и мы снова встретимся. Только прошу Вас: не забывайте – Жизнь и Искусство исполнены серьезности. Поверьте мне – Вашему искреннему другу и доброжелателю








