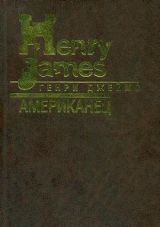
Текст книги "Американец"
Автор книги: Генри Джеймс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Несколько минут мадам де Сентре сосредоточенно смотрела в пол, потом, подняв глаза, сказала:
– Одна польза от всего случившегося по крайней мере есть. Вы составили обо мне более верное представление. Для меня было большой честью то, что вы воображали меня такой совершенной. Не знаю уж, с чего вы это взяли. Но у меня не оставалось никаких лазеек, чтобы изменить придуманный вами образ, чтобы быть такой, какая я есть, – самой обыкновенной слабой женщиной. Моей вины тут нет. Я предупреждала вас с самого начала. Наверно, предупреждать надо было тверже. Надо было убедить вас, что я неизбежно вас разочарую. Но, видите ли, я была слишком горда для этого. Надеюсь, теперь вам ясно, к чему привело меня мое высокомерие! – продолжала она, повышая дрожащий голос, звучание которого даже в эту минуту казалось Ньюмену прекрасным. – Я слишком горда, чтобы быть честной, но не настолько горда, чтобы не быть предательницей. Я холодная и себялюбивая трусиха. Я боюсь нарушать свой покой.
– А брак со мной, вы считаете, нарушил бы ваш покой? – с недоумением глядя на нее, спросил Ньюмен.
Мадам де Сентре слегка покраснела и, казалось, хотела дать ему понять, что если просить у него прощения было бы недостойно, то она, по крайней мере, может без слов согласиться с ним, что ведет себя скверно.
– Не брак с вами, а все, что с этим было бы связано, – вызов, разрыв, необходимость настаивать, что я могу быть счастлива на свой собственный лад. Какое я имею право быть счастливой, когда… когда… – и она замолчала.
– Когда что? – спросил Ньюмен.
– Когда другие так несчастны!
– Кто – другие? – вскричал Ньюмен. – Какое вам дело до других, до всех, кроме меня. К тому же вы только что сказали, что хотите счастья, но достигнете его, только слушаясь матери. Вы сами себе противоречите.
– Да, вы правы. Вот вам доказательство, что я не так уж умна.
– Вы смеетесь надо мной, – воскликнул Ньюмен. – Просто глумитесь!
Она внимательно всмотрелась в него, и наблюдавший со стороны мог бы сказать, что в этот момент она спрашивала себя, не лучше ли сказать: да, она действительно смеется над ним, и тем самым закончить это мучительное для обоих объяснение.
– Отнюдь нет, – сказала она в конце концов.
– Предположим, вы неумны, – продолжал он, – предположим, вы слабая, заурядная женщина и у вас нет ничего общего с той, какой я вас себе представлял. Но ведь я и не требую от вас ничего героического. Я не прошу от вас ничего необыкновенного. Я многое могу сделать, чтобы вам было легче принять верное решение. Нет, все объясняется очень просто – вы недостаточно меня любите, чтобы отважиться на такой шаг.
– Я холодная, – отозвалась мадам де Сентре. – Холодная, как эта река, текущая под окнами.
Ньюмен громко стукнул тростью по полу и мрачно расхохотался.
– Прекрасно! – воскликнул он. – Прекрасно! Только это уже чересчур – вы переиграли! Теперь вы хотите представить себя такой, что хуже некуда. Понимаю, куда вы клоните. Я же сказал – вы черните себя, чтобы обелить других! Вы вовсе не хотите отказывать мне. Я вам нравлюсь. Нравлюсь! Я это знаю, я это чувствовал, вы не скрывали этого. А теперь твердите, какая вы холодная. Вас мучили, вас запугивали – я вижу! Это возмутительно, и я настаиваю, что вас надо спасать от вашего собственного непомерного благородства. Если ваша мать потребует, вы что, и руку себе отрубите?
Мадам де Сентре, казалось, немного испугалась.
– В тот раз я пожаловалась на мать сгоряча. Я сама себе госпожа – и по закону, и с ее одобрения. Она ничего плохого никогда мне не делала и не может сделать. Она не давала мне повода говорить о ней так, как я сказала.
– Она уже не раз вам это припомнила и еще припомнит, вот увидите, – предупредил ее Ньюмен.
– Нет, забыть об этом не даст мне моя совесть.
– Ваша совесть кажется мне весьма прихотливой, – вырвалось у него в сердцах.
– Она была в смятении, но сейчас совершенно ясна, – ответила мадам де Сентре. – Я отказываю вам не ради личного благоденствия, не ради личного счастья.
– О, я знаю, вы отказываете мне не из-за лорда Дипмера, – ответил Ньюмен. – Не буду притворяться, даже чтобы подразнить вас, будто я в это верю. Но этого желали ваша мать и брат. На том проклятом балу у вашей матери, который тогда казался мне таким прекрасным, а сейчас я вспомнить о нем не могу без содрогания, ваша мать наставляла милорда, как добиться вашего расположения.
– Кто вам это сказал? – тихо спросила мадам де Сентре.
– Не Валентин. Я сам видел, сам догадался. В тот момент, когда все разыгрывалось, я не вдумывался, что происходит, но эта сцена застряла у меня в памяти. А потом, помните, я увидел вас с лордом Дипмером в оранжерее. И вы обещали, что когда-нибудь скажете мне, о чем он говорил с вами.
– Это было до… до того, что случилось теперь, – ответила мадам де Сентре.
– Неважно, – продолжал Ньюмен. – К тому же, думаю, я и сам знаю, как все было. Он честный малый, этот англичанин. Он сообщил вам, что затевает ваша мать: она предложила ему оттеснить меня – ведь он не занимается коммерцией. Если бы он сделал вам предложение, она обещала уговорить вас дать мне отставку. Лорд Дипмер не очень-то сообразителен, так что ей пришлось втолковывать ему это по слогам. Он ответил, что «без ума» от вас и хочет, чтобы вы об этом знали, только он не желал быть замешанным в нечистую игру, а потому пошел и все вам выложил. Ну что, ведь примерно так и было, верно? А потом вы сказали мне, что совершенно счастливы.
– Не понимаю, к чему этот разговор о лорде Дипмере? – смутилась мадам де Сентре. – Вы ведь не за тем сюда пришли. А что до моей матери, то неважно, знаете ли вы о ней что-то или подозреваете – это безразлично. Все равно, я приняла решение, и обсуждать подобные вопросы незачем. Любые обсуждения теперь уже бесполезны. Каждый из нас должен постараться как-то жить дальше. Я верю, что вы еще будете счастливы, даже если иногда станете вспоминать меня. Когда вспомните, представьте, как все это было нелегко для меня, а поступить иначе я не могла. Вы не знаете обстоятельств, с которыми мне приходится считаться. Я хочу сказать, я чувствую, как должна поступать, и должна повиноваться своим чувствам, должна, понимаете? Должна. Иначе угрызения совести будут преследовать меня всю жизнь, – воскликнула она в отчаянии, – и в конце концов убьют.
– Я знаю, что вы чувствуете, но это – предрассудки! Вы верите в то, что я хоть и неплохой человек, но плохо то, что я делец. Вы убеждены, что взгляды вашей матери неоспоримы, а слова вашего брата – закон, что все вы связаны одной цепью и что из-за этих ваших вечных правил приличия мать и брат имеют право вмешиваться в ваши дела. Да во мне кровь вскипает, когда я об этом думаю. От таких взглядов веет холодом, вы правы. А у меня вот здесь, – Ньюмен похлопал себя по груди и, сам того не ожидая, заключил патетически: – у меня здесь словно огонь пылает!
Наблюдатель, менее сосредоточенный на своих чувствах, чем наш потерявший голову герой, заметил бы с самого начала, что спокойствие мадам де Сентре есть результат неимоверных усилий и что, несмотря на эти усилия, волнение ее с каждой минутой нарастает. Последние слова Ньюмена сломили ее сопротивление, хотя сначала она заговорила очень тихо, боясь, как бы голос не выдал ее истинного состояния.
– Нет, я сказала неправду – я не холодна! Мне кажется, что мой поступок, хоть он и выглядит таким скверным, не говорит только о моей лживости и слабости. Мистер Ньюмен, для меня все эти правила – как религия. Я не в силах вам ничего объяснить! Не могу! С вашей стороны жестоко настаивать. Не понимаю, почему я не могу просто молить вас поверить мне на слово и пожалеть меня. Для меня это – религия. На нашем доме лежит какое-то проклятие – не знаю какое, не знаю почему, не спрашивайте меня об этом! Мы все должны нести это бремя. А я хотела избежать своей доли – я была слишком эгоистична. Вы предлагали мне такой соблазнительный выход, я уж не говорю о том, что вы понравились мне. Ах, как хорошо было бы все бросить, зажить совсем другой жизнью, уехать! И вы были мне так по душе! Но я не смогла, мои страхи настигли меня, все вернулось снова, – она больше не владела собой, и слова ее прерывались долгими рыданиями. – Почему все это случилось с нами? Почему мой брат Валентин, такой веселый, такой жизнерадостный, убит – застрелен как собака, почему он, кого мы все так любили, погиб в расцвете молодости? Почему есть вещи, о которых я не могу заикнуться – не могу даже спрашивать? Почему я боюсь даже заглядывать в некоторые углы? Даже слышать некоторые звуки? Почему должна делать такой тяжелый выбор в такой трудный момент? Я не создана для решений. Не способна на смелые и дерзкие поступки. Я создана для тихого, спокойного, обыкновенного счастья. – При этих ее словах у Ньюмена вырвался красноречивый стон, но мадам де Сентре продолжала: – Я была рождена, чтобы с радостью и благодарностью делать то, чего от меня ждут. Матушка всегда была очень добра ко мне, это все, что я могу вам сказать. Я не смею ее судить, не смею порицать. А если посмею – все страхи вернутся ко мне. Я не могу измениться.
– Нет, – горько сказал Ньюмен. – Измениться должен я, даже если для этого придется переломиться надвое.
– Вы – совсем другое дело. Вы – мужчина, вы справитесь с этим. У вас столько возможностей утешиться. Вы были рождены и подготовлены для жизни, полной перемен. И потом… потом, я всегда буду помнить о вас.
– Мне это ни к чему! – вскричал Ньюмен. – Вы жестоки, вы дьявольски жестоки. Пусть Бог вас простит! Возможно, основания у вас самые веские, а чувства – самые утонченные, что с того? Вы для меня загадка! Не понимаю, как такая красота может уживаться с такой жестокостью!
Мадам де Сентре с минуту смотрела на него глазами, полными слез.
– Значит, вы считаете меня жестокой?
Ньюмен ответил ей долгим взглядом.
– Вы – совершенное, безупречное создание! – не выдержал он. – Не покидайте меня.
– Да, я поступаю с вами жестоко, – продолжала она. – Когда мы причиняем друг другу боль, мы все жестоки. А мы вынуждены причинять боль! Такова жизнь – несчастная, несправедливая жизнь! О! – она глубоко и тяжело вздохнула. – Я даже не могу сказать вам, что рада знакомству с вами, хотя это так, – ведь и это может причинить вам боль. Мне ничего нельзя сказать – все покажется вам жестоким. А потому простимся, не будем больше ничего говорить. Прощайте! – и она протянула ему руку.
Ньюмен не принял ее руки, он только опустил на нее глаза, потом поднял их и взглянул мадам де Сентре в лицо. У него было ощущение, будто от ярости его душат слезы.
– И что вы собираетесь делать? – спросил он. – Куда поедете?
– Туда, где никому не причиню боли и не буду подозревать кругом зла. Я собираюсь удалиться от света.
– Удалиться от света?
– Я ухожу в монастырь.
– В монастырь! – Ньюмен повторил ее слова с ужасом, словно она объявила, что безнадежно больна. – Вы – в монастырь?
– Я же сказала, что отказываюсь от вас не ради светских успехов и удовольствий.
Ньюмен все еще не мог ей поверить.
– Вы собираетесь стать монахиней? – недоумевал он. – Запереться в келье на всю жизнь, надеть бесформенный балахон и белое покрывало?
– Да, я стану монахиней-кармелиткой, – ответила мадам де Сентре. – На всю жизнь, если Богу будет угодно.
Ее намерение было для него столь же чудовищно и непостижимо, как если бы мадам де Сентре объявила ему, что собирается изуродовать свое прекрасное лицо и выпить ядовитое зелье, от которого лишится разума. Он стиснул руки, и стало видно, что его бьет дрожь.
– Не надо, мадам де Сентре, умоляю вас! – взывал он. – Не надо! Не делайте этого! Если хотите, я на коленях буду вас умолять – не надо!
Ласково, сочувственно, чуть ли не ободряюще она дотронулась до его руки.
– Вы не понимаете, – проговорила она. – У вас неверные представления. В этом нет ничего ужасного. В монастыре я буду в покое и безопасности. Я буду вдали от света, где на невинных людей, на лучших людей, обрушиваются такие несчастья, как мое. И прекрасно, что это на всю жизнь! Значит, больше ничего скверного со мной не случится.
Ньюмен упал в кресло и сидел, глядя на нее и бормоча что-то неразборчивое. Эта женщина, в которой для него олицетворялась вся женская грация и тепло домашнего очага, эта прекрасная женщина отвергает его и то благоденствие, какое он ей предлагает, пренебрегает им, его будущим, его состоянием, его преданностью, и ради чего? Чтобы, укрывшись под безликим покрывалом, замуровать себя в монашеской келье! Ее решение представлялось Ньюмену каким-то злокозненным сочетанием уродства и беспощадности. И по мере того как он старался понять ее слова, ощущение гротеска все усиливалось, словно то испытание, которому его безжалостно подвергли, было низведено до нелепости.
– Вы, вы – монахиня! – воскликнул он. – Вы похороните вашу красоту, спрячетесь за решетками и замками. Нет! Нет! Я никогда не допущу этого! – и со смехом отчаяния он вскочил на ноги.
– Вы ничему не можете помешать, – сказала мадам де Сентре. – И кроме того, мое решение должно хотя бы несколько вас утешить. Неужели вы думали, что я буду вести прежний образ жизни, но без вас, зная, что вы где-то рядом? Нет, все решено, прощайте! Прощайте!
На этот раз он взял ее протянутую руку и сжал в обеих своих.
– Навсегда? – спросил он.
Ее губы беззвучно прошептали подтверждение, а его – горестное проклятие. Она закрыла глаза, словно не в силах это слышать, и тогда он обнял ее и прижал к груди. Он целовал ее бледное лицо, а она сначала отпрянула, потом на секунду прильнула к нему, но тут же с силой вырвалась из его объятий и пустилась бегом по блестящему полу через всю длинную залу. Еще мгновение, и дверь за ней затворилась.
Ньюмен не помнил, как вышел из château.
Глава двадцать первая
Красивый бульвар для прогулок тянется в Пуатье вдоль гребня высокого холма, по склонам которого лепится городок. Густо обсаженный могучими деревьями, холм высится над плодородными полями, где некогда сражались за свои права и одерживали победы английские принцы. [145]145
В 1356 г. во время Столетней войны (1337–1453) английские войска под командованием Черного Принца (Эдуарда, принца Уэльского) разбили под Пуатье французские войска короля Иоанна II Доброго.
[Закрыть]На другой день после свидания с мадам де Сентре Ньюмен провел на этом тихом бульваре много времени, шагая из одного конца в другой и глядя на места, где разворачивались вышеуказанные исторические события. Однако, если бы впоследствии его спросили, что там теперь – угольные шахты или виноградники, он, увы, не знал бы, что ответить. Горе переполняло его душу, и чем больше он предавался размышлениям, тем ему становилось тяжелее. Мучительное чувство, что мадам де Сентре потеряна для него безвозвратно, не оставляло его, но при этом он не считал, будто, как выразился бы сам, пришла пора сдаваться. Перестать думать о Флерьере и его обитателях он не мог. Ему казалось – надо лишь подальше протянуть руку, и он наткнется на брезжущий где-то огонек надежды, и тогда все наладится. У него было ощущение, что он нажимает на ручку запертой двери, нажимает сильнее и сильнее, стучится, кричит, зовет, упирается в дверь коленом, трясет ее изо всех сил, но ответом ему служит лишь проклятая мертвая тишина. И все же что-то его у этой двери удерживает, что-то не дает разжать пальцы. Его план был так хорошо продуман, так тщательно выношен, он так радовался обретению своего идеала, будущее счастье представлялось таким безграничным, необъятным, что столь совершенный замысел просто не мог рухнуть от одного удара. Казалось, безнадежно поврежден сам фундамент возведенного им здания, и все-таки Ньюмен упрямо стремился сохранить остальное. Его снедало чувство чудовищной несправедливости, с какой прежде ему не приходилось сталкиваться и он никогда не думал, что столкнется. При всем добродушии его не хватало на то, чтобы смириться с поражением и удалиться не оглядываясь. Он оглядывался беспрестанно и безутешно, и то, что открывалось его глазам, не смягчало боли. Он вспоминал себя, каким был с Беллегардами – преданным, великодушным, на все согласным, терпеливым и терпимым, всегда готовым спрятать в карман нередкие обиды и проявлять бесконечное смирение. Готовым унижаться, выносить щелчки, покровительство, иронию, насмешки – мириться с этим как с непременным условием сделки – и все понапрасну! Нет, он вправе был возмущаться и протестовать! Подумать только – его отвергли из-за того, что он занимается коммерцией! Будто он хоть раз заикнулся или задумался о коммерции с тех пор, как познакомился с Беллегардами! Будто он за это время хоть раз руководствовался в чем-нибудь коммерческим интересом! Будто он с радостью не согласился бы навсегда отказаться от занятии коммерцией, лишь бы хоть на волосок умалить любой, доступный Беллегардам шанс сыграть с ним эту злую шутку! А если считать, что занятия коммерцией – достаточное основание для подобных шуток, то можно только удивляться, как мало те, кто к ним прибегает, знают о разряде людей, коих именуют коммерсантами, и об изобретательности этих людей, предпочитающих шутки такого рода не спускать. Надо сказать, что щелчки, которые Ньюмену пришлось терпеть от Беллегардов, стали казаться ему столь невыносимыми лишь теперь, когда он был во власти обиды, а тогда, в пору его стремительного ухаживания за мадам де Сентре, все эти унижения терялись и растворялись в мечтах о безоблачно-голубом будущем. Но сейчас он со злобой вынашивал свою глубокую обиду – он чувствовал себя славным малым, которого предали. Что касается мадам де Сентре, то ее решение вселяло в него ужас, и он был не в силах ни понять его, ни постичь причины, к нему приведшие. И от этого чувствовал себя связанным с нею еще неразрывнее. Раньше он и не думал тревожиться из-за того, что мадам де Сентре – католичка, католицизм был для него пустым звуком, и допытываться у нее, почему она облекла свои религиозные чувства именно в эту форму, он посчитал бы неуместным, отнеся подобные расспросы к проявлению протестантской нетерпимости. Если на почве католицизма взрастают такие прекрасные белые цветы, почва эта не может быть вредоносной. Но одно дело – быть католичкой, и совсем другое – ни с того ни с сего пойти в монахини! И надо же было, чтобы против Ньюмена – оптимиста, человека своего времени – использовали столь старомодный, столь нелепый ход, в этом угадывалась какая-то мрачная ирония судьбы. Наблюдать, как перед вами разыгрывается трагический фарс, как женщину, созданную для вас, предназначенную быть матерью ваших детей, хитростью от вас уводят, – было от чего прийти в отчаяние, не соглашаясь верить в этот кошмар, наваждение, обман чувств! Но проходил час за часом, а обман не развеивался, и у Ньюмена в душе оставалось только воспоминание о страстном объятии, в которое он заключил мадам де Сентре. Он восстанавливал в мыслях каждое ее слово, каждый взгляд, перебирал их в памяти, пытаясь выискать в них скрытый смысл, найти ключ к загадке ее поведения. Что она имела в виду, говоря, будто ее чувства к родным – своего рода религия? Эта религия попросту являлась почитанием принятых в семье правил, и верховной жрицей этой религии была непреклонная старуха мать. Сколько бы мадам де Сентре по своему благородству ни выворачивала все наизнанку, ясно было одно – против нее применили силу. Движимая тем же благородством, она хотела выгородить своих родных, но у Ньюмена горло перехватывало при мысли, что они выйдут сухими из воды.
Наконец эти двадцать четыре часа прошли, и наутро Ньюмен вскочил, полный решимости снова отправиться во Флерьер и потребовать еще одной встречи с мадам де Беллегард и ее сыном. Не теряя времени, он приступил к делу. Пока маленькая коляска, нанятая им в гостинице, катила по превосходной дороге, он извлек из заветного уголка памяти признание, сделанное ему несчастным Валентином перед смертью и бережно с тех пор хранимое. Валентин сказал, что сообщенные им сведения могут пригодиться, и сейчас Ньюмен подумал, что хорошо бы иметь их наготове. Разумеется, он не в первый раз за эти дни мысленно к ним возвращался. Сведения были обрывочны, неясны и загадочны, тем не менее он рассчитывал на них и не боялся пустить их в ход. Валентин, совершенно очевидно, полагал, что снабжает его мощным оружием, хотя это оружие было вложено в ладонь Ньюмена не слишком уверенной рукой. Если граф не раскрыл Ньюмену самого секрета, то, по крайней мере, снабдил его путеводной нитью, другой конец которой держала эта странная особа – миссис Хлебс. Ньюмену всегда казалось, что миссис Хлебс знает много секретов, и поскольку он пользовался ее расположением, можно было рассчитывать, что при некотором нажиме она поделится с ним своими знаниями. Пока дело касалось только ее, Ньюмен чувствовал себя спокойно. Он боялся лишь одного – что сведения, сообщенные ему, окажутся недостаточно компрометирующими Беллегардов. Но когда перед его мысленным взором вновь возникали старая маркиза об руку с Урбаном, оба одинаково холодные и недоступные, Ньюмен убеждал себя, что страхи его напрасны. От их тайны пахнет не иначе как пролитой кровью! Во Флерьер он прибыл в состоянии чуть ли не приподнятом, уверовав, что стоит ему пригрозить Беллегардам разоблачением, и те непременно рухнут, как сорвавшиеся с колодезной веревки ведра. Он, конечно, понимал, что сначала ему надлежит поймать первого из двух зайцев, за коими он гонится, – узнать, в чем же он будет разоблачать Беллегардов, но что после этого может помешать его счастью снова засиять, как прежде? Мать и сын в страхе выпустят из рук прекрасную жертву и бросятся наутек, а мадам де Сентре, предоставленная сама себе, несомненно, вернется к нему. Надо только дать ей шанс, и она снова воспрянет, вернется к свету. Не может же она не понимать, что его дом будет для нее самой надежной обителью?
Как и в предыдущие свои приезды во Флерьер, Ньюмен оставил коляску у гостиницы и прошел до château пешком – путь был недолог. Однако, когда он достиг ворот, им овладело странное ощущение, корни которого, как это ни удивительно, следует искать в его неиссякаемом великодушии. Он постоял перед воротами, глядя через решетку на внушительный, потемневший от времени фасад и теряясь в догадках, какому же преступлению мог дать приют этот мрачный старый дом, носящий такое цветочное название. Прежде всего, говорил себе Ньюмен, château дал приют тирании и страданиям. Даже вид дома представлялся ему зловещим. И тут же он подумал: «Да неужели он будет копаться в этой мусорной куче порока и зла?» Роль следователя повернулась к нему своей отвращающей стороной, и в ту же минуту Беллегарды получили от Ньюмена отсрочку. Он решил не угрожать им, а в последний раз воззвать к их чувству справедливости, и если они внемлют голосу разума, ему не придется разузнавать о них еще что-то скверное – он и так знает достаточно. Хуже некуда.
Привратница, приоткрыв ворота, опять оставила в них лишь узкую щель; Ньюмен пересек двор и перешел через ров по маленькому ржавому мосту. Не успел он подойти ко входной двери, как она открылась и на пороге, словно желая перечеркнуть его благородное решение быть милосердным, предлагая ему более соблазнительную возможность, появилась поджидавшая его миссис Хлебс. Как всегда, лицо ее было безжизненно и твердо, словно вылизанный прибоем прибрежный песок, а черная одежда выглядела еще более траурной, чем обычно. Но Ньюмен знал, что своеобразная невыразительность ее лица является лишь прикрытием для чувств, обуревающих старую служанку, и поэтому не удивился, когда она со сдерживаемым волнением прошептала:
– Я знала, что вы придете еще раз, сэр. Я вас ждала.
– Рад видеть вас, – ответил Ньюмен. – Ведь вы мне друг.
Миссис Хлебс подняла на него непроницаемый взгляд.
– Я всегда желала вам добра, сэр. Только теперь уже эти пожелания ни к чему.
– Значит, вы знаете, как со мной обошлись?
– О да, сэр, – сдержанно ответила миссис Хлебс. – Я знаю все.
Ньюмен с минуту поколебался.
– Все?
Взгляд миссис Хлебс слегка потеплел.
– Во всяком случае, больше, чем нужно, сэр.
– Больше, чем нужно? Чем больше знаешь – тем лучше! Поздравляю вас. Я пришел к мадам де Беллегард и ее сыну, – добавил Ньюмен. – Дома они? Если нет, я подожду.
– Миледи всегда дома, – ответила миссис Хлебс. – А маркиз все больше с нею.
– Тогда, пожалуйста, доложите им – ему, или ей, или обоим вместе, что я здесь и хочу их видеть.
Миссис Хлебс помолчала в нерешительности, потом спросила:
– Могу я позволить себе большую вольность, сэр?
– До сих пор вы позволения не спрашивали, а ваши вольности всегда оказывались своевременными, – с любезностью дипломата ответил Ньюмен.
Миссис Хлебс опустила морщинистые веки, словно намереваясь сделать книксен, но намерением и ограничилась – момент был слишком серьезный.
– Вы пришли снова просить их, сэр? Но вы, верно, не знаете, что мадам де Сентре сегодня утром вернулась в Париж?
– Уехала! – простонал Ньюмен, стукнув тростью о землю.
– Уехала. Прямо в монастырь, он зовется кармелитским. Я вижу, вы слышали о ее планах, сэр. Миледи и маркиз очень расстроены. Она только вчера вечером сказала им о своем решении.
– Значит, она от них скрывала? – воскликнул Ньюмен. – Прекрасно! И они в ярости?
– Да уж не обрадовались, – сказала миссис Хлебс. – И понятно, есть от чего расстроиться. Это ужасно, сэр! Говорят, из всех монашеских орденов кармелиты – самые суровые. Ходит слух, что они вовсе бесчеловечны – заставляют отречься от всего и навсегда. Подумать только, что она там! Если б я умела плакать, я бы заплакала.
Ньюмен помолчал, глядя на нее.
– Не плакать надо, миссис Хлебс, надо действовать! Идите и доложите им. – И он собрался войти в дом, но миссис Хлебс осторожно его остановила:
– Можно, я позволю себе еще одну вольность? Говорят, вы оставались с моим милым Валентином до самой последней его минуты. Не расскажете ли мне, как все было? Бедный граф, он ведь мой любимец, сэр. Первый год я его с рук не спускала. И говорить его учила. А уж как хорошо он говорил, сэр! И со своей старой Хлебс всегда любил разговаривать! А когда вырос и начал жить по-своему, он непременно находил для меня доброе словечко. И так страшно умер! Я слышала, он стрелялся с каким-то виноторговцем. Просто поверить не могу, сэр! Очень он мучился?
– Вы умная, добрая женщина, миссис Хлебс! – сказал Ньюмен. – Я рассчитывал, что увижу у вас на руках и своих детей. Но, может, еще так и будет. – Он протянул ей руку. Миссис Хлебс с минуту смотрела на нее, а потом, будто зачарованная этим непривычным ей жестом, словно леди, вложила в его ладонь свою. Ньюмен крепко сжал ее пальцы и, глядя ей в глаза, медленно спросил: – Вы хотите знать о мистере Валентине все?
– Вы доставили бы мне большое удовольствие, сэр, хоть и печальное.
– Я готов рассказать, но сможете ли вы как-нибудь ненадолго уйти отсюда?
– Из дому, сэр? По правде говоря, не знаю. Я никогда не отлучалась.
– Тогда попробуйте. Очень вас прошу, попробуйте отлучиться сегодня вечером, когда стемнеет. Приходите к старым развалинам на холме, на площадку перед церковью. Я буду ждать вас там. Мне надо рассказать вам нечто очень важное. В ваши годы, вы, право, можете позволить себе делать все, что вам захочется.
Миссис Хлебс, приоткрыв рот, смотрела на него во все глаза.
– Вы передадите мне что-то от графа? – спросила она.
– Да, то, что он сказал на смертном одре, – ответил Ньюмен.
– Тогда я приду. Раз в жизни осмелюсь. Ради него.
Она ввела Ньюмена в большую гостиную, где он однажды побывал, и исчезла, чтобы выполнить его просьбу – доложить о нем. Ньюмен ждал бесконечно долго, он уже приготовился снова позвонить и напомнить, что ждет приема, и стал оглядываться, ища глазами звонок, когда в гостиную об руку с матерью вошел маркиз. Читатель согласится, что у Ньюмена был логический склад ума, если я замечу, что после смутных намеков Валентина, противники представились нашему герою закоренелыми негодяями. «Уж точно, – говорил он себе, пока они приближались, – несомненные мерзавцы. Маски сброшены». На лицах мадам де Беллегард и ее сына в самом деле читались следы глубокого смятения, чувствовалось, что ночью они не сомкнули глаз. И надо ли удивляться, что, завидев в столь неблагоприятный момент нежеланного гостя, от которого они, по их мнению, отделались раз и навсегда, Беллегарды смотрели на Ньюмена не слишком ласково. Он стоял перед ними, и они устремили на него достаточно выразительные взоры, отчего Ньюмену почудилось, что внезапно распахнулись врата склепа и на него потянуло затхлым мраком.
– Как видите, я вернулся, – сказал Ньюмен. – Вернулся, чтобы попытать счастья еще раз.
– Было бы смешно делать вид, – ответил маркиз де Беллегард, – что мы рады вас видеть, или умалчивать, что ваш визит вряд ли можно счесть проявлением хорошего вкуса.
– О, не будем говорить о вкусах, – со смехом отозвался Ньюмен, – а то нам придется обсуждать ваши. Если бы я руководствовался своим вкусом, я бы, разумеется, к вам не пошел. Я собираюсь быть предельно кратким. Обещайте, что снимете осаду, выпустите мадам де Сентре на волю, и я тут же уйду.
– Мы с сыном долго колебались, принять ли вас, – проговорила мадам де Беллегард, – и решили было отказаться от этой чести. Но я посчитала, что следует придерживаться приличий, как мы всегда их придерживаемся, и к тому же мне хотелось довести до вашего сведения, что, если люди нашего образа мыслей и подвержены каким-то слабостям, допустить их можно только раз – не более.
– Согласен, что слабость вы можете проявить только раз, зато напористой, мадам, вы явно будете всегда, – ответил Ньюмен. – Однако я пришел не для того, чтобы вести пустые препирательства. Суть моего визита проста – напишите сейчас же вашей дочери, что больше не противитесь нашему браку, а я позабочусь об остальном. Вы же не хотите, чтобы она стала монахиней, – какой это кошмар, вам известно не хуже, чем мне. Уж лучше ей выйти замуж за коммерсанта. Напишите, что вы отступаетесь, и она с вашего благословения может стать моей женой. Подпишите письмо, запечатайте, отдайте мне, я с ним поеду в монастырь и вызволю ее оттуда. Вот какую я даю вам возможность. По-моему, эти условия всех устроят.
– Мы, знаете ли, смотрим на вещи иначе. Для нас ваши условия неприемлемы, – ответил Урбан де Беллегард. Все трое так и стояли неподвижно посреди гостиной. – Думаю, моя мать подтвердит: она предпочтет, чтобы ее дочь стала soeur [146]146
Сестра, монахиня (франц.).
[Закрыть]Катрин, а не миссис Ньюмен.
Однако старая маркиза со смирением, под которым таилось сознание беспредельной власти, предоставила сыну произносить за нее сарказмы, а сама чуть ли не с ласковой улыбкой повторяла, качая головой:
– Мы проявляем слабость только раз, мистер Ньюмен! Только раз!








