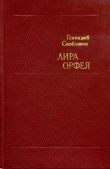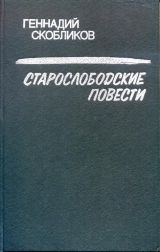
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
VI
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
Закончилась война. Мужики, кто остался жив, один за другим возвращались домой. А она, Варвара, так ничего больше и не знала о судьбе мужа. Где он, ее Мишка? Жив ли? Вернется ли?.. Война кончилась, мы победили – должны же прийти домой те пленные, кого не успели погубить немцы. И кто знает: может, и жив ее муж, может, и он вернется когда-нибудь домой!..
Сколько раз представляла она, как приходит он домой, как плачут они все слезами радости. Мишка, конечно, опять пойдет работать в кузницу, а она попросится в доярки – чтоб тоже весь день быть рядом с ним на базе, чтоб в любой час можно было зайти к нему. А как рад будет Мишка, думала она, когда увидит Колюшку. Два месяца ему было, когда провожали отца, а теперь пятый год малому пошел.
Чем ни больше возвращалось домой с войны мужиков, а потом и ребят помоложе, тем уверенней говорило Варваре сердце, что жив ее муж, – а раз жив, то, может, и вернется. Говорили люди, что наши пленные как-то там попадали уже после Победы и в Америку, и в другие страны. Да пусть хоть на краю земли будет ее Мишка – он все равно сумеет вернуться домой, думала она.
Бывало так. Дети уснут, а она прижмурит коптилку, чтоб еле-еле светила, и лежит без сна. Уйдет в свои думы – и не знает, час ли пролежала или полночи уже прошло. И вдруг – вроде как постучит кто в окно и окликнет ее Мишкиным голосом: «Варюш, а Варюш...» Вскинется она, сядет на кровати, прислушается. Нет, просто послышалось ей. Встанет, подойдет к Колюшке: он редко на печке спал, все больше в горнице, на маленькой кроватке, – поправит на нем одеяло, сама перекрестится, на всякий случай, и опять ляжет. Закроет глаза, а за окном опять: «Варюш. А Варюш...» И точно Мишкиным голосом да таким тихим, жалостливым, и с хрипотцой: ну как замерзает человек. Похолодеет у нее в груди, а все ж встанет – и к окнам. В горнице все три окна обойдет, в каждое всмотрится – нет никого. В кухню войдет, так в оба окна заглянет – никого. Если осенью, там за стеклами только черная темень смотрит на Варвару ее же испуганным отражением, а зимой и вовсе ничего не увидит в промерзших кружках. Поначалу думалось: а вдруг это и вправду Мишка вернулся и тихо зовет ее, чтоб никто его не услышал, – а она не откроет... Один раз, осенью это было, встала и во двор вышла. Во дворе темень, ветер. А она сообразила – позвала: «Миш?». Точно в черный омут канули ее слова, и так страшно ей стало, что она еле живая вскочила в хату, заперла дверь на крючок и забралась к дочерям на печку. В другой раз зимой было. Позвал он ее – и скрипит снегом под окном. Тогда, слава богу, не сразу вышла. Только чуточку приоткрыла дверь – а от самого порога кто-то как прыгнет в сторону: то ли собака большая, то ли волк.
– Это душа Мишкина тебя зовет, – рассуждала бабка Настя. – Может, погиб, а может, и живой, мается где-нибудь, о семье тоскует – вот и просится к тебе. Думаешь, если он жив, так не грептится ему о доме, не болит у него душа за тебя с детьми?..
Боязливой она не была, девкой куда хочешь могла пойти одна среди ночи. А тут, что греха таить, ночью боялась на улицу выйти. Особенно поздней осенью, в самые темные ночи, когда и огня ни в одной хате не увидишь, а тут еще в логу лиса как заплачет – что твой грудной ребенок, или начнет кричать сыч... Потом-то это прошло, но темных осенних ночей все равно не любила она.
Кончилась война, поприходили оставшиеся в живых мужики. И поспокойнее, понадежнее жизнь стала. Андрей, поставленный председателем по поговорке: «На безлюдье и Фома – дворянин», тоже поубавил теперь гонор, разве что пил начужбинку еще больше, тем более, что он как-никак еще оставался председателем и в его руках было дать волов, лесу на хату привезти или колхозной соломы отпустить. Да и с работой стало – не то что раньше: и на коровах своих больше не пахали, и свеклу на элеватор за пятнадцать верст зимой на салазках на себе не возили.
В этом же сорок пятом году умер Егор Иванович: открылись раны. Председателем сельсовета на его место поставили вернувшегося с войны Степана Сорокина, ее первого ухажера. Степан вернулся с войны партийным – его сразу и выдвинули.
Как-то зашел Степан к Варваре. Она рада была его приходу, поставила на стол выпивку с закуской, сама вместе с ним стопку выпила. Проговорили весь вечер. Степан рассказывал, как воевалось, она – как жилось тут в эти годы. О Мишке поговорили, о его возможной судьбе, если он остался жив. Раньше, до войны, Степан при встречах редко заговаривал с ней о Мишке: хоть и сам к этому времени женился, а все ревновал ее к мужу, да и ей не прощал, что предпочла она ему Мишку. Теперь другой разговор шел – не до старых обид было.
– Ежели он в самом деле попал в плен, – солидно рассуждал Степан, – то все равно вряд ли живым остался. Или сразу расстреливали, если тяжелораненый, или в лагерях уничтожали. А если кто жив остался и его наши освободили, то тоже не каждый сразу домой придет: выяснить надоть, как в плен попал, то да се... Тут ить дело уже политическое, – со значением пояснил он.
Не успокоил Варвару долгий их разговор.
И еще было. Слушала она Степана, смотрела на него – и шевелилась в голове мысль: не променяй она его тогда на Мишку – вот и дождалась бы теперь мужа целого и невредимого. Степану то ли повезло, то ли, как она думала, научился он жить: при медалях пришел и за всю войну без единой царапины. Солидным стал, уверенным и, видать, осторожным. «Теперь всю жизнь в начальниках будет ходить», – невольно думалось ей.
Степан тоже, видать, не забыл старое. К концу разговора, он был уже хорошо выпивши, сказал:
– Вышла б тогда за меня – вот теперь и дождалась бы. А Мишка – он горячий, таких с войны мало вернулось...
Вроде бы и правду сказал, а как-то некстати это у него получилось. Она ничего не ответила. Степан курил, она спокойно смотрела на него. «Нет, милый, – думала, – повторись молодость еще хоть десять раз – и десять раз выбрала б я из вас Мишку...»
– Дальше-то как думаешь жить? – спросил Степан.
– А как мне жить? Живу вот.
– На Мишку, Варь, надежды мало, я... кое-что понимаю. Что ж, весь век одна будешь, без мужика?
– С поста, Степан, еще никто не умер. Да и куда мне, самой-пято́й...
Ничего не ответил ей на это Степан. А она подумала: «Жалеешь вот, спрашиваешь, а ить скажи я слово – все равно от Марии своей и от сына не пойдешь. Да и я не приняла б тебя, голубчик...»
– В жизни каждому свое на роду написано... – закончила она этот разговор.
Степан сам вызвался поехать с нею в район и похлопотать: может, о Мишке удастся что узнать. Она, конечно, согласилась. Кто ж знает, вдруг и вправду он сумеет помочь ей. И Егор Иванович, царство ему небесное, говорил, что после войны легче будет разобраться.
Степан решил, что лучше будет, если он пойдет в военкомат один, а она пусть ждет его. Он позовет ее, если она понадобится. И она осталась сидеть на лавке в коридоре первого этажа военкомата, где, бывало, дожидалась она вызова к комиссару. За те полчаса, пока она его ждала, в ней то вспыхивала надежда: «А вдруг!...», то опустошала душу безнадежность: «Знали б тут – так сами б давным-давно ей сообщили».
Вышел Степан.
– Что? – спросила глазами она.
– Лучше б ты сама пошла! – сказал он. – О Мишке то ли сами ничего не знают, то ли не говорят. А ко мне прицепились. Почему, мол, изменником интересуюсь. Оставь ты это дело...
И Варвара оставила. Ни в район больше ни разу не ездила, ни похлопотать никого не просила. Да и что хлопотать! Счастье с несчастьем повстречаются – ничего не останется. Положилась на судьбу: будь что будет. А так... то нечего ей, конечно, надеяться, что может еще вернуться Мишка. Это дерева такого нет, на которое не садилась бы птица, а мимо скольких людей счастье проходит. О них, о детях, только и надо думать теперь. Чтоб и росли не хуже, чем у людей, и чтоб сами людьми выросли. А о себе...
Андрея из председателя понизили в бригадиры, и теперь каждое утро он останавливался перед ее хатой, а то и заходил – посылал на работу. Бесстыжие глаза у человека: заходит как ни в чем не бывало. Не случись с ней такого, наверное, и всю жизнь не знала бы, на что способен этот рыжий хорек. Не раз спокойно уже думала она об Андрее: что ж выгадал он, по какой-такой корысти донес он на Мишку? Может, и правду высказала она ему тогда в сердцах: выстрелил сам себе в руку, а потом и боялся за свою шкуру, на чужой беде выкручивался? А если честно вернулся с войны – то тогда какая корысть клеветать? Все, кто знал Мишку, не поверили этому. И что ж заслужил Андрей? Каждый человек в деревне при случае колет ему глаза Мишкой и Варварой.
Она и сама не понимала, что нет у нее к Андрею такой злой ненависти. Просто противно было видеть его конопатую рожу, слушать его голос. И она попросила нового председателя, чтоб он поставил ее дояркой: тогда Андрей не будет каждое утро окликать ее.
VIII
...Да, война как топором перерубила жизнь, думалось не раз Варваре, – как межой разделила война всю ее жизнь на две половины.
А она, Варвара? Ведь она всю жизнь одна и та же. А вот оглядывается назад – и думается: нет, девка, и сама переменилась ты: что-то сохранилось в тебе от той счастливой Варьки-Варюхи, а что-то ушло-утекло – и никогда не будет этому возврата.
Да что сама?.. Взять хотя бы вот эту ее хату, где она выросла, где прожила восемь лет счастливой женой, где в тяжкое время выплакала все глаза и глушила в подушке безутешные бабьи рыданья... где вырастила и выходила четверых детей и где теперь, больная, она ждала своего часа: эта ее хата (хоть и горела она в войну, в пожар, да, слава богу, не сгорела тогда: крыша сгорела, а потолок, густо смазанный сверху глиной, сам уцелел и сруб спас) – всегда она одна и та же, но видится она ей там, за той межой, совсем-совсем другой, будто та довоенная жизнь (мать, отец, Мишка – все живы, всегда у них мир и лад, и она, Варвара – счастливая жена и мать... «Господи! Куда ж это делось все! Зачем ушло-уплыло?..») – будто та их прежняя жизнь проходила в каких-то других стенах, под какой-то другой крышей. Там, за межой, она, Варвара, жила той жизнью, какой жили ее мать и отец. Ей: и маленькой девчонке, и невесте, и молодой жене, и матери трех дочерей, и когда она носила под сердцем Колюшку – тогда ей никогда не думалось-не гадалось, что жизнь может быть какой-то другой. Они с Мишкой стали жить той же жизнью, какой жили их отцы и матери, в той жизни отцов и матерей, как казалось им, молодым, все было понятно и просто, она ясно виделась на все годы вперед. Это потом, потом узнала она, что не все просто в жизни, не все понятно, что это еще попробуй сумей прожить так, как жили твои отец и мать, – и что сумей еще угадать, а какая же доля выпадет твоим детям, что ждет их в нынешней жизни...
...Кончилась война, прошел год, прошло пять, и десять – а о Мишке ни слуху, ни духу. Никто больше не тронул ее из-за него, никто никак не побеспокоил. И она, сама, и дети постепенно свыклись с мыслью, что все кончено с их отцом: пропал без вести – и никогда они не узнают, что стало с ним, и если погиб, то в какой земле зарыты его косточки.
И утихла ее тоска, опустилась куда-то в глубину души, залегла там плотным пластом, как лежит под пахотным слоем плотный пласт материка.
А вместе с этим кончился и ее бабий век. То все еще ждала – надеялась, что вдруг обернется и к ней светлым солнцем судьба, вдруг вернется и она в те счастливые времена, и – кто знает! – может, родит на радость Мишке и себе еще одного сына. А теперь знала: все кончилось – и больше уже не думала об этом, глушила в себе нечастые бабьи желания. Да и не до себя было. Сама-пята, без мужика в доме: каждый день от зари до зари надо крутиться, чтоб и на стол было что подать, и чтоб детям и самой было во что одеться-обуться.
День ее начинался в четыре утра. Все равно: зимой или летом, теперь, когда она работала дояркой, или раньше, когда, как и большинство баб, ходила на работу по наряду. В четыре часа утра загорается свет у справной деревенской бабы, какая б ни была у нее семья: на десять ртов или на два. И хотелось бы в другой раз полежать еще чуток, а некогда, да и перед собой совестно: другие бабы, небось, уже печки затапливают, а ты барыней будешь лежать. И встает баба со вторыми петухами, ополоснет водой над лоханкой лицо – и уже довольна собой: до свету вон сколько делов можно сделать!
Покойная Прасковья, бывало, скажет Варьке-Варюхе: «У всякой пташки – свои замашки. Вот и ты, дочка, к порядку себя приучай. Встала с постели – собой сразу и займись, приведи себя в порядок, чтоб хавроньей не ходить. А потом уже и за дела можно браться». Сама Прасковья аккуратно себя держала и ее, Варвару, слава богу, сызмальства приучила к этому. Хоть девкой была, хоть и теперь. Поднимется – и сразу на весь день кровать свою уберет. Тоже мать говорила: «Девку и по кровати видать: какая постель – такая и хозяйка будет». Уберет она постель – и собой займется. В другой раз даже перед зеркалом постоит, посмотрит на себя. Не той, конечно, стала за войну Варвара, не той. Хоть и годов-то всего еще и сорока не было, самая бабья пора, а видит – постарела. Волосы еще густые, длинные, хоть косу заплетай, а поседели, особенно у висков. Один раз нашло что-то на нее – заплела она косу, так дочери давай просить ее: «Ой, мам, ходи так!» А она только грустно посмеялась на них и тут же расплела ее, завязала волосы в тугой узел и покрылась черным платком. По праздникам белый платок покрывала, а в будни всегда в темном ходила: незачем молодиться. Правда, после, когда и на самом деле постарела и окончательно отошел ее бабий век, она все больше покрывала белый платок, – а тогда, после войны, всегда в черном ходила, на монашку похожа была. Постоит перед зеркалом, сама себе в темные глаза посмотрит, разгладит морщины – да и отойдет от зеркала. Поддернет гирьку часов, иногда вспомнит при этом, как они с Мишкой ездили расписываться в сельсовет, а потом в сельпо заехали и он купил тогда махровую шаль ей и эти вот часы... Вспомнит мужа – и переведет взгляд на его портрет. На нем Мишка совсем молодой, такой бравый, чуб из-под кепки выглядывает; костюм на нем серый, в полоску, и рубашка в тонкую полоску, а галстук был красный, с большим узлом. Портрет этот нарисованный: сразу после оккупации, когда в деревне наша часть отдыхала, один из солдат-постояльцев простым карандашом с карточки его нарисовал... Дети спят еще, а она постоит перед портретом, подумает о своем – да и займется делом: картошки начистит, печку затопит, то да се... и забудется, и уже весь день голова заботами занята.
Ить это скучен день до вечера, кому делать нечего. А в хозяйстве, хоть бы и в колхоз не ходила, все равно работы на весь день по горло. Дочерей хоть и не баловала, а все одно жалко чуть свет поднимать – вот утром и управлялась одна. Там куры в закутке расквохтались, сгрудились у двери и ждут, когда она их выпустит и месива даст. Там поросенок визг начинает поднимать – тоже надо месива вынести, а то всю душу изведет. И она идет во двор, выпускает кур, проверяет, все ли в порядке по хозяйству. Проверит все – и постоит еще чуток, осмотрится: какая погода будет, что там день обещает. Растут по углам двора четыре тополя, серебром блестит их листва в утреннем свете, гомонят в ветках птицы – и засмотрится она на эти тополя, посаженные отцом, когда ей года три или четыре было, по свету и трепету их листвы еще раз прикинет погоду. Привычка. Может, ничего и не связано у нее в этот день с дождем или солнцем – а такая уж привычка крестьянская. Старые люди – так те, бывало, весь год помнили, на какой зимний праздник какой снег и какие облака были и, стало быть, что за погода в определенные летние дни будет. Теперь, конечно, редкий человек в деревне знает и помнит все эти приметы – да и на что они людям: это раньше каждый был хлеборобом, каждый на себя полагался, а теперь отошел народ от земли, отвык... Затопит печку – корову доить идет. Летом, когда погода, корову в сарае не держит, у плетня привязывает. Поговорит вслух с коровой, в другой раз отругает, когда та выходится, что вымени не отмоешь, быстро подоит – и теперь идет старших дочерей будить; самой на базу пора – колхозных доить.
И так изо дня в день, из года в год.
На детей ей было б грех обижаться. Росли послушными, работы не боялись, палку какую, клок сена – все ко двору несли.
...А что поуехали дочери одна за другой – так ей винить их за это нельзя было: такая жизнь сложилась. И у кого они тут задержались, дети? И кто из матерей и отцов захотел, чтоб их сын оставался волам хвосты крутить, а дочь – с весны до зимы на бураке пропадать, и все за сто граммов на трудодень? Вот и ее дочери одна за другой поуехали, замуж повыходили. Тоже не сразу медом жизнь и у них была, мало ли она им посылок поотправила... Конечно, разве не хотелось бы ей, чтоб они жили все рядом, чтоб каждому можно было и словом и делом в любое время помочь, чтоб тех же внучат и внучек не только раз в год на коленях подержать!.. Она и говорит: переменилась жизнь. То, как жили они до войны, когда у них, у молодых, и думок не было разбегаться из деревни кто куда, – та жизнь ушла-уплыла, и ей возврата нет. И все заметно уплывает: и былые порядки, и обычаи, и праздники, и песни... А нового в их деревнях не шибко прибавило. Да и от кого оно прибудет, когда каждый чуть-чуть смышленый сразу же после семилетки старается уехать.
И ее Колюшка тоже после седьмого класса хотел уехать. Тут в школе Колюшка хорошо учился, и она сама хотела, чтоб он поступил в городе в какую-нибудь школу. Дочери в свое время и разговора об учебе не вели: не было у матери мо́чи содержать их, ну а последнего сына она сумела б обеспечить, да и в колхозе стали кое-что платить.
А у сына, оказалось, своя думка была: стать летчиком. В спецшколу решил поступить. Она не раз видела в городе ребят из этой школы: в красивой летчицкой форме, подтянутые.
Подал сын документы в. эту школу... да сорвалось у него.
Невеселым вернулся тогда из города ее Колюшка. Зашел в хату и молча лег на кровать. Мишка тоже, бывало, так: случится что на работе – придет, ляжет и молчит. И не любил, когда она его начинала расспрашивать. Покурит, отойдет и тогда сам выложит, что там у него стряслось. Так и Колюшка. Полежал, потом разделся до пояса и попросил полить ему. Он умывался, а она смотрела на него и думала: неладно, видать, вышло у тебя там, если молчишь.
– Мандатную комиссию не прошел, – сказал он ей.
– А что это за комиссия такая? – Она не знала тогда, что это такое.
– Ну, проверяют там, кто у тебя родители и вообще.
– И что ж? – Она уже поняла.
– Документы назад вернули. Из-за отца.
– Но ты ж писал, что отец пропал без вести. Мы ж сами ничего не знаем про него.
– А им какое дело, знаем мы или нет!..
Так и остался Колюшка дома. Ни в десятилетку, как она советовала ему, не захотел поступать, ни в какую другую школу или техникум.
Будто что-то надломилось тогда в нем. Стал молчаливым, все больше читал или брал удочки и по целым дням пропадал на речке. Потом в прицепщики на трактор пошел.
Один раз вечером стал расспрашивать ее об отце.
– Я же тебе сколько раз рассказывала, – было отмахнулась она.
– Да я не о том, – серьезно сказал ей четырнадцатилетний сын. – Я хочу знать, что он за человек был...
Что за человек был его отец?..
Разве она мало рассказывала детям о нем? Тому же Колюшке: и как кроликов его отец около кузни водил, и как молодых жеребцов брался объезжать, и как любил саком в омутах под корягами сомов ловить, и как радовался, когда она родила ему сына... И она смотрела на Колюшку. Худенький, темноглазый, на губе темный пушок пробивался. Похож на отца. А и не такой, как Мишка. Тот – удалой был, порой даже бесшабашный. А Колюшка серьезный, и лоб у него будет повыше и покрасивей, чем у отца. Вот и вырос он, и уже ему самому жизнь подножку подставила. Не за себя – так за отца. И он хочет теперь разобраться, спрашивает ее, что за человек был его отец. Милый ты мой, думала она, много тебе еще придется разбираться, если у тебя голова к этому способна. Только смотри, не понасобирал бы ты шишек. Вот уж воистину: малые дети не дают спать, а большие и подавно. Хоть и говорят, что дети – что́ тесто: как замесил, так и выросли, а попробуй теперь сама разберись в своих детях, хотя бы вот в сыне. Разве только одна она, мать, месила это тесто? Он вот спрашивает, какой человек отец был, и она понимает, что́ хочет знать ее Колюшка, а как лучше рассказать ему – и не знает.
Много раз возникал у них с сыном такой разговор. Колюшка все еще надеялся, что отец, может быть, жив и живет в какой-нибудь стране. Он читал, что многие наши пленные убегали из Германии и судьба заносила их в самые разные страны: еще и теперь некоторые возвращались домой. Он и хотел понять, мог ли его отец, если он и в самом деле попал в плен и ему удалось убежать и остаться в живых, – мог ли он жить в какой-нибудь стране и не хотеть вернуться назад?
Что она могла ответить ему?
А потом...
За год до того, как ее ушибла колхозная корова, Варвару вызвали в военкомат. Сына дома не было. Колюшка уже работал трактористом, был всю зиму на ремонте и домой приходил только по выходным. А тут была как раз оттепель, распутица – и она совсем не ждала его. Поехала в район одна.
Девушка, посмотрев повестку, указала Варваре тот самый кабинет, где она когда-то разговаривала с комиссаром. Теперь тут сидел незнакомый ей пожилой майор. Вызвал он ее по делу мужа.
Ее еще дома пугала мысль: вдруг опять о нем, о Мишке? Но зачем – ведь столько лет прошло. Подкрадывалось и давнее, во что сама уже не верила: а вдруг жив? Что тогда? «Что? – вслух спрашивала она себя. – А ничего! Жив так жив. Значит, будешь и ты жить с мужем». И боялась даже представить возможную их встречу: почти двадцать лет! Какой он теперь?..
...А майор сообщил ей, что муж ее действительно попал из-за ранения в плен, но по пути в Германию сбежал и до прихода наших скрывался от немцев на оккупированной Украине.
Там же, когда по освобождении Украины он явился к своим, был арестован и отправлен в один из сибирских лагерей, где через несколько лет после войны и умер. И это было все.
– Так что никакой вины за вашим мужем не было, – счел нужным уточнить майор. – И, конечно, жаль, что так вот все получилось у вас тут тогда, в войну. Но вы и сами теперь понимаете: такое уж время было...
Пока она была в военкомате, пока шла по районному городку к шляху – ни одной слезинки не выронила. Сухими были ее глаза. А на душе – и горько, и обидно, и пусто. Ну, кому теперь сказать хоть слово, кому пожаловаться? Да и какой толк!.. Ни муж ее, ни она ни в чем не виноваты – а кому теперь что скажешь, да и какой толк... И н и к т о, получалось, н и к т о н и в ч е м н е в и н о в а т!.. «Такое было время», – сказал ей этот майор в военкомате. Будто время не люди делают! Горько и обидно, и одиноко ей было, хотелось нареветься, наголоситься бы в голос, выплакаться, выговориться... А не было, не было пока слез, будто прикипело у нее что-то внутри.
– ...Так что же, что же это делается, что же творится?.. – говорила она опять кому-то «им». – За что же это вы так вот с нами?.. Выходит, ничего плохого Мишка и не сделал – а вы-то как?!.. И что же оказывается: он столько лет еще там, в этой Сибири, сидел – а вы и ни слова нам о нем. Вы хоть бы дали ему письмо ей и детям сюда написать, или хоть бы ей сообщили – сама и съездила б туда к нему. А то что ж вышло! И за что? Что они сделали вам плохого? И он, и она, и дети его – что вы над ними тут изголялися?.. И для чего, для чего все это?.. Кому, кому стало лучше и легче от этого, кому?..
На работе она отпросилась на весь день, времени впереди было много – и она не стала ловить попутную машину, пошла пешком пятнадцать километров от района до МТС, где работал на ремонте сын. И на ходу, одна, наплакалась сколько хотела.
Она рассказала Колюшке все, что узнала в военкомате. Рассказывала – а он сидел и курил, смотрел в землю.
– Время, говорит, было такое.
– Время! Чего ж тем ничего, если то время прошло?
– Бог с ними, сынок, – сказала она примирительно. – Да и почем мы с тобой знаем, как им теперь, тем. Вон Андрей: он же первый донес на Мишку – а что ты теперь спросишь с него? Так и будет до самой смерти глаза от людей прятать.
– А мы только и знаем – «бог с ними»! – возразил ей сын, будто и не слыша дальнейших ее слов.
Колюшка, когда она пришла, лежал под трактором, какие-то там гайки завертывал. Вылез чумазый весь, похудевший за ремонт – какая тут у них еда в эмтээсовской столовой! Ей по-матерински стало жалко его. Теперь он курил папиросу за папиросой, и опять она жалела сына больше, чем себя. Она вот посидит и уйдет домой – а он все будет думать об отце... да и мало ли о чем. И она понимала сына. Правда-то она, конечно, его, Колюшкина, – да спокон веков не бывало, чтоб сначала топор палку рубил, а потом палка топор рубила. ...Да и нельзя так. Сама вот тоже: пока шла сюда из района – в думках сгоряча чего только не придумывала. А подумала: нет, Варвара, нет... Обидно, конечно, что так вот и с Мишкой вышло и самоё потаскали, – а зла в душе держать не надо. Бог с ними! Что было – то было, не воротишь теперь. А зло, говорила мать-покойница, зло опять породит только зло. Она, Варвара, и так, как подрос Колюшка, боялась, как бы не вздумал он отомстить Андрею. Никогда не говорил он с ней об этом – а видела она: не забывает Колюшка, носит в себе обиду. Обида – от нее, конечно, никуда не денешься, да лишь бы зло не взяло верх. Человек на свет добрым рождается – добрым И жизнь ему надо прожить. Зла на земле, конечно, много, а добро – оно все-таки сильнее. Как бы там ни было, а в деревне никто не поверил, будто Мишка предатель, и ни на Осипа с Матреной, Мишкиных отца и мать, ни на нее, Варвару, – никто ни пальцем не указал, ни слова о них плохого не сказал. А что Андрей?.. Хоть и бесстыжие глаза у человека – а ить все одно людям в глаза прямо смотреть не смотрит, да и народ к нему так же: и Мишкой, и ею, Варварой, всю жизнь попрекают. Нет, сынок, не надо зла в душе оставлять. Надо, чтоб не было его больше, зла такого, чтоб вы, дети, спокойно жизнь прожили, раз уж у них, отцов и матерей, так не получилось. Забывать, само собой, ничего нельзя – да и не забудешь, но и зла в душе оставлять нельзя.
– Не носи, сынок, зла в себе, – сказала она сыну. – Надо – земля-мать сама покарает, кто неправдой живет или зло творит. – Она и сама понимала явную неуместность сейчас этих своих слов: какая уж тут земля-мать! – да вот не нашлось сказать что-то другое...
– Земля-земля... Бабкины сказки!
– Может, и сказки, – согласилась она. – А бабка твоя по этим сказкам жила – и до сих пор ее люди добрым словом поминают...