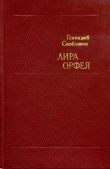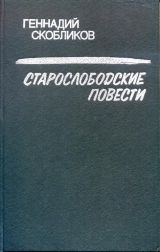
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
VII
Встретился на улице с моей первой учительницей.
– Здравствуйте, – говорю.
– А... Здравствуй, здравствуй! – И ласкательно называет меня по имени.
Останавливаемся, смотрим друг на друга. Моя первая учительница заметно постарела, лицо в морщинах, глаза поблекли, недостает зубов. Одета в черную фуфайку, концы серого полушалка туго обмотаны вокруг шеи, в руках старая хозяйственная сумка.
Вижу, она искренне рада видеть меня, бывшего своего ученика, ей интересно знать, где я теперь, кто я, что я... И я тоже искренне рад видеть ее, мне тоже интересно знать, как она живет-поживает, где и как устроились ее дети.
Стоим, беседуем.
– Стало быть, ты теперича вон иде, аж на Урале! Это же, должно, далеко?.. Ну, а чем же ты работаешь? На-кось! Молодец!..
Как она живет? Да ничего, жить можно. Как не дали учительствовать (в голосе обида), работала техничкой, делопроизводителем. Теперь – в интернате. О детях рассказывает: сын в армии на шофера выучился, женился, живет в городе на Волге, у дочерей тоже все в порядке.
Стоим, беседуем.
Как я хорошо знаю мою первую учительницу, как узнаю эту ее манеру разговаривать. Ни слова не пропустит она из моих сдержанных ответов, на каждое прореагирует: то удивленно откроет рот, то плотно сожмет губы, прижмурит левый глаз и понимающе кивнет, то высунет язык и покачает головой из стороны в сторону... Манера ее – таким образом подзадорить собеседника, подтолкнуть его на подробности. Сейчас ее интересуют все наши, не обижают ли невестки отца...
У всех все хорошо, говорю, никто никого не обижает: не по-христиански это, говорю, обижать других. Она понимает как шутку, смеется. А я и не шутил.
– Ну и слава богу, – говорит она, показывая свою искреннюю радость, что все у нас в порядке. – Усе теперича до дела дошли. А как приходилось-то, господи! Да еще без матери... Помнишь?
Уж лучше б она не трогала, как приходилось нам!..
– Как же не помнить, – говорю, – все помню...
– ...А ты чего вертишься!
Именно так, с ударением на ты́. Дело совсем не в том, что я верчусь за партой – ее злит, что верчусь именно я́. Голос у учительницы низкий и одновременно какой-то металлический, холодный. А в классе – во второй нашей хате – и без того холодно, на окнах на палец инея, зеленоватого, затвердевшего, исчерканного и изрисованного нашими ногтями.
Я прячу руки под стол, мгновенно съеживаюсь, затравленно зыркаю на учительницу, даже перестал потирать друг о дружку босыми ногами, только, оторвал их от ледяного земляного пола, держу на весу – и от этого икры сводит судорогой. А она стоит надо мной... в толстом черном полсаке, в теплых бурках с калошами, в толстой черной шали. Впившиеся в меня серые глаза, одутловатое лицо, вздернутые твердые ноздри – все сливается в одну уничтожающую меня ненависть; и еще руки, готовые больно схватить за плечо и встряхнуть...
Знаю сам: учительница ненавидит меня и не скрывает этого. Знает это и весь класс, даже два класса, потому что и первый и третий занимаются вместе. Ребятам, конечно, что! – никто и не замечает, как она крикнула на меня. Но за что она так ко мне, на это я никогда не сумею ответить: ненавидит – и все тут. Я знаю из разговоров, что мать наша не любила эту учительницу, но что сделал ей я?
Она все стоит надо мной, и я наконец догадываюсь встать. Вскакиваю, поддерживаю штаны, опасливо слежу за ней, а сам стараюсь незаметно прикрыть рукой свой листок – на нем не написано и половины того, что было задано. Правая рука с ручкой под столом.
– Иде твоя ручка?
Вытягиваю из-под стола руку, показываю ей свою ручку: очищенная от кожуры лозняковая палочка, к ней белыми нитками примотано перо. И нитка, и половина ручки, и мои пальцы – все в разноцветных чернилах.
– Чернила?
Глаза вниз, покусываю губы, перебираю ногами – стоять все-таки холодно. А чернила... Маруся собиралась сходить к соседке тете Поре за варенкой: натереть ее на терке, отжать – вот и чернила. Но то ли сестра забыла сходить, то ли у тети Поры варенки не оказалось. Осенью с чернилами лучше было: я сам рвал в лесу крушину, ссыпал эти мелкие черные ягоды в кружку, парил в печке, а потом отжимал ложкой, сливал сок в пузырек – и получались густые темно-зеленые чернила. Правда, писать ими было тоже плохо: или совсем ничего не писалось, хотя на пере было полно этой густой зелени, или – если сильно нажать – чернила писали очень жирно и почти каждый раз каплей скатывались на бумагу, и тогда учительница опять ругалась; за эти самые чернила она и прозвала меня Пашкой-замарашкой. Ну а теперь и вовсе никаких.
– Иде твои чернила, спрашиваю!
Шевелю губами, будто что-то отвечаю, а сам зыркаю по сторонам, по лицам ребят. Они только делают вид, что пишут, а сами наблюдают, чем кончится. У большинства ребят, а особенно у девчонок, есть чернила – в пузырьках, а пузырьки в мешочках, которые затягиваются шнурком: обмакнут перо и затянут шнурок, мешочек с пузырьком держат в левой руке, а правой пишут. Улучишь момент, когда мешочек открыт, может, и обмакнешь перо у кого, но это редко удается, тем более мне. Мне вообще редко что дают, и я знаю почему: всем надоедает, что я попрошайничаю. Я уже хорошо знаю, что бедность постыдна, унизительна, и от того, что я сам хорошо чувствую это, мне еще хуже: я не могу выпрашивать хотя бы эти чернила, как делают это другие ребята, мне стыдно все время клянчить. У многих настоящие чернила, из химического карандаша или даже из порошка: эти твердые золотисто-зеленые кусочки привозят торговки из Курска.
– Покаж кетрадку! – Тетрадку, значит.
И чего пристает!.. Знает же – нет у меня тетрадки. У ребят хоть какие, а есть: из желтой шуршащей, а то и из настоящей белой бумаги, сшитые нитками и разлинованные карандашом. Бумагу тоже городские торговки привозят, за самогон продают, но Маруся не гонит самогон. Один раз она уговорила торговку продать ей бумагу за топленое молоко, но на той бумаге можно было писать только карандашом, если б он был, а чернила промокали и расплывались, но и та бумага уже кончилась? Настоящие тетрадки, да еще с двойными желтыми обложками, есть только у Кольки и Васьки Самариных: им отец в посылке с войны прислал целый ящик; у них и ручки настоящие есть, и перьев и карандашей всяких много. Но то у других... И я прикрываю рукой свой лист, исписанный с обеих сторон химическим карандашом и со следами сгибов – письмо от отца.
– Ну-кась, дай!
– Это письмо. От отца с фронта. Я пишу на нем.
– Ну-кась!
Учительница берет письмо, отходит в сторону и начинает читать.
Письмо написано, конечно, не мне – Марусе. Но я знаю, что в нем. Отец пишет из Польши, что он поправляется после ранения, что ногу ему не отрезали: Наташа уговорила хирурга оставить ногу. Что хотели его эвакуировать в тыл, но наша Наташа опять же добилась, чтобы его оставили в ее госпитале. Еще отец пишет, чтоб Маруся сходила к председателю колхоза Харитону и сказала ему, что он, отец, «велить ему обеспечивать школу дровами, а не заставлять тебя, ребенка, таскать их из болота на себе. А если чего, то – так и скажи ему, пускай на носу зарубить – я ему сам тогда напишу, а вернусь – голову костылем проломлю...» Есть в письме и про меня: чтоб смотрела Маруся за мной, и про корову – ее всеми средствами надо продержать до весны, а там и он, отец, вернется... Длинное письмо. Как отец попал в госпиталь, так и стал писать длинные письма, а нам с Марусей хорошо, что они такие – подолгу читаем их на печке. Я знаю, что мне попадет от Маруси, если она узнает, что учительница читала это письмо, – но что я могу сделать!
Учительница читает долго, и я вижу, как наливается краской ее с шершавой кожей лицо, как еще сильней раздуваются ноздри: должно быть, все из-за дров.
Федька Сережин, мой сосед по парте и мой дружок, толкает меня твердой литой шахтерской калошей по голой ноге и дергает за рубаху: садись, мол, чего стоишь. У меня и вправду закоченели ноги. Я сажусь, отрываю ноги от земли и быстро их тру друг о дружку, чтоб согрелись.
– Тебя кто сажал?!
Вскакиваю, кривлю рот в сторону Федьки: тоже мне, подсказал!
– Будешь стоять урок и усю перемену. – Учительница швыряет мне письмо. – Завтра без чернил и кетрадки на уроки не приходи! Пускай твоя Маруська поменьше письма женихам пишет, а бумагу отдасть тебе. Возьми и напиши про ета отцу, как она тут за тобой ухаживаить. Задницу только кошелем умеить носить. Усе вы противные, Прошечкины! – И она отворачивается, будет теперь заниматься с третьим классом.
Мы, первоклассники, сидим за партами, поставленными – какая как стала – в дальней и самой холодной части хаты. Тут дует сразу из двух окон. Третий класс сидит в ближней половине хаты, перед лежанкой, где у нас когда-то стояла большая красная кровать; весь класс сидит за одним большим черным столом с откидными крышками по бокам. Третьеклассникам теплее, потому что они сидят перед открытой дверью в первую хату – оттуда, от печки, идет теплый воздух. Холоднее всех тут мне, потому что все обуты и в одеже, а я как сидел на печке в рубахе и штанах, так и спустился в школу. Обычно каждую перемену я залезаю на печку, засовываю под попонку ноги и грею их о горячие кирпичи. Неужели учительница по правде заставит меня стоять всю перемену? Кроме того, мне и позавтракать надо. Там, в печке, стоит сейчас сковородка с картошкой. Маруся каждое утро оставляет для меня эту вкусную картошку: сварит ее, натолчет, нальет немножко молока, а потом выложит на сковородку, загладит сверху и поставит в печку поближе к жару – и картошка покрывается вкусной розовой коркой.
Маруси сейчас нет дома, ушла на болото за дровами. Каждый день она ходит два раза на болото – приносит дрова на печку и на лежанку. Потом она идет в поле, приносит вязанку ржаной соломы и отцовской косой режет во дворе резку корове. Нынче утром сестра еще ничего не давала корове, только теплое пойло выносила, и теперь я слышу, как ревет в закутке наша Милка. После Маруся будет колоть дрова и половину их положит в печку, потому что сырые они в лежанке разгораются плохо – на них аж кипит вода. Самое плохое то, что Марусе обуваться не во что, сейчас она ходит в хромовых полуботинках матери – последнее из обуви, что было у нас в сундуке; она даже отцу боится написать, что взяла эти ботинки.
Отца призвали на фронт весной. Мы провожали его далеко за деревню. А после, когда по деревне с той стороны проходили военные, Люба подбегала ко всем и спрашивала: «Дядячка, вы не видели там нашего отца? Он в шапке и полушубке. И еще у него белый запасник с сухарями?» И солдаты всегда говорили, что видели: и шапка на нем, и полушубок, и мешок за плечами...
Люба сейчас в Щиграх, устроилась работницей у какой-то врачихи. Один раз она приезжала, рассказывала: у врачихи ей хорошо – тепло и кормят, но работы хватает, потому что врачиха очень любит чистоту, а комнат много, но она, Люба, работы не боится, а боится не угодить еду сварить, да еще проспать утром, когда завтрак надо готовить. Четвертый класс Люба закончила тут, в нашей хате, а в пятый ходила за пять километров в Ново-Сергеевку, но осенью бросила, потому что обуваться не во что было. Она по грязи до самых морозов босиком ходила, прибегала из школы и плакала на печке и Маруся уговорила ее бросить школу.
Витька с Петькой тоже в Щиграх, в детдоме. Маруся еще прошлой зимой устроила их. Два раза она ходила с ними туда, за двадцать пять километров, но братьев не принимали, потому что мест не было. Помню, мы с Любой ждали одну Марусю, а они пришли ночью все трое, даже четверо: однорукий Тихон-почтальон принес в мешке Петра – от самого Мелехино восемь километров нес его за спиной в мешке, потому что брат уже не мог идти. Тихон ушел, а мы все пятеро сидели на печке: Витька и Петька плакали от боли в распухших ногах, Маруся и Люба плакали, потому что не знали, что с нами делать, и вслух жаловались покойной матери, и я тоже плакал вместе со всеми. После Марусю кто-то научил оставить братьев около детдома, а самой будто уйти – спрятаться где-нибудь и подсматривать. Она повела братьев, спряталась – и к вечеру их забрали в детдом. Им там, конечно, хорошо. На каникулы зимой приезжали в черных пальто, в шапках, в серых костюмах и в ботинках на толстой подошве, и у каждого по две пары носков: одни тонкие, а другие толстые, шерстяные. Они мне рассказывали, как весь их класс и учительница с воспитательницей смеялись над моим письмом: оказывается, я вместо буквы «я» писал «ьа» и в письме было: «Здрастуйте Витьа и Петьа...» Они много рассказывали, как им весело в детдоме и какая у них хорошая воспитательница – это она нашла для Любы место у врачихи.
А мы с Марусей рады были, когда узнали, что школа будет у нас. Маруся – потому, что нам теперь выдавали в сельпо паек: пшенку, из которой сестра печет блинцы; пшенка хранится в сенях пуньки у тети Поры, потому что в хате она прогоркнет, а у нас в сенях ее украдут. А я радовался тому, что мне теперь ближе всех в школу ходить: слез с печки – и в школе. И обуви не надо. Правда, мне тетя Фрося, сестра отца, приносит иногда худые лапти, что остаются от ее Кольки, когда ему дед Восичка новые сплетет, и я подделываю кое-как веревками эти лапти и тогда бегаю кататься на салазках. Лыж у меня нет, я пробовал их сделать из латков рассохшейся кадушки, но ничего не получилось – они не скользили. Бо́льшую же часть я сижу без лаптей, и когда мне надо бежать к Федьке Восичкиному или Шурке Гаврилихиной за задачником, я бегу босиком. Тут недалеко, четыре хаты от нас. Туда и назад бегом, а потом на печке ноги грею. Когда бежишь по снегу, то ногам бывает горячо, а потом они с пару заходятся – аж слезы выступают на глазах и выть хочется.
Если б вот не писать! А букварь у меня есть, я его давно весь прочитал – сидишь все время на печке, так все заранее прочитаешь. В прошлом году, когда ребят в детдом определили, у нас стала жить приехавшая из Щигров учительница Зинаида Васильевна с сыном и двумя девочками, она теперь вторые и четвертые классы учит и живет с нами по соседству. Вот тогда у нас весело было! Вечером мы все забирались на печку, и Зинаида Васильевна подолгу читала нам сказки. У нее очень много книг, в основном сказки, и она всегда сама читала нам их. Страшно было, когда она читала «Аленький цветочек». Еще у нее много картин на бумаге, они свернуты в трубку. Мне особенно нравилась одна, где был так похоже нарисован синий зимний вечер, вдалеке видны хаты деревни, к ней по дороге что есть духу несется лошадь с санями, а на санях сидит мужик, погоняет лошадь и через плечо смотрит назад – вот-вот его настигнет целая стая волков...
Арифметика у меня тоже хорошо получается, если устно считать. А вот с письмом плохо, за это учительница и ненавидит меня. А может, еще за что?..
На перемене почти все бегут на улицу: ребята за хату, а девчонки за наш сарай. У меня тоже сводит живот, но учительница ушла в ту хату, сидит около печки, а мне так и не сказала, чтоб я не стоял.
В середине второго урока я не выдерживаю: не спрашиваясь разрешения, бегу к двери, но уже поздно – штаны мои предательски темнеют, оба класса видят это и хохочут. Хохочет вместе с ними и учительница.
Хоть убейте меня, но в этот день я в класс уже не пойду. Сижу на печке за подушками, вытираю кулаком глаза и сочиняю письмо отцу. Я жалуюсь ему, что Маруся отдала мне не все листы чистой бумаги, что присылал он как-то в конверте, что вообще мне очень плохо. Потом я рассказываю ему, как плохо Марусе, как мучит ее корова, потому что кормить ее нечем, а молока она совсем не дает. И еще много чего сочиняю я в своем письме.
Но в том-то и штука, что письмо я сочинял в уме, но не писал, а отец получил его! По крайней мере ту его часть, где было про бумагу и еще про то, что Маруся целыми днями не кормит меня и за всю зиму ни разу не купала – и то и другое была неправда.
Разве можно забыть тот вечер!..
Я сижу на печке. Тут же горит лампа – маленькая лампа из зеленого стекла. У меня это самые приятные часы: вторая смена отучилась, я один на печке, и вот-вот придет Маруся.
Маруся вбегает в хату и с порога кричит мне: «Братик, а нам письмо от папки! Разденусь и будем читать». Пока сестра раздевается, я держу в руках письмо и разбираю слова адреса, написанные, как всегда, химическим карандашом. И вот Маруся забирается на печку, садится спиной к комоню, замерзшие ноги прячет под попону. Сестра вся румяная от мороза, в глазах веселые искорки, и вся она такая радостная-радостная. Она очень плакала, когда ранило отца, а теперь даже радуется этому, потому что войне скоро конец и отцу уж не придется воевать, а значит, он останется жив и летом вернется домой. Сейчас она будет читать письмо, а потом мы долго-долго будем разговаривать с Марусей.
Она читает письмо вслух. Начало я уже наизусть знаю: отец жив и здоров, чего и нам желает, Наташа тоже жива... Но вот Маруся запнулась, читает письмо про себя, и я вижу, как меняется ее лицо, а глаза наполняются слезами. Она не дочитывает письмо до конца, – прижимает его обеими руками к лицу и рыдает. Я тоже готов заплакать, но не знаю, почему надо плакать, раз отец и Наташа живы и здоровы.
Маруся поднимает на меня глаза, на ее мокром лице чернильные пятна от химического карандаша.
– Неужели это ты отцу про меня написал!..
Еще не видел я никогда таких глаз сестры: и боль, и обида, и вопрос ко мне, и осуждение – все сейчас в этих мокрых темных глазах. А Маруся сжимает письмо у рта и все смотрит, смотрит на меня.
– Это ты писал, что я не кормлю и не купаю тебя?
Я жмусь в самый угол печки, а сам не могу отвести взгляд от глаз сестры, от этих добрых глаз моей шестнадцатилетней Маруси, самого близкого и самого дорогого для меня человека. Я плачу и клянусь ей, что не писал отцу, и только теперь рассказываю ей про тот урок и про те слова учительницы.
– Не писал я, Маруся...
Больше всего я боюсь, что она не поверит мне. Но она верит, я вижу, что верит.
– Я знаю, это не ты, – говорит мне Маруся, – я теперь все знаю... Я знаю, кто это написал. Но что я им сделала, что?..
Если б я вправду уже умел писать письма! Я бы написал отцу, какая хорошая у нас Маруся, как мне хорошо с нею, как ей приходится трудно и как она плачет сейчас... Я тоже теперь знаю, кто написал ему письмо за меня, и я б все рассказал ему про них, потому что хоть я и маленький, а все знаю и все понимаю... Но когда вернется отец, я ему все расскажу, все до капельки...
– Ну, молодец, молодец! – говорит мне моя первая учительница, а я смотрю на нее и думаю: «Вот взять и спросить у тебя: а что, можно было бы прожить без т о г о? Обидишься? Скажешь, что ничего такого не было? А может, и не помнишь уже? Трудно поверить, но, может, и не помнишь. Только я-то все помню...»
Нет, не злопамятство это.
Просто помню и теперь благословляю те наши слезы – слезы великого пробуждения в душе мальчишки ненависти к злу.
Только ничего этого не сказал я своей первой учительнице.
VIII
В конце августа сорок пятого года вернулся с войны отец.
Был жаркий полдень. Я рвал орехи в дальних засеках, за Большой Дорогой. Орешник тут невысокий, на верхних ветках орехов мало, да и те больше молоньёвые или червивые, но если поискать на самых нижних ветках, по поземушкам, то найдешь настоящие орехи: кожура граней прозрачно-желтая, будто восковая, а сами орехи коричневые, с белыми жупками, в них так и угадываются твердые ядрышки. Я поднимал одну ветку за другой, обирал попадавшиеся грани, тут же выкатывал из них орехи и ссыпал за пазуху. Над поясным ремнем, туго стягивающим заправленную в штаны рубаху, уже заметно приспускался окольцевавший меня валик из твердых тяжелых орешков, так приятно щекотавших голое тело и еще приятнее четко постукивающих, когда я время от времени ударял по этому валику снизу рукой. Я был горд, что нарвал много, что специально пошел за орехами один, чтобы побольше заготовить их к приезду отца. Мы с Марусей не знали, когда он приедет, но знали, что скоро, и что я мог приготовить ему лучше орехов? Я добросовестно ползал под кустами и обирал грани, а чтобы не щелкать орехи, потому что тогда ничего не нарвешь, пел частушки. Пел я, помнится, нехорошие частушки, потому что когда с Большой Дороги меня окликнули бабы, шедшие с обеда на работу в поле, я замолчал, притаился и решил не отзываться. Но они не уходили:
– Жень, Женькя! Не бойся, дурак, иди суды. Беги скорей домой – отец ваш с войны пришел. Он в Троице щас. Маруськя поедить за ним, а ты тут пропадаешь...
Таким не обманывают! Я выбрался на дорогу и побежал домой.
И тут я вспомнил о Чувилихе – о бабке Луше, что живет через хату от нас. На днях мы с Федькой забрались на ее дулинку, и Чувилиха узнала. Бабка пошла домой к Сережиным, побранилась с матерью Федьки, теткой Нюрой, но не перекричала Федькину мать и, злая до невозможности, добралась до нас с Марусей, хотя сестра, конечно, ничего не знала о моих похождениях по садам. Я, как только увидел бабку, выскочил в окно и спрятался в лопухи, как лес разросшиеся вокруг нашей хаты, а Чувилиха отчитывала Марусю и поклялась, ведьма, святым крестом, что как только вернется отец, она все расскажет ему.
– Я его сустрену на улице! Сустрену – и при всем народе расскажу про ваши проделки, чтоб вас антонов огонь сжег!., чтоб вы подавились ими!... чтоб вас поносом пронесло от моих дуль!..
Я уже не бежал, а тихо шел по огороду и представлял, как придет к нам нынче Чувилиха: вся в черном, маленькая, быстрая, с палкой в руке, – как она зыркнет на меня огненными глазенками и начнет все-все докладывать обо мне отцу. Так и стояло передо мной лицо бабки: две острые скулы с нежной розовой кожей и красными кровяными сосудиками, выпяченный подбородок, сизый нос, свирепые глазенки и кричащий щербатый рот. Откуда-то я знал, что отец мой и Чувилиха не любят друг друга, что до войны они не раз бранились, что он знает за бабкой какие-то страшные грехи, но разве это облегчало дело, если бабка при всем народе будет рассказывать ему обо мне. Первый раз за все время я проклинал свою дружбу с Федькой, с кем мы были «сапог к сапогу» и к кому я приходил – в огромную семью тети Нюры и дяди Сережи, – как к себе домой, и меня принимали там как родного. Теперь я считал, что во всех моих грехах виноват только этот Федька Сережин, и уж лучше было бы дружить мне с одним Федькой Восичкиным, к кому я бегал за задачником, или со своим двоюродным братом Колькой... Подходя к саду, я с ненавистью посмотрел на бабкину дулю: стоит за плетнем как ни в чем не бывало, и желтых дуль на ней полно – сколько мы их там сорвали! – и дал себе слово: если Луша нынче расскажет все отцу, спилю ночью дулинку! В глубине души я, конечно, знал, что никогда не хватит у меня духу на это, что я только сейчас такой, но тем не менее раз десять повторил свою клятву. А когда пришел домой и бог весть по какому движению посмотрел на себя в зеркало – может, хотел проверить решимость в своих глазах? – и увидел заросшего оборвыша с расплюснутым носом, с виноватыми серыми глазами, в которых не было и признака какой-нибудь там твердости или решимости, – пришлось признаться, что дулинку я никогда не спилю и вообще никогда не сумею отомстить любому моему обидчику. Я посмотрел на свои руки, ноги: с тех и других с весны не сходили цыпки... и решил окончательно, что в таком виде я не поеду встречать отца.
Я высыпал на лежанку орехи, ткнулся на Марусину кровать лицом в подушку и попробовал разжалобить самого себя. В голове плелся предстоящий разговор с Марусей: она расспрашивает, что со мной, уговаривает ехать с ней в Троицу встречать отца, а я – хоть и знаю, что побегу следом за нею, – отказываюсь: то ли потому, что я недостойный сын, то ли – что такой вот я одинокий, заброшенный и мне уже теперь все равно...
Маруся ветром влетела в хату.
– Где ты был? Тебя ищут ребята по всей деревне. А я бегала в колхоз за лошадью. Харитон, гадина рыжий, не дал лошадь, а дал вола, Телушку, перед людьми стыдно. Дождались мы, братик! Давай собираться.
Маруся надела выходную черную юбку, белую кофточку. Я смотрел, как расчесывает сестра перед зеркалом длинные темные волосы, немножко волнистые и с рыжинками на изгибах, потому что она их подпалила, когда завивала недавно на раскаленных вязальных спицах, видел в зеркале ее счастливые блестящие глаза и завидовал: какая она красивая, и нет у нее никаких грехов. А она прихорашивалась и рассказывала мне, что до Отрешкова отец доехал с троицкими мужиками, они тоже с войны вернулись, приехал с ними на подводе в Троицу и теперь гуляет у кого-то там, а из Троицы вот прибежали и сказали ей, чтоб мы приехали за отцом, потому что он не дойдет. И пока сестра все это говорила, я уже забыл о своем недавнем настроении и смотрел в окно на подводу, что пригнала Маруся: в одинарную повозку был впряжен безрогий красный вол, за свою безрогость и названный Телушкой.
– Боже, какой ты у меня зачуханный! – всплеснула руками Маруся и засмеялась. Только она одна умеет так смеяться надо мной: ласково, безобидно. – Ну как я тебя такого отцу покажу! Иди, дай хоть умою.
Отца мы увидели сразу: он сидел напротив двери, на лавке. За столом, заставленным выпивкой и закуской, сидело человек пятнадцать мужиков и баб – двое из мужиков были в военном, как и отец. На отце была новая комсоставская гимнастерка, черные погоны с желтыми лычками, над карманом гимнастерки на шелковой красной ленте красовался орден; чуть позже, к немалой моей обиде, я узнал, что у отца моего нет ни одного ордена, что на груди у него значок «Отличный дорожник». Все это я увидел в одну секунду, а в следующую – Маруся уже висела на шее отца, и они оба плакали. Все, кто был в хате, смотрели на них, а я задержался на пороге и не знал, что делать.
А потом я стоял, прижавшись к отцу, он гладил мою голову, говорил обо мне всем этим незнакомым людям, что я самый маленький у него, и мне было почему-то стыдно, и еще я никак не хотел отрываться от отца, когда от пытался поставить меня перед собой и рассмотреть, какой же я есть.
Отец что-то спрашивал у Маруси, она отвечала ему... и все плакала.
– Чего плачешь, дочка! Чего плакать теперь! – повторял отец, а сам сморкался в платок и вытирал мокрые глаза. – Теперь плакать что? Слава богу, жив вернулся! Другие – э-эх, сколько сирот пооставляли!.. А нога – грош ей цена, по совести сказать, подживет. Я... я на ней еще похожу, похожу, детки! – В порыве он встал, отчеканил два строевых шага – и обмяк, лицо исказилось от боли. – Сволочь, болит еще. С одним костылем пробовал – не получается. Ну, да это чепуха! Главное – победили, доконали сволочугу. А остальное... – и отец так хорошо махнул при этом рукой, что я до безумия был рад всей нашей будущей жизни.
Я не сводил глаз с отца, в военной форме хорошо знакомого мне по фотокарточке, и постепенно узнавал в нем его довоенного, каким он вспоминался мне все эти годы. Тот отец, из воспоминаний, и этот, на чьих коленях я теперь сидел, слились наконец в одного, – и никогда, еще ни единого раза не было мне так хорошо!
Мы спустились с горской горы, и отец остановил вола. Он развязал мешок, достал огромную красную эмалированную кружку.
– Ровно литр! – довольно сказал он и протянул кружку мне. – Сынок, принеси-ка из нашего колодезя воды. От самой Польши, как захочу пить, так и думаю: вернусь – первым делом воды своей напьюсь. Принеси, сынок.
Надо ль говорить, что я вихрем домчал до колодца, а потом спешил к отцу быстрыми маленькими шажками, аккуратно удерживая на весу по края полную кружку прозрачной родниковой воды. Отец пил воду, отдыхал и опять пил, а я смотрел то на него, то вверх на свою гору, где нас поджидало много людей, и мне было так торжественно, что отец пьет воду из своего колодца, и это я принес ему ее.
Отец не захотел въезжать в деревню на повозке. «Я еще посповидаю Харитона за этого вола! – не раз за дорогу говорил он. – Лошади не нашел...» Мы отдали подбежавшим ребятам гнать подводу по пологой кружной дороге и по своей «К о л и н о й д о р о г е» медленно пошли на нашу высокую крутую гору.
Тут я опять вспомнил о Чувилихе. Но, к счастью моему, среди поджидавших ее не оказалось.
Бабка встретила нас на улице. Как всегда, вся в черном, Луша быстро шагала к нам от своей хаты, и я понял, что пропал, что для меня настает то, страшнее чего уже не будет за всю жизнь. А бабка все замедляла шаг, потом остановилась и закрыла лицо руками: «...Мои сыночки!.. И на кого ж вы меня покинули! И где ж они там, ваши могилушки...» – протяжно запричитала она и опустилась на колени, а потом и вовсе упала головой на землю. И тут же в разных концах деревни запричитали другие бабы, кому уже никогда не дождаться своих. Так бывает теперь каждый раз, когда кто-то возвращается с войны: в одной хате до поздней ночи пьют и гуляют на радостях, а на задворках других одиноко убиваются в безысходной обиде на судьбу горемычные матери и жены, и их протяжные истошные причитания долго еще теснят душу притихшей деревни...
* * *
...Тихий предзакатный час погожего октябрьского дня. Тот самый час, когда солнце уже не греет. Холодным круглым зеркалом блестит оно в белесом ореоле своем и кажется чем-то искусственным и близким, повисшим по ту сторону лога, между голубым в вышине небом и ярко-белым, непаханным после жнитвы полем. А через полчаса солнце потускнеет, станет оранжевым, потом густо-красным и большим шаром плавно опустится за горизонт; и там, где оно скроется, край белого поля вспыхнет ярким малиновым пламенем и густым заревом ненадолго разгорится край неба; сразу же будто почернеет поросший орешником горский склон лога, и из его глубины, от ручья, потечет вверх прозрачная синь, заполнит огромную пустоту лога, разольется по выгону, рассочится меж погребок, хат, сараев, и деревня наша незаметно погрузится в вечерние сумерки. Но это будет, когда пригонят стадо, подоят коров и настанет время ужинать.
А пока мы, деревенская ребятня, сидим на срубе новой хаты деда Восички. Мы вволю наигрались «в лисички», набегались друг за другом по срубу и теперь отдыхаем на прохладных сырых деревах обвязки, болтаем в воздухе озябшими босыми ногами, ведем свои разговоры и ждем пригона стада. За весь день это самое лучшее – сидеть вот так вместе со всеми и смотреть с высоты сруба, куда только достанет глаз: на разбросанные хаты Горки и ее сады – и с удовольствием вспоминать, когда и с кем забирались в тот или иной сад, сколько и каких принесли за пазухами яблок; на черный крест и купол троицкой церкви за горским выгоном; или левее на черное ольховое болото, по левую сторону Рати, куда при немцах сел зимой подбитый «ястребок».