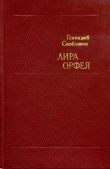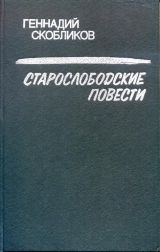
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Старослободские повести
В книгу вошли получившие признание читателей повести «Варвара Петровна» и «Наша старая хата», посвященные людям русской советской деревни. Судьба женщины-труженицы, судьба отдельной крестьянской семьи и непреходящая привязанность человека к своей «малой родине», вечная любовь наша к матери и глубинные истоки творчества человека – таково основное содержание этой книги.
Название «Старослободские повести» – от названия деревни Старая Слободка – родины автора и героев его повестей.
ВАРВАРА ПЕТРОВНА
© Южно-Уральское книжное издательство, 1981.
I
На сорок шестом году, за несколько дней до смерти, Варвара говорила соседке бабке Насте, что ночью вспомнила, как мать Прасковья кормила ее, маленькую, грудью.
– И так явственно, Настя, так явственно!.. – умиленно повторяла Варвара. – Я потом до самого утра все думала про нее, царство ей небесное. И веришь, Настя, так отчего-то хорошо мне стало, что... так бы вот и умереть сейчас, не думая больше ни о чем.
Варвара заплакала.
– Ну и слава богу, – успокоительно говорила бабка, тоже до слез растроганная рассказом соседки. – Ты поплачь, поплачь – ослобони душу. И з м у ч и л о н т е б я. ...А Порка, царство ей небесное, я хорошо помню, тебя большую уже отымала. Ты вон как бегала – а все одно к груди лезла, так она полыном натирала соски, чтоб отучить тебя. Может, и правда помнишь...
Бабка Настя передала рассказ Варвары соседкам, и в тот день бабы по всей деревне только и говорили об этом. И, как принято в народе, когда речь заходит о смерти, – допускать веру в нечто таинственное, бабы – и старые бабки, да и кто помоложе – согласно заключили, что это покойная Прасковья з о в е т Варвару.
«Да и пора ей. Сколько можно мучиться!..» – участливо говорили люди, имея в виду свалившуюся на Варвару болезнь. – «Извел ее этот проклятый рак. А так бы – самое и пожить ей теперь...». «Теперь чего б ей не жить! Девки повыданы, малый тоже уже жених. Обуты и одеты...»
Вспоминали люди, что и ей, Варваре, тоже, было время, не сладко пришлось... ну да это, дескать, дело прошлое. И опять, с долей традиционной мистической веры во «что-то такое», обсуждали, к чему бы это привиделось ей.
И только сама Варвара не участвовала во всех этих разговорах и ни о чем не гадала. Лежала в хате, в своем закутку за лежанкой, и, по-своему счастливая в этот день, время от времени плакала то привычно безутешными, то легкими, светлыми слезами.
* * *
...На самом ли деле хранила ее память ту давнюю явь, или воображение нарисовало ее – но той ночью, блуждая памятью в давнем прошлом, она, считай, уже старуха, измученная болезнью и сама каждый день звавшая смерть, вдруг вспомнила себя маленькую на руках матери, расстегнутую на ней кофту, большую белую грудь... и опять себя, сосавшую эту грудь, и даже свою детскую ручонку, по-хозяйски вцепившуюся в терпеливое материнское тело. В полумраке и тиши ночи таким ясным – и таким далеким было это видение: в этой же самой хате, на этой вот деревянной кровати... но только там – в том далеком далеке. И было ей, смертельно больной женщине, в эти мгновенья та́к, что она и вправду помнит все это...
А потом опять только привычный полумрак хаты, мутно белели потолок и стены ее угла, белела высокая до потолка грубка лежанки, делившая горницу на две части, и там, в верху грубки, угадывалась черная задвижка вьюшки. За лежанкой, тут же в горнице, спал сын, ее девятнадцатилетний Колюшка, из-за болезни матери получивший отсрочку от армии, и она слышала его тяжелое сонное дыхание; за эти три месяца, как он привез ее из больницы (чтоб ей умереть дома, как хотела она сама), Колюшка тоже извелся с нею – что и лица на малом не стало.
Она лежала с открытыми глазами, видела и не видела эту привычную темень своего закутка, слышала дыхание крепко спавшего сына, слышала объявившийся вдруг стук старых настенных ходиков, мимолетные звуки улицы (собака на краю деревни долго на кого-то брехала, у бабки Насти в сенях отчего-то переполошились и и быстро затихли куры...), слышала и е г о в самом низу живота, этот клубок адской боли, пока вот притихший, но все равно жгущий, нудный, ни на минуту не дававший забыть о нем... слышала и помнила все, что есть, что будет... а самой хотелось, чтобы то, что только вот так счастливо вспомнилось ей, чтоб оно, дай бог, повторилось, и тогда она еще хоть раз посмотрела бы и на молодую мать Прасковью («Пришла – показалась... Скоро уж и я к тебе...»), и на себя – грудную («Надо же такому, господи!..»), а может, и еще что-нибудь увиделось бы ей из той давней их жизни...
Она лежала осторожно, чтоб не потревожить е г о, и напряжением до конца ослабленной мысли силилась опять зримо увидеть эту вот свою хату, но чтобы там – в дали давних-давних детских своих годов, и чтобы опять увидеть, как живых, мать, отца, себя маленькую... Но из ее усилий ничего не получалось. И тогда, чтобы продлить приятное, она просто вспомнила, как это только что виделось ей.
Помнила, что сидела мать, кажется, вот тут, на этой самой кровати, что кофта на ней была розовая и в какой-то мелкий цветочек, а белая косынка повязана узлом назад – как на молодайке! Да и сама она, мать, какой, должно, и молодайкой была: лицом полная, белая. А всего отчетливей запомнилось ей из виденного, как она, маленькая, вроде как выплюнула сосок – и из него, темного, брызнуло молоко и покатилось по розовой кофте матери белыми каплями...
Ее глаза все так же открыто смотрели в ночную темень, так же слышно было ей и дыхание сына, и прерывистый стрекот сверчков из открытой двери кухни... и в то же время, теперь уже без всякого усилия, ей опять виделась эта их хата – там, за далью прожитой жизни, и в ней, будто высвеченной каким теплым светом, брезжились то мать, то отец, то она сама, маленькая Варька-Варюха, как называл ее отец, то просто подробности того былого быта...
Вспомнилась хата, когда она была еще без перегородки. Печка, стол, лавки, эта вот кровать в углу, у стенки ее – Вари кроватка, в другом углу пряха и донце с вечно готовой куделью. Серый земляной пол. В правом углу от печки – бедная иконка. Мать хлопочет у печки... Ей, Варе, годика три...
А потом, как-то зимой, отец наколол из дубовых чурбаков коротких досок (тут же в хате правил их топором, долго сушил на печке, вся печка была уложена ими, а после строгал на лавке рубанком), подвел под среднюю матицу столбы с пазами и забрал переборку, так что стало у них – и кухня, и горница. И скорее всего в ту же зиму печник сложил эту вот грубку с лежанкой, и хорошо сложил: дымоход в грубке в пять колен сделал, охапку хвороста сожжешь – а она аж до самого верха прогревается, всю ночь от нее тепло в хате. И пока они жили втроем, до ее, Варвары, замужества, ни мать, ни отец почти никогда не спали на печке: тут, в горнице, в самые холодные зимы всегда было тепло; а на печку если только когда с мороза залезали, спину погреть.
Мать с отцом спали вот тут, за лежанкой, на этой вот самой кровати. Дубовая кровать – она и еще кого хочешь переживет...
А ее кроватка стояла по ту сторону лежанки, где теперь никелированная кровать Колюшки. Ту кроватку отец тоже сделал сам, покрасил голубой краской. И она, маленькая, помнится, рада была, что у нее теперь своя отдельная и такая красивая кровать, любила ее и спала на ней что-то лет до восьми, пока отцу не пришлось делать новую, уже большую. Ту ее маленькую кроватку мать застилала пестрым одеялом; само одеяло было ватное, а верх сшит из цветных лоскутков: оно потом долго лежало в сундуке, пока не пришлось достать с чердака ту же кроватку и это одеяло из сундука уже для детей самой Варвары. ...Заберется она, бывало, под одеяло, сначала всегда прохладное, пригреется и лежит себе, смотрит, как мать или прядет, или еще что-нибудь делает, а отец сбрую какую шьет, или корзинку, или там лапти плетет. А потом и мать подсядет к ней: знала – ждет Варя, чтоб она, мать, спела ей на сон свою песню.
И это вот в бессонные ночи своих последних недель Варвара вспоминала часто: она – маленькая лежит в той голубой кроватке, а рядом сидит мать и поет ей, баюкает свою Варюшку.
Она была невысокая, Прасковья, в молодости лицом полная, характером всю жизнь спокойная и мягкая. И голос у нее был тоже – негромкий, мягкий. Мать знала много песен, но ей, Варе, больше всего нравилось, когда мать пела ей свои песни, потому что в них всегда было и про нее, про Варю.
Подставит, бывало, мать к ее кроватке маленькую низкую лавку, сядет, положит руку сверху на одеяло, а то и гладит Варю по голове – и поет ей.
... Спи, Варюшка, до утра,
До утра – до солнышка, —
почти всегда одинаково начинала мать песню.
Наступит пора – мы разбудим тебя.
Аа-аа-аа-а, аа-аа-аа-а...
Пела мать – будто из глубины груди, почти не шевеля губами, голос был густой, тихий и мягкий, и песня рождалась такая же мягкая и теплая, как и ее голос. Часто, только начав петь, она замолкала, иногда надолго, а потом продолжала так, будто и не останавливалась:
Вон и сон ходит по лавкам,
И дремота по избе...
Сон говорит: я спать хочу...
А дремота говорит: я дремать хочу...
Лампа висела на том же месте, где и теперь: посреди горницы, на проволочном крюку. Перед сном, если отец тоже закончил свои дела, мать сильно прижмуряла ее, и тогда горница освещалась совсем слабо; светло было только вокруг самой лампы, а на потолок и верхний край стен падала тень круглой ламповой тарелки, огромная, чуть качающаяся тень со светлым кругляшом посередине, на закопченной матице, над самой лампой; а ниже по стенам и на полу тени были уже другие: от стола и лавок, от пряхи и донца с куделью... и часто ей, маленькой Варе, казалось – или хотелось, чтоб так оно и было? – что по этим теням и ходят те самые сон и дремота, о чем поет мать:
По полу, по лавкам они похаживают...
К Варюшке в кроватку заглядывают...
Заглядывают – спать укладывают...
«Ну, а теперь повернись на правый бок, – говорила мать, прерывая песню. – А то будешь на левом боку спать – левшой и вырастешь».
Варя поворачивается на правый бок, лицом к стене. Мать теперь не видела ее – и можно было лежать, как хочется: хоть с прикрытыми глазами, хоть и вовсе с открытыми.
... Спи, донюшка, спи, не горят нигде огни, —
мягко обволакивал и баюкал ее голос матери, —
Спи-поспи до утра, до утра – до солнышка...
Вечерняя тишина, какой-то особый уют полуосвещенной хаты, тепло постельки, в теле чуть тягостная истома наступающего покоя, особенно в уставших ногах после целого дня беготни, перед глазами череда живых картинок: и из того, что было за день, и тех, что ожидают ее, Варьку-Варюху, завтра... и эта вот песня, голос матери – так же привычные, как и все, что окружает ее, и такие необходимые ей, чтобы так вот лежать с полузакрытыми глазами, и – никогда не думая об этом – знать, что раз мать рядом, раз так вот покоен и сладок ее голос, то и все остальное кругом так же хорошо... и в этом блаженном состоянии полного своего благополучия незаметно засыпать, постепенно забывая обо всем, утрачивая и ощущение самой себя, и только все еще оставаясь донюшкой и Варюшкой в плавном голосе матери...
Насколько помнила Варвара – а Прасковья пела ей, должно, лет до восьми-девяти, – в песнях матери было всегда про одно и то же: про нее, Варю, про хату со всей ее утварью, с мышами в подполе и сверчками в кухне за печкой, про землю и солнце, про корову и птиц, про вечер или утро... Эту песню свою – а все песни матери и были одной бесконечной песней – она пела всегда на один мотив, но Варе она никогда не надоедала. В песне матери все знакомое маленькой Варе: и хата, и солнце, и ветер, что гудит в трубе, и мыши, живущие в подполе – все так хорошо и мирно сочеталось и уживалось между собой, все согревалось таким хорошим теплом в голосе матери, что она, Варя, закрыв глаза, часто будто и не слышала мать, а просто жила в окружении этих простых и понятных ей явлений...
Летних вечеров в хате она не помнила. Да их и не было, летних вечеров в хате. Летом с темна до темна работали до седьмого пота: день год кормит! – и спать ложились рано, с первыми сумерками, потому что и вставать надо еще до солнца. Такая уж она, крестьянская жизнь: хоть та, прежняя, какую вот теперь вспоминает она, когда жили еще единоличниками, хоть и нынешняя. Весь век в деревне: летом разве что у откровенного лодыря найдется свободный час и не ломит к вечеру в пояснице; а обычно так наработаешься за день, что и не чаешь, как бы поскорей добраться до постели. И тогда тоже: встретит мать из стада корову, подоит, поужинают – и сразу спать. А отец... она и не помнила почти, когда он спал летом: то в ночном они со своими лошадьми, то за сеном уедут; а жнитва настанет – возку надо возить, ночью снопы волглые, осыпаются меньше, а ить каждую горсть зерна старались уберечь, каждая по́том полита да и лишнего его никогда не было.
А вот зимними вечерами мать с отцом обычно подолгу сидели за работой. Мать пряла или вязала что-нибудь. Отец шил и чинил конскую сбрую: и себе, и людям – это дело он хорошо знал; а то мастерил что-нибудь по-плотницки или плел лапти. Хоть и была семья маленькая и хватало средств справлять всем валенки, а больше и мать и отец ходили в лаптях с онучами: жалко на всякую работу валенки надевать, а лапти сплести да онучи соткать – это дешевле, в своих руках, да и привычно в них как-то было: легко, тепло. Отец сидел за работой с одной стороны стола, мать жужжала прялкой с другой, а она, маленькая Варя, играла где-нибудь тут же. Часто мать давала ей перебирать во́лну или смотать со скалки нитки в клубок. А то и отцу помогала она: держала за один конец мягкое, отмоченное в воде лыко, а отец острым ножом распускал его на ровные полоски. Закончит отец лапоть, простучит по веревочной подверке подошвы молотком, снимет с колодки, полюбуется – подмигнет: «В лесу было лип-лип, а на ноге будет скрип-скрип!» – и бросит ей большой новый лапоть, пахнущий пареной липой и пенькой: «Обувай, Варюха, если не мал!»
Помнит, любила она, когда вечером топили лежанку. Отец приносил с улицы охапку соломы и коротко нарубленного орехового хвороста, и хату сразу же заполняли свежие морозные запахи. Растапливал лежанку отец сам, а подкладывать дрова и следить за ними поручал Варьке-Варюхе. И ей нравилось сидеть на корточках перед открытой дверцей лежанки, брать голыми руками холодные мокрые палки и подкладывать их на огонь. От жара на сырых дровах выступал пузырьками пахучий желтый сок, что-то там в огне свиристело и пищало, а потом огонь охватывал весь орешник – и тогда слышно было одно гуденье пламени, а лицо обдавало ярким радостным жаром. К концу топки мать приносила из кухни маленький черный чугунок с чисто вымытой крупной картошкой, и ее, без воды, но закрытую сковородкой, ставила в лежанку по ту сторону жара, над которым еще поколыхивалось последнее оранжево-голубое пламя. Минут через двадцать картошка была готова. «Как дыня!» – говорили за столом мать и отец, катая в руках огненные мягкие картофелины. И она брала из чугунка картофелину, обжигала пальцы, перебрасывала ее с ладошки на ладошку и тоже повторяла: «Как дыня мягкая!» Печеную картошку ели когда просто с солью, когда с квашеной капустой или огурцами, но лучше всего была она с конопляным семенем. Когда отец сбивал в ступе из поджаренной конопли это семя, в хате стоял такой вкусный запах, что у нее, у Вари, текли слюнки и ей просто невтерпеж было ждать, когда оно будет готово: она подбегала к отцу, выжидала, когда он остановит толкач, доставала из ступы горстку теплого и влажного темно-серого маслянистого семени, как бисером усыпанного нерастолченными коноплянками, втягивала носом его нестерпимо соблазнительный жареный запах – и уж потом набивала этим семенем полный рот. Хорошо сбитое семя было еще вкуснее, особенно с горячей картошкой: оно просто таяло во рту, и она уминала его так, что мать с отцом только посмеивались, глядя на дочь: «Проработалась!» Еще мать часто делала т е с т о: весной и летом – простое, из гречневой муки, а осенью и зимой парила его из ржаной муки с мороженой калиной; это тесто получалось у матери ядреное, даже в ложке из него выходили и лопались пузырьки, и так оно кололо в нос, что у маленькой Вари выступали слезы.
(...И картошка, печеная в чугунке, и тесто с калиной... – все это было и потом, до самого недавнего времени: давно ли, перед больницей, парила она это тесто – поманулось как-то. Да вот вспоминалось ей сейчас с такой благостью не то, как она с четырьмя детьми каждый день ужинала одной этой печеной картошкой, – а та давняя картошка... будто и пеклась она в другой лежанке, и была отчего-то вкусней и рассыпчатей. Разве дети, думалось ей, когда будут вспоминать ее, свою мать, может, и по-другому помянут ту их военную и послевоенную картошку...)
Иногда за ужином отец выпивал стопку-другую и после этого затевал возню с Варей. Ловил ее по горнице – и делал вид, что никак не может поймать, или подбрасывал на руках до самого потолка. А то подолгу качал на ноге: перебросит ногу на ногу, она заберется, Держится крепко за его руки – а отец подбрасывает ее, и не иначе как с какими-нибудь озорными прибаутками:
Я недавно на мельнице был,
Небольшую череду счередил:
Я у Машки замашки толок,
У Анютки чулок уволок...
за что и получал от матери рушником по шее.
Отец был среднего роста, коренастый, в последние свои годы заметно сутулый от вечного зимнего сидения за шитьем сбруи, с кудлатой головой, с прокуренными усами. Выпивал он охотно, хмелел после второй стопки и, обычно малоразговорчивый (все, бывало, себе под нос), становился веселым и говорливым.
Но случалось – и пьяненьким напивался отец. На престольные праздники – это уж само собой: на престольный кто ж не выпьет. А иной раз и в будни заявлялся домой, что еле на ногах держался. Мать, да и она, Варя, знали повадки выпившего отца: он обязательно начинал хвастать. И какая у него растет дочь! И какая у него жена! И какой он сам – кто лучше его в деревне живет?! Насчет дочери или жены, тут что ж матери было говорить: хорошие они у него – ну, и слава богу. А что якобы жили они лучше всех, тут ей, да и всем, кто слышал отца, только и оставалось что смеяться: жили-то так себе, обыкновенно, хоть и не беднее других, – ну а побогаче-то вон сколько было! «Богач, что и говорить, прямо сам Чупятов! – говорила со смехом мать, вспоминая местного барина. – Ложись-ка лучше спать, богач!» Но отца не так-то просто было уложить – ему еще и поплясать надо! И Варвара с улыбкой вспоминала, как брал отец маленькую гребенку, какой мать чесала замашки на большом гребне, вставлял в нее лист бумаги, играл «барыню» или «камаринского» и сам же плясал: шапка или там картуз на затылке, в левой руке гребенка, правая с растопыренными пальцами – вверх, крутит отец ею над собой, танцует; а глаза веселые, и весь он, отец, довольный: и собой, что выпил вот и танцует, и дочерью и женой, и вообще всем на свете. Не помнила Варвара, чтоб отец буянил или, как другие, поднял когда руку на мать. Как и не помнила она, чтоб мать стала отчитывать пьяного отца. Посмотрит, бывало, на него, скажет: «Где ж это тебя, такого хорошего, привечали?» – и уже идет стелить ему постель. И не то, чтоб было ей все равно, выпивает отец или нет, а просто, не было у нее такого в характере, чтоб ругаться. Конечно, пей он чаще, может, и мать по-другому б... А так она всегда встречала его этим своим добродушным смехом: эх, мол, ты – и себе туда же, а пьянеешь от трех рюмок! А когда отец спал, много раз подойдет посмотреть, как он там, не плохо ли ему. Оно правдой-то и выходило, думала Варвара, когда отец хвастался, что и живут они – другим на зависть, и что жена у него лучше всех...
Мать, Прасковья, выросла в большой семье – «на одиннадцать ртов». Земли, говорила, имели мало, так что как ни экономили, а свой хлеб кончался задолго до новины. Голодно жили, и одеться-обуться не во что было. И Прасковья еще молодой девкой и у барина работала, и к своим, деревенским, кто побогаче жил, на поденную работу ходила: сама день там кормилась, да и домой каждый раз несла – и хлебом, и пшеном: хорошего работника не обижали, чего брехать зря. Ну, а дома, как это и велось в крестьянских семьях, с детства умела справлять любую работу. И матери у печки помогала, и за младшими присматривала, трепала замашки и пеньку, пряла, вязала, училась вместе с матерью ткать, белила на речке холсты. И, рассказывала Прасковья, когда отец прислал сватов, мать с отцом не хотели отдавать ее замуж: работящая девка и в своем доме не лишняя. Но замуж, конечно, выдали, только приданого за ней и было: постель да пустой сундук.
Эта-то нужда с детства и научила Прасковью радоваться самым маленьким радостям жизни. Помнила Варвара, как радовалась мать и своей хате, и каждой приобретенной для хозяйства вещи – тому же новому ведру или чугунку. А когда они купили себе лошадь – зимой было, мать вместе с отцом ходила покупать ее, трехлетнюю гнедую кобылку Зорьку, – так мать первые недели не отходила от нее: то выйдет лишний раз кормочку даст, то станет вместе с отцом щеткой чистить. И, наверное, потому, что даже мелочь приобреталась с трудом, она с такой любовью доглядывала за всем.
Вообще любую работу мать делала охотно, умела все, что требовалось от бабы в крестьянском хозяйстве, судила обо всем со знанием дела, и Варваре – и маленькой девчонке, и уже взрослой – всегда казалось, что мать ее знает и понимает все, что нужно знать и понимать человеку, всегда умеет отличить нужное от ненужного, хорошее от плохого. И как-то само собой получалось у них в семье, что «главной» была у них мать, Прасковья, а не отец, хотя никто из них, кажется, никогда и не стремился командовать друг другом.
Работать на огороде или на свой нарез в поле, какая бы ни была трудная работа, мать всегда шла с нетерпением поскорее взяться за дело, будто ее ожидал праздник. И такое отношение к труду внушала она сызмальства и ей, Варе. «Ты не о спине думай, – говорила она, когда они выходили полоть картошку или просо. – О спине будешь думать, этак любая работа тяжелой покажется. Ты думай – чтоб каждому кустику хорошо рослось, тогда и уставать меньше будешь». Но на огороде и сама Прасковья меньше любила работать, а вот на свой нарез в поле шла и по правде как на праздник. Кроме пахоты, отец, кажется, ничего не делал на поле без нее. Особенно она любила выезжать с отцом, когда сеяли. Отложит любые дела, а в поле пробудет с отцом, пока он не отсеется. ...И теперь, вспоминая, Варвара будто видела все это. Отец насыпает из мешка в плетеную соломенную мерку зерно, надевает завязанный рушник через плечо, поудобней пристраивает, у живота мерку – и мать тут же, помогает ему. «Ну, Господи, благослови», – говорит отец, как это и принято было говорить перед началом любой важной работы. «Давай, начинай с богом», – скажет ему мать. И вот отец уже шагает размеренно по черной пахоте, бросает под правую ногу зерно влево-вправо – и после каждого взмаха его руки зерно разлетается перед ним в прозрачном воздухе и золотится на солнце. А мать, теперь уже не смея топтать засеянное, идет за ним сторонкой, по меже с соседним нарезом. И где-то тут – и она, Варя: то ли сидит на мешке с зерном и смотрит на отца и мать, то ли стоит посреди этого черного весеннего поля и ищет над собой в небе поющего жаворонка.
«Было ведь, ить так все оно и было!» – думала теперь Варвара. Пусть и тогда не ахти как жили: и из лаптей с онучами не вылазили, и не всегда знали, как до новины прокормиться, и работали побольше нынешнего... а сколько бывало, радости от этой самой работы! Чуть свет поднимутся люди – и весь день не покладают рук, все боятся, как бы не сделать мало. На лошаденках плугом или сохой пахали, из мерки сеяли, вручную косили, цепами молотили: света божьего не видели, рубахи на спине от пота расползались – а жили как-то с радостью. Тот же вот сев. Сейчас – тракторами все, сеялками; это, что и говорить, не рукой из мерки бросать: попробуй сейчас пошли мужиков потаскать на животе эту пудовую мерку да весь день помахать! Нынешнюю работу с прежней не сравняешь – тут тоже зря говорить нечего. Только вот как-то интересней все оно было раньше. Настанет весна – и до самой зимы, как муравьи, люди: и старый, и малый – все при деле, каждому своя работа, баклуши никто не бил, Землей жили – и с охотой трудились на ней...
Весной маленькими клочками сеяли: ячмень, гречиху, просо, коноплю... А после жнитвы другая была забота – рожь. «Матушка-рожь кормит всех сплошь», – любили говорить люди. Когда готовились к осеннему севу (рожь всегда старались посеять между первым и вторым спасом: «До петрова дня вспахать, на спас засевать), мать Прасковья, бывало, все молила, чтоб послал бог мелкого дождика; и до сих пор старые люди считают: если пойдет в день сева тихий мелкий дождь – хороший урожай на рожь будет, «а год хорош, когда уродит рожь».
Больше всего любила она вспоминать мать и отца об эту пору, во время сева; или в жнитву: отец косит, мать вяжет...
Семья была маленькая: отец, мать да она, Варька-Варюха. Один ребенок – редкость в крестьянских семьях, особенно по тем временам, да такая уж, видно, была судьба Прасковьи: двое первых детей умерли еще в младенчестве, а после нее, Вари, мать по какой-то там причине уже не могла рожать.
И мать с отцом баловали ее, Варю. И самое вкусное, и какую обновку купить – в первую очередь ей. Так что, по сравнению с детьми многодетных семей, она и ухожена была лучше и обласкана, может, больше.
Отец любил свою Варьку-Варюху, и она, маленькая Варя, точно знала почему: бабка Авдотья, деревенская повитуха, приняла ее от матери на отцову рубаху – чтоб, значит, отец любил ее; об этом ей мать сама рассказывала.
Зимние вечера длинные, и отец перед сном рассказывал ей разные сказки: басни, как он сам называл их. Наверное, было это, когда отец наработается за день и вечером уже не хотелось долго сидеть. Когда он рано ложился, она тоже забиралась к нему на кровать. Мать ложилась позднее, все что-нибудь делала, и пока она работала, Варе разрешалось полежать у отца. За стеной на улице в непогоду свистел ветер, в стекла секла снежная крупа... где-то там, в ночи, было темно, холодно и жутко, там где-то выходили из лесу волки... а тут, дома, в своей хате, светло и спокойно, от натопленной лежанки обдает теплом, привычно жужжит пряха матери, рядом с отцом на их большой кровати как-то особенно уютно, и ей хорошо так вот лежать и слушать отца.
«Вот, значит, в одном царстве, в одном государстве, – начинал отец, – жил-был царь, и был у него сын Иван-царевич...» – И отец долго и охотно рассказывал, как любил царь своего сына, как не жалел он для него ничего...
Любил отец свою Варьку-Варюху, а сам, кажется, всю жизнь тосковал, что нет у него сына: первый-то у них мальчик был, да умер что-то месяцев трех. Бывало, особенно когда выпьет, нет-нет да и скажет: «Эх, мать, подкачала ты!.. Хороша дочь – да в люди пойдет, а сын – он всегда домашний гость!» И любил возиться с соседскими мальчишками: то свистков им из жести наделает, то цурку или чурукан для игры выстругает, то луков и стрел намастерит. Те и рады: все бегут с чем-нибудь к дяде Петру. И, наверное, потому, что хотелось ему сына, чаще всего рассказывал он сказки про Иван-царевичей...
Больше всего, помнится, ей нравилось слушать, когда отец рассказывал про Ивана-царевича и Марью-Моревну. Там тоже сначала царь любил своего сына и не жалел для него ничего. А потом сказка уводила Варю на дно окиян-моря, к морскому царю, у которого не было ни одного сына, но зато было двенадцать дочерей и среди них самая прекрасная – Марья-Моревна, морская царевна. А дальше: как встретились Иван-царевич и Марья-Моревна, как привез ее царевич к себе домой – а старый дурак царь сам задумал жениться на ней и приказал слугам отрубить голову любимому сыну, но мудрая Марья-Моревна оживила Ивана-царевича живой водой. Страшновато было слушать иные сказки отца: не то, чтоб ей самой страшно становилось тут, в своей хате, рядом с отцом, а страшилась за тех добрых людей из сказок, когда тайно затевалось что-нибудь против них. Но зато все сказки кончались хорошо: добрые люди все равно всегда побеждали злых; и она, Варя, дослушав сказку, иной раз и засыпала тут же рядом с отцом... засыпала тем легким сном, когда, если тебе хорошо, то, значит, и всем людям на всей земле хорошо...
...Счастливые дети, думала, вспоминая себя маленькую, Варвара. Ничего-то они еще не знают, ко всему доверчивые. Хорошо самому – и уже все тебе хорошо. Скажет, бывало, мать: «Из добра, дочка, вырастает добро, а из зла – зло. Так что, если человек с доброй душой живет, то и к нему всегда все добрые», – и все для нее было понятно и просто: она, Варя, будет всегда доброй, а значит, и к ней тоже всегда все добрыми будут...
«Твоими устами, царство тебе небесное, да мед бы пить», – много раз в жизни повторяла про себя Варвара, когда вспоминала такие вот речи матери, сама при этом точно не зная, то ли осуждает она за это покойную, то ли просто жалеет, что не всегда, – ой как не всегда, мать! – получается оно так в жизни...
Только нет: никогда у нее не повернулся бы язык, чтобы осудить мать, что приучала она ее, Варю, с самого детства принимать жизнь так же просто и доверчиво, как принимала сама.
С детства знавшая, что такое нужда, Прасковья потом всегда была довольна жизнью: угол есть, хлеб соль есть, одеты и обуты, сами здоровы – что еще человеку надо? И не любила мать людей хитрых, завистливых или жадных – не любила и не привечала. А сама: спросят люди, сколько, мол, они с отцом мер ржи или там проса намолотили, – всегда столько назовет, сколько есть. Эта извечная крестьянская хитрость у многих есть: скрыть, сколько намолотили, сколько сена в сарае, сколько картошки или бурака накопали... А мать никогда не понимала этого: зачем, мол, скрывать, не чужое ведь, свое.
Не помнила Варвара, чтобы не подала мать кусок хлеба нищему или не одолжила кому, пусть даже из последнего. «Бедного человека не корысть – нужда посылает просить», – говорила она, принимала беду другого человека, как свою, и старалась помочь.
Прасковья не раз говорила уже взрослой Варваре, что хотела еще иметь детей. Ездила она и с отцом и одна в город к какому-то там врачу, он ее лечил – да не помогло. Потом по совету одной бабки-знахарки пробовала она лечиться травами. Много их перепробовала Прасковья, но и они не помогли.
А травы с тех пор собирать пристрастилась. Всегда у них стены в чулане были увешаны разными пучками да узелками.