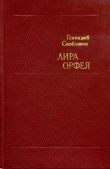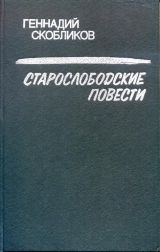
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Перед вечером, когда все ребята играют на срубе, мы – сыновья Коли Прошечкина, как зовут нас в деревне, – сидим дома и ждем, когда он придет с работы. Мы боимся убегать на улицу, потому что знаем: придет он, увидит, что нас нет, а тетя Поля одна управляется по хозяйству, – выйдет на улицу и голосом, от которого у нас сразу падает настроение, прикажет: «Витькь, Петькь, Женькь, – марш домой!» И станет на всю улицу распекать, что мы не сделали то-то и то-то, что у нас в носу «лишь одно свербит – как бы сбежать из дому, когда людские дети стремятся больше матерям помочь». А потом соберет нас во дворе или в хате, у самого лицо пасмурное, глаза потухшие: «Э-эх, беда с вами!» – скажет, и такой у него обиженный вид, что мне до слез жалко и его, отца, и всех нас. «Вы поймите, детки, – не раз повторяет он, разговаривая с нами, – амба нам без нее, без Польки...»
Братья спят. Не храпит больше тот старый пленный в горнице. Затих и отец. Я прислушиваюсь к его дыханию: ровное, с обычным тонким присвистом – спит.
Если б можно было сейчас разбудить отца!.. И если б он захотел меня слушать, а я не побоялся бы сказать все... И если б он понял!..
Я рассказал бы ему, как плохо нам жилось без него, как часто зимой на печке мы с Марусей говорили о том дне, когда он, отец, – дай ему, божечка, живым остаться! – и все наши сестры и братья опять будут дома, и какая тогда у нас начнется жизнь!.. Как любил я всех наших во время этих разговоров, и как хочу, чтоб мы и теперь любили друг друга, чтоб никто ни на кого у нас не ругался... Я б сказал ему, что мы совсем не против того, что тетя Поля пришла к нам, что мы все понимаем и будем стараться помогать ей, потому что мы не лодыри и работать умеем не хуже других... Но нам обидно, что он, отец, так часто, дело не по делу, ругает нас, да еще при чужих людях, что нам нечего ответить ребятам, когда они говорят, будто наш отец злой и недобрый...
...Плывет перед глазами залитая солнцем деревня, плывут лица ребят, мужиков, баб. И где-то среди них я...
...И опять, как было уже когда-то не раз – как в те зимние вечера, когда я слушал рассказы Маруси о счастливой послевоенной жизни, – меня теснит прилив какой-то грустной, жалостливой нежности... к самому себе, к братьям, к отцу, к тете Поле, ко всем нашим деревенским людям; даже к немцам, что спят в горнице, я не испытываю сейчас никакой ненависти, и мне не стыдно за это перед собой, потому что – кто знает! может, эти немцы и никого не убивали и не хотели убивать.
Отец, засучив рукава, месит в кадушке хлеб. Тетя Поля из этого же теста печет лепешки на завтрак. Мы собираемся в школу.
Постель пленных застелена попоной, сами они сидят во дворе на дубовом кряже, ждут команду на сбор.
Мы завтракаем. Каждый чистит себе сваренную «в мундире» картошку, обмакивает ее в крупную соль. Картошку едим с горячими лепешками, запиваем холодным молоком.
В хату входит «кобчик», в руках у него почерневшие от утренних заморозков табачные листья – насобирал за сараем, где мы с Марусей сажали табак для отца. Немец топчется у двери, Ждет, когда на него посмотрит хозяин дома, сам не сводит глаз со стола.
– Пан, – старик глотает слюну, на сизом лице заискивающая жалостливая улыбка. – Пан, – и немец протягивает руку с листьями к печке.
– Посуши им, – говорит отец мачехе, отворачиваясь от немца.
Тетя Поля берет у пленного мокрые листья, кладет в устье печки, где нет жару. Старик благодарно кивает ей, отцу и, пятясь, выходит из хаты.
– Пронырливый этот сволочуга, – сказал отец, и в первый раз со вчерашнего дня усмехнулся; только злая получилась у него усмешка.
– Паек им, Коль, к обеду привезуть, – говорит мачеха. – Можить, я накормлю их картошкой?
Отец исподлобья бросает взгляд на тетю Полю. Ноздри его раздуваются, лицо подергивается мелкими красными прожилками – первый признак подступающего гнева. Мы съеживаемся.
– Все равно останется, – спокойно говорит тетя Поля.
Мы исподлобья с опаской посматриваем на отца, и он видит эти наши взгляды.
– Не издыхать же им! – Отец отбрасывает недоеденную картошку и, не взглянув ни на кого, встает из-за стола. Сунул за ремень топор, в карман – долото, надвинул на лоб фуражку, взял костыли и вышел на улицу.
Он было прошел мимо пленных, потом решительно вернулся. Те встали с кряжа.
– Вам не картошки дать! Вас бы вот этой костылюгой – да по глазам, по зенкам вашим, чтоб вы знали... чтоб вы детям и внукам заказали! – Отец замолчал, и нам, сгрудившимся у окна, видно было, как от тяжелого дыхания у него часто поднимаются и опускаются плечи. Пленные покорно стояли перед ним. – Видали? – Он ткнул костылем в нашу сторону. – А их у меня шесть... шестеро... киндерят. А я отец, мне их кормить, растить надо... А я по вашей милости – вот, калекой на двух костылях остался, дома на них кручусь да на работу в колхозе на них костыляю... Я – плотник! Понимаете? – Он выхватил из-за пояса топор. Пленные испуганно отшатнулись. – Плотник я! – кричал отец, потрясал в воздухе топором. – Мне работать надо, на двух ногах...
Тетя Поля выбежала во двор:
– Коль, иди, иди, не трогай ты их...
Но отец, видимо, и сам понял, что излишне погорячился, отвернулся от пленных, смотрит в землю.
– Не трогай ты их, ну их к идолу, – успокоительно говорит тетя Поля.
– Я – их? На черта я их буду трогать! Зови их завтракать! Картошки им дай, молока налей – пусть!.. – Он неопределенно машет рукой и быстро уходит.
Отец идет быстро, и я догоняю его только в конце огорода. Я трушу сзади него босиком по жгучей от инея дороге, жду, когда отец заметит меня. Наконец он оборачивается.
– Что, подрались, что ль?
– Пап... – только и говорю я и зажимаю рот рукой, чтоб скрыть подступившие рыданья. Отец в упор смотрит на меня, но теперь я не боюсь его взгляда. – Пап, это же правда... это ж хорошо, что ты... ну, чтоб тетя Поля... – Я опять зажимаю рот, смотрю на отца затуманенными от слез глазами.
– Марш домой к чертовой матери! – как-то отчаянно кричит надо мной отец. – Тебя мне только ишшо не хватало!..
* * *
...А через год мы провожали Марусю. Отпускник моряк Черноморского флота увозил молодую жену к своим родичам, на Донбасс, в Константиновку. Был ветреный осенний день, был возок, нагруженный всем, что приготовила покойная мать в приданое трем дочерям – сестры все отдали Марусе, – было много людей. За деревней, когда настало время прощаться, я долго топтался в стороне, пока Маруся сама не хватилась меня. Она подбежала, стиснула меня в объятиях... и наши слезы смешались в последний раз.
Той же зимой мы получили телеграмму: родичи зятя сообщали, что Маруся умерла от брюшного тифа и две недели назад ее похоронили, что «похороны были богатые, на обеде было 42 человека».
Мы голосили и со страхом ждали отца. Никого из нас не любил он так, как Марусю.
Отец с утра ушел в Отрешково, за семь километров, где ему обещали отдать заработанные им два пуда муки. Мы увидели его далеко за логом, на горском поле: припадая на костыль, он шел навстречу метели и вез за собой санки. «Не говорите ему пока, а то сердце с морозу зайдется», – сказала нам тетя Поля, когда мы все трое оделись и пошли ему навстречу. Отец был весь залеплен снегом, устал и замерз – особенно замерзла у него раненая нога, из покрасневших глаз текли выбитые ветром слезы и мерзли на небритом лице. Он вез два пуда гречневой муки.
Мы не осмелились сказать ему сейчас о Марусе, и выше сил было идти с ним рядом и делать вид, что ничего не произошло...
Правду мы узнали позже. Родичи нашего зятя, пока он дослуживал свой срок во флоте, склонили невестку не рожать, организовали это дело без врачей – и Маруся умерла от заражения крови...
IX
В прошлый раз, когда заходил в нашу хату, я только со двора взглянул поверх плетня на наш молодой яблоневый сад. Мне хотелось побывать в нем одному, постоять у каждой яблони, но я не стал просить девочку проводить меня мимо пса, отложил сад на какой-нибудь другой день. Теперь же у меня не было желания заходить еще раз в бывшую нашу хату и объяснять хозяевам, зачем пожаловал, и я, чтобы посмотреть на сад, пошел от дома сестры огородами.
Огороды были уже пустые. Давно выкопана картошка, при мне докопали люди свеклу. Дожди сделали распаханные картофельные участки непролазными, ноги вязли в раскисшем черноземе, и я пересекал огороды на плотных свекловичных делянках, сплошь усеянных зелено-желтыми листьями ботвы. Было пасмурно, ветрено и холодно, день клонился к вечеру, на огородах ни души... И мне остро вспомнились нередкие когда-то вот такие предвечерние моменты осенних дней, когда наша корова Милка, как и многие другие коровы, норовила по пути из стада завернуть на огороды, задерживалась в чьем-нибудь саду на этой вот свекловичной ботве, что было всегда опасно, так как она могла подавиться бураком, и нам, в том числе и мне, не раз приходилось подолгу ходить вот так огородами и разыскивать ее и проклинать, а потом, завидя ее, красную, где-нибудь за кустами вишняка, радоваться, что она, проклятущая, наконец-то найдена тобой – и в наказание камнями гнать ее до самого дома. Для всех, кто живет тут и держит корову, все это осталось и до нынешнего дня; и я не мог понять самого себя: жалею я или нет, что для меня этот быт – навсегда ушедшее прошлое...
Сад и тут, как и со двора, огорожен крепким ореховым плетнем, калитка была завязана, и я не стал самовольно открывать ее: остановился у плетня и, сколько надо было, постоял перед садом.
Сливонки, выстроившиеся по меже, уже облетели, лишь кое-где на черных ветках ярко светлели мелкие лимонные листочки, казавшиеся почти белыми. Густой вишняк был все еще зелен, но листва побурела, заметно поредела и тоже готовилась упасть. Никогда не спрашивал я у отца, кто посадил тут сливы и вишни: казалось, что они всегда росли тут. А вот яблони посадили братья. Одну, от двора, посадил Петр еще в военный год, когда растаскивали по домам только что заложенный на подходе к погосту колхозный сад. Пятнадцать яблонь посадил Виктор – лет десять назад, незадолго до переезда в Плавск...
Жизнь каждого из нас складывалась по-своему, непохожей на жизнь другого, и общим было только одно: никто из нас, шестерых детей, не собирался унаследовать эту вот хату.
Сестрам и сама их девичья доля, как говорится, не велела оставаться в родительском доме. А жизнь распорядилась и того жестче. Ушла на фронт овдовевшая Наташа, нанялась домработницей в Щиграх четырнадцатилетняя Люба. Потом Люба завербовалась на ткацкую фабрику в Куровское; после войны, демобилизовавшись, к ней туда уехала и Наташа, собиралась уехать и Маруся... но тогда, в сорок пятом, ей не выдали документы... Вышла замуж Люба и уехала с мужем в Брянск, ездил к ним отец, помог построить маленький домик: горницу да кухню, где они и жили все эти годы, растили троих детей, и только в прошлом году построили новый, побольше, – и, понятно, счастливы им. Долго не складывалась жизнь у Наташи, но потом (это по-моему, но, кажется, так оно и есть) – ей и ее мужу Ивану просто посчастливилось встретить друг друга. У Ивана то́же сложилась жизнь: рано лишился отца, жизнь с отчимом, до армии работа в колхозе без какой-либо специальности, в войну был десантником, прошел пол-Европы, а после семи лет армейской службы – ни семьи, ни дома, ничего. Они согласно решили оставить шахты и уехать сюда, в деревню, на родину Наташи – начинать тут новую жизнь. И начали они ее тоже в этой вот нашей старой хате, жили вместе с нами, и Ивану, я знаю, не всегда уютно было у нас, хотя по своей природной деликатности и сдержанности он никогда об этом не говорил, был всегда почтителен и к нашему отцу, и к тете Поле, мачехе нашей, был, может быть, самым добросовестным работником в колхозе и не покладая рук работал на наше общее хозяйство, – и постепенно готовились строить свою хату, обзавестись своим хозяйством. Отец отдал им наш сосновый амбар, из него поставили горницу, а к ней пристроили кухню. Вот и живут теперь Ваня и Наташа своим домом, своим хозяйством. Оба трудолюбивые, хозяйственные, они живут в достатке – и с радостью, хлебосольно принимают у себя всех нас.
А мы, ребята? Виктор окончил школу ФЗО, получил специальность плотника и был направлен на стройку в Москву. Петр окончил семилетку прекрасно, ему бы учиться дальше, но у отца не было средств содержать двоих в городе, и Петр пошел на государственное содержание в железнодорожное училище, откуда был направлен в Горьковскую область – и живет теперь там, в городке на Волге, оставил бригадирство на железной дороге, пошел на завод, жил с семьей в тесной комнатке в бараке, вечерами из поселка в город ездил на занятия в техникум, теперь он специалист-электрик, начальник цеха. А мне, последнему, посчастливилось окончить дневную десятилетку, а после армии и университет; и по распределению я уехал на Урал.
Так вот и не остался никто из нас в этой хате, никто не вернулся сюда. Было вернулся Виктор из Москвы: туберкулез легких и водка ослабили брата, и он решил было начать новую жизнь тут, в деревне, на что охотно согласилась и его жена Маша, тоже ничего не видевшая светлого ни в своей семье в Плавске, где буянил пьяница-отчим, ни на той же стройке в Люберцах, куда она попала шестнадцатилетней выпускницей ФЗУ. Они и пожили в нашей хате несколько лет, брат успел посадить и этот вот яблоневый сад... а потом не захотел жить тут, уехал с семьей в Плавск, на родину жены, и, почти без средств, начал строить свой собственный дом.
...И когда от тяжелой болезни умерла наша мачеха тетя Поля, отцу ничего не оставалось делать, как продать эту вот нашу хату и самому уехать отсюда.
В прошлом году летом мы съехались в Плавске: отец, Петр и его восьмилетняя дочь Домочка, названная братом этим редким теперь именем в память матери. У Виктора был рак желудка, он уходил на глазах. В один из вечеров за бутылкой «Столичной» – Виктор тоже выпил с нами рюмку – мы загорелись желанием взять его с собой в деревню. «Смотрите... – покорно сказал Виктор, отдавая нам, младшим, право решать. – Вообще хотелось бы... хоть бы сад посмотрел...» Но утром брату стало хуже, и мы отказались от своей опрометчивой затеи, Виктор захотел проводить нас на вокзал, мы тихо шли по пыльному Плавску, много раз останавливались, чтоб брат передохнул, разговаривали о чем придется. А когда подошел поезд, брат как бы невзначай сказал: «Вы, ребят, это... в сад там зайдите, посмотрите, как он...»
Несколько дней спустя с Петром и Домочкой мы стояли на горском поле, отсюда – на той стороне лога. Было жарко, выбросившая колос густая зеленая пшеница серебрилась на ветру. Мы вспомнили давнюю привычку: раздергивали надвое зеленые стебли пшеницы и пробовали на вкус их нежную сочную мякоть, – сок – со сластинкой – так хорошо напоминал детство. Светловолосая сероглазая Домочка смеялась, глядя на нас: «Траву едят!»
– Вон в той хате мы жили, – и Петр показал дочке нашу хату. – Там бабушка твоя жила, Домна Андреевна. Помнишь, я рассказывал тебе о ней. А вон от хаты по выгону, а потом по горе чуть заметна дорожка к колодцу – по ней бабушка за водой ходила, – не то, что у твоей мамы: и в ванной, и на кухне вода! А за хатой видишь сад? Дядя Витя яблони там посадил...
Петр с обычной своей основательностью рассказывал дочке, откуда мы с ним «пошли и есть», и восьмилетняя Домочка слушала его с таким откровенным интересом, что я без всякой сентиментальности был благодарен Петру за эти прекрасные полчаса. А потом по извилистой дорожке в душном орешнике мы спустились к нашему колодцу, попили легкой ключевой воды и по старой нашей – К о л и н о й – дороге (она заросла травой и лишь приблизительно угадывалась на зеленом склоне горы) поднялись к нашей хате.
...Через три месяца мы съехались в Плавск уже все. Погода была слякотная, пасмурная, улицы утопали в жидкой грязи. В день похорон пошел тихий густой снег. Выделенная райисполкомом машина шла пустой: друзья и товарищи Виктора – рабочие парни – отдали ему последнюю дань уважения. Мы с Петром поддерживали сестер, и пока совершался тот долгий и такой короткий пятикилометровый путь, после которого брат должен был остаться только в нашей памяти, – мне было так, что это вся наша скрытая друг от друга боль жизни обнаружилась сейчас в этом траурном шествии, что этот час – час безутешной скорби – по-своему и... (как произнести это?) ...счастливый: оторванные жизнью друг от друга, разбросанные по всей стране, привязанные к нашим квартирам, к нашей работе, живущие каждый своими заботами, во многом уже не знающие и не понимающие друг друга, мы тут, у Виктора, в с п о м н и л и, что мы одной крови, и теперь хоть какую-то долю жизни живем единой болью, едиными мыслями, одинаковым у всех нас голосом совести. ...Двадцать лет брата преследовали болезни, было много жизненных неудач и срывов, была простая работа хорошего плотника и столяра, были табак и водка; был тот бесхитростный бедный быт, когда все на виду и нет надобности надевать на себя маску благополучия и собственной значимости, – и был тот прижатый жизнью человек, кому мы все усердно на самых разных тонах советовали то не пить, то не курить... и брат – мальчишкой суровый и властный – теперь, хвативший от жизни, никогда не возразил ни на одно наше замечание, принимал все сказанное как должное – и никогда сам не пожаловался ни на болезнь, ни на бедность, продолжал жить, как оно получалось, не посягая на большее и ни разу не обидев намеренно рядом живущего; только теперь я понял до всей глубины, что за водкой и резким словом скрывалась боль неполучившейся жизни, чему виновником он видел только себя самого; теперь, спокойный, он плыл впереди над нами, и чистый мягкий снег устилал его последний путь. «Помнишь, – сказал я Любе, – когда хоронили маму, был тихий теплый дождь». – «Ты разве помнишь?» – «Ты сама нам рассказывала. Помнишь, в войну, на печке?..» – «Да-да, помню...»
И когда мы бросили по горсти земли – снег перестал, выглянуло солнце, и вся земля лежала в белой девственной чистоте...
А вечером, когда уснули трое детей брата, а потом забылись сном его жена и наш старенький, ослабевший отец, мы четверо сидели в холодной кухне и согревались растворимым ленинградским кофе, что привезла из Брянска предусмотрительная Люба. «Ребята, неужели только горе будет нас вместе собирать? – говорила Люба. – Давайте как-то соберемся и все вместе поедем к Наташе, походим по нашим дорогам, побываем у мамы. И детей с собой возьмем. Что мы разбрелись кто куда?..» Мы просидели почти до утра, вспомнили и грустное... и смешное, – и странно подумал бы тогда о нас кто-нибудь посторонний: мы немало и посмеялись в ту ночь; через день, сидя три часа ночью у иллюминатора «Ил-18», когда все пассажиры спали, а в восьмикилометровой черной глубине золотистым елочным дождем светились огни городов, я осмысливал этот наш неуместный для такого дня смех: было все просто – мы были так едины в общем нашем горе, что потом так же едино охотно отдались целительной силе воспоминаний о нашей прежней жизни, где Виктор был таким же живым, как и все мы, и где всего было полно: и грустного, и смешного, и просто обыденного – из чего и складывается жизнь. Об этой вот деревне говорили мы, об этой вот старой нашей хате, что чернеет крышей за молодым яблоневым садом, оставленным братом на родной земле...
X
В первый же день Наташа переодела меня. Теперь на мне резиновые сапоги, темно-синий лыжный костюм, черная фуфайка, моя же десятилетней давности лыжная шапочка из зеленого сукна, в которой я в свое время много бегал в Сокольниках и по чудным лыжным местам Подмосковья; вытащенная на свет божий эта шапочка сначала смутила нашего зятя, гостеприимного Ивана: «Да мы что – бедные, что ли! Надевай мою любую! А то скажут: у ч е н ы й, а приехал в такой шапке!..» – но потом смирился, привык и даже находил, что я в ней «вполне приличный».
В хате, где дощатый пол кухни застелен половиками, а в горнице – сшитыми в один «ковер» красными шерстяными попонами, я хожу в блестящих черных калошах с красной фланелевой подкладкой. Ну, а во двор выхожу... в ш л ё р а х! Этим великолепным словом сестра называет то, что остается от резиновых сапог, если у них до самого подъема отрезать голенища. Три пары шлёр – каждому свои – стоят наготове в маленьком коридорчике, тоже застеленном половичками.
...Я спросил у Наташи, откуда взялось это слово – шлёры, но сестра как-то подозрительно отмахнулась. Тогда я стал допытываться.
– Люба весной была – тоже все спрашивала. Шлёры – они и есть шлёры! – И Наташа лукаво и довольно смеялась, и ее строгое лицо пятидесятилетней женщины смягчалось и молодело.
Но ее муж Иван – этот бывший десантник, прошедший пол-Европы, потом шахтер, трубообрезчик, после рядовой колхозник, кузнец, специалист по искусственному осеменению «всей крупно-рогатой и хрюкающей живности», а теперь довольно приличный по местным требованиям ветеринар, ежедневно объезжающий все вверенные ему деревни (что не мешает ему с самозабвением заниматься частным хозяйством, особенно разведением кур и кроликов; силуэты двух пляшущих кроликов, любовно вырезанные из жести и покрашенные белой эмалью, прибиты на фронтоне их маленького домика, покрытого под железо, обитого узкими дощечками и покрашенного в зеленый цвет...), – этот самый Иван, что в шесть утра обязательно бреется электробритвой, одеколонится, чистит ваксой сапоги, обмахнет смоченной в воде щеткой свою любимую курточку на меху: «Ну и что, что я на ферму иду! Что ж, я должен теперь уподобляться всем неряхам!», а вечером читает его любимый «Вокруг света» или что-нибудь по археологии – несбывшаяся мечта всей жизни – и мучает меня дотошными расспросами о последних раскопках, о которых я и не слыхал, – он, будто доверяя великую тайну, сказал мне: «Да Наташа сама выдумала это слово – шлёры, – и теперь оно на языке у всей деревни!» – и при этом с выражением вины и гордости посмотрел на свою жену, тут же покраснел, как мальчишка, и, чтоб скрыть смущение, схватил графин с «пойлом» – с домашним яблочным вином, которого была заготовлена полная с у л и я – двадцатидвухлитровая бутыль, налил три стопки, одну протянул совершенно не пьющей Наташе и стал умолять ее выпить в знак того, что она не обиделась; узколицый, с пышной черной шевелюрой, розовый от двух стопок этого самого «пойла» крепости не более пятнадцати градусов, Иван с каким-то детским обожанием смотрел на жену (а и крут бывает), и Наташа, продемонстрировав сколько надо свою непреклонность к мужу, наконец взяла стопку и к нашему восторгу выпила все до дна! – нечаянно подаренная мне сценка согласия и благополучия...
Я планировал провести отпуск «с пользой», пробовал писать или хотя бы читать, но ничего не получалось. Зато с удовольствием работалось вилами, когда я накладывал на одноколесную тачку свекольную ботву и возил ее с огорода к сараю, или топором, когда в Гавриловом Верху рубил орешник. А больше бродил – просто так; или по опушкам лесов в поисках шиповника; или рвал терен на вино – этого «северного винограда» у нас море, все леса окружены его колючими кустами, отяжеленными сплошными гроздьями черно-матовых ягод. И часто мне бывало так, будто и не было всех прошедших лет, Москвы и других городов, наших былых споров в табачном дыму за бутылками вина, – будто все это прошло как сон, как что-то необязательное, а в реальности я всегда был тут, среди этих вот полей, лесов, оврагов, болот, где я знаю все, что к чему, где все ясно и просто – как земля, хлеб и вода, и где мои земляки, как и в былые годы, с утра до ночи заняты тем нелегким черным трудом, без которого никому их нас не спорить бы за вином. Но бывали и другие минуты, особенно вечером на пустой улице, когда вокруг черным-черно и до жути тихо – и тоскливо-убогой доносится песня пьяного мужика, бредущего то ли домой, то ли из дома бог весть куда и зачем в этой кромешной черноте тьмы и грязи: в такие минуты я был, кажется, наиболее искренним перед самим собой, признаваясь себе, что – нет, не смог бы теперь навсегда отлучиться от моей нынешней суетной жизни.
Впрочем, кто знает...
Сентябрьские дожди спасли погибавшие от летней засухи картошку и свеклу, дали им подрасти – а потом помешали уборке. Октябрь не лучше. Все дни, как я приехал, – те же дожди. Небо закрыто двумя этажами облаков. Верхние – толстые, серые, неподвижные; а над самой землей бегут жидкие, почти прозрачные, и так сеют мелким косым дождем, что только удивляться остается, откуда он там берется. Иногда опогодится на два-три часа, проглянет солнце на мокрую землю – люди радуются: наконец-то! – и опять, как тени – быстрые низкие облака, а за ними бездной чернеют верхние дождевые, опять на долгие часы сумерки и монотонный шум.
Днем пусто в деревне – все взрослые на работе. Трудоспособных с каждым годом все меньше, а работы не убывает. Штатники: доярки, телятницы, конюхи – с темна до темна на базе; остальной народ в поле – убирают свеклу. К восьми утра женщин на грузовой машине отвозят на плантацию, в семь вечера привозят. Непогода делает уборку адским трудом, женщины возвращаются с плантации мокрые, с негнущимися спинами, с одеревенелыми распухшими руками.
А работы все непочатый край. Судя по ежедневным спецвыпускам областного радио и по сводкам «соревнования колхозов по уборке и вывозу сахарной свеклы», что публикуются в районной газете, дела из-за дождей везде обстоят неважно. Бабам не до газет, не до радио, они просто измучены этой непогодой и дома и на поле, костят на чем свет стоит «усю эту проклятую жизнь» и молят хотя бы о недельке солнечных дней. Мужья по возможности помогают женам на свекле и делают это если не с охотой, то с расчетливым пониманием всей выгоды самим убрать свой участок: за свеклу хорошо платят и деньгами, и сахаром. Бабки-пенсионерки тоже охотницы заработать, но их посылают только на кормовую свеклу: женщины враждебно встречают сторонних помощников – пайщиков на часть заработка.
Вечерами все спешно управляются по хозяйству, за ужином и мужики и бабы выпьют с устатку по стакану-другому и крепко спят до нового дня.
Днем редко кого увидишь на раскисшей улице. Да и утром, когда гонят стадо. Бывало, из каждого двора выпускали корову, а кто и зимовалую телку в придачу, да штук по пять овец, – теперь лишь из каждого третьего двора выходит корова, а овец во всей деревне держит только один хозяин: негде пасти скот, трудно заготовить сено на зиму, да и некому пасти – никто не хочет идти в пастухи, в колхозе на штатной работе больше заработают. И стойкие держатели коров – а в деревне что за жизнь без молока? Да и что это за двор без коровы! – пасут стадо в тридцать восемь голов в порядке очереди, крутят его все лето в одном и том же логу.
Еще до стада пробегут бабы в магазин, он открыт только рано утром да вечером, и спешат по домам, чтоб не опоздать к машине. Пройдут травянистым выгоном школьники с удобными городскими ранцами (их, школьников, с каждым годом все меньше, классы уже не набираются, и, говорят, на будущий год нашу начальную школу закроют, ребятишки будут в другую деревню ходить) – и во весь день уже никого не увидишь. Разве что редкая свободная от работы баба выйдет полоскать белье к одной из трех колонок, установленных в привилегированной «Середке»: на окраины воду не провели – трубы дорого стоят, и Полянка с Пасекой носят воду из лога.
Тускло смотрят на грязную улицу черные окна хат. И сами хаты до боли невзрачные. Мало кто перестроил свою или хотя бы покрыл под шифер или железо, в основном все хаты старые, что строились еще после пожара или в первый год после войны: осевшие, с перекошенными окнами, с черными соломенными крышами. Высокие частые столбы электролинии, проведенной сюда пять лет назад, только подчеркивают убогость нашей Старой Слободки.
«Не деревня, а какая-то мура!» – откровенно высказался мой гость Толик. Он уроженец большого села Оренбургской области, привык к крепким хозяйствам и добротным домам своих земляков и, оказавшись теперь в курских деревнях – сначала в Полевом за Щиграми у своего зятя, моего университетского друга, а теперь вот в нашей Слободке, – недоуменно крутит головой. Моего гостя поражает все в нашем курском крае: и вид хат: «как шеренга оборванных беспризорников», и их размеры, и что скота мало, и что электричество у нас всего пять лет – «и это в двадцати километрах от Курска!», и что почти во всех хатах земляные полы...
Уже темнело, когда мы с Толиком, обходя грязь, медленно шли по деревне, светившей затуманенными окнами, и мой спутник – человек в общем-то очень сдержанный, умеющий хорошо слушать и будто впитывать в себя все новое, – не переставал чертыхаться. «Неужели и в этой живут?» – спросил он, когда мы поравнялись с хатой, где все последние годы жила учительница Наталья Тимофеевна, у которой мне в свое время так и не посчастливилось учиться; – теперь она пенсионерка, живет в другом районе области у единственной своей дочери, недавней выпускницы медицинского института, нянчит то ли внука, то ли внучку и готовит молодым, но пенсию получает тут – оставила зацепку! – и раз в два или три месяца приезжает сюда, открывает свою хату – и тогда два маленьких окошка светятся в одном ряду со всей деревней. «Тут учительница жила, всю жизнь в нашей деревне проработала», – сказал я Толику. Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, но поверил и опять уставился на хату. Мне понятна была его реакция: плетневые стены хаты так осели и перекособочились, что одно окно стало на полметра ниже другого и смотрело в землю. «Мура!» – только и сказал Толик...
...Мчатся на север низкие облака, дни и ночи гонит их ветер, все в одну сторону, – и думаешь: а будет ли когда конец этой гонке? Да и надо ли, чтоб он был?.. У калитки у хаты сестры, в поле или в облетающем мокром лесу я подолгу смотрю на эти осенние облака: то белые, то прозрачно-серые, то угрюмо-темные, почти черные – быстрые и многослойные, – и теснит душу то ли непривычный покой, то ли неуемная тоска по уходящим мгновениям, которых – нет, не сохранишь, не унесешь навсегда с собой... И думается о том сокровенном, о чем вслух никогда не скажешь, да и некому, да и не сумеешь сказать хорошо... А еще бывает: и сам не замечаешь, о чем думаешь, а подступит к горлу прилив кровной привязанности к этим вот хатам, огородам, оврагам, перелескам, полям – и еще неясная твоя вина перед ними...
* * *
Горская сторона лога, поросшая донизу орешником, а по опушкам дубняком и терновником, во всем богатстве осенних красок; но особенно хороши в своем пышном убранстве лимонные свечки стройных молодых осинок, разросшихся маленькими рощицами по всему склону. Наша сторона – чистая, зеленая, будто в весенние дни перед пасхой. Выглянет солнце – и перед глазами такое мягкое пиршество красок, такая прозрачность и чистота над логом, что, кажется, вечно сидел бы тут, над крутой горой, и никогда не устал бы от этого богатства и покоя.