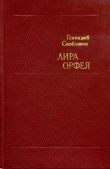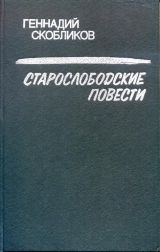
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)
V
...Нас разбудил стук в окно. Кто-то колотил кулаком по крестовине рамы и что-то кричал. Голос был мужской, незнакомый, и от того, что не наш деревенский человек так смело барабанит в окно, было ясно, что весть будет плохая.
В последнее время все ждали чего-то ужасного. Ночами тревожно гудели самолеты, и мы по звуку старались отгадать, какой «наш», а какой «германский». В стороне Курска с вечера до утра метались по небу прожекторы, до нас доносился отзвук бомбежек. Через деревню иногда проходили беженцы, их пускали переночевать, кормили, давали еды на дорогу. Мы приучились чутко спать и быстро просыпаться.
Но этот человек не был беженцем. Мы свесились над краем печки и испуганно всматривались в полумрак хаты. В открытой двери горницы мелькнула белая фигура отца. Он оперся руками о подоконник и молча всматривался в стекла двойных рам.
– Пожар! – воскликнул отец. – Горка горить!
– Э-ва-ку-а-ция! – отчетливо донесся голос с улицы, и неизвестный опять заколотил в раму. – Все выходите!
– Не наш какой-то! – тихо и тревожно сказал отец, а тому, за окном, крикнул с фальшивой бодростью: – В чем дело? Какая еще эвакуация?
– Эвакуация, батя! Быстрей собирайтесь, берите продукты, теплые вещи – и на шлях. Там вас ждет колонна машин. Быстрей выходите, будем поджигать хаты.
Мы бросились разбирать одежду.
– Какая такая эвакуация? – кричал отец; он метался от окна к окну по горнице. – Какие-такие хаты? Кто это будем поджигать? Ты кто такой?
– Э-ва-ку-а-ция! – кричал тот уже у соседней хаты.
– Брешешь ты, сукин сын! – яростно кричал отец. – Девки, ребята, живо одевайтесь! Шабаш, видно, нам. Колонна ждеть! Я... твою мать, вчерась из Щигров, последний эшелон на Воронеж отправился, а от нас до Щигров усю дорогу бомбять. Где ты ее нашел, колонну эту... – Отец выбежал на улицу и тут же вернулся: – Сожгуть, сукины сыны! Горка уже горить. И Троица, кажись, горить. Детки, собирайтесь скорей, надо хоть бряхло кой-какое собрать. Девки, одевайте ребят во все теплое, не миновать выходить придется...
Пока мы одевались и обувались, кто-то из сестер побежал на улицу разузнать. А через минуты мы уже знали, что в деревню пришел отряд наших солдат, они отступают и на своем пути жгут деревни, чтоб, как они говорят немцам зимовать негде было, – такой дан им приказ, а командует солдатами офицер, он в белом полушубке, а солдаты большей частью нерусские, какие-то разноверцы; они уже подожгли Троицу, Горку, а теперь вот и нашу Слободку будут жечь; в деревне уже все собираются, но куда уходить, никто не знает, а военные всех подгоняют; а еще говорят, будто один солдат шепнул, чтоб на шлях не ходили, никаких машин там нет, про эвакуацию им специально тот офицер велел говорить, чтоб люди быстрей из хат выходили...
– Да куда уходить, черти рытые! – гремел отец. Он был уже в полушубке, шапке и командовал, кому что делать. – Куда я с вами шестерыми пойду? На огород надо выходить, бряхло туда выносить, хлеб! А там дело видно будет. Приказ!.. Не может быть такого приказу! Предатели какие-нибудь! Посмотрим, как они еще поджигать начнуть!..
Начали собирать вещи и продукты. Набивали их в корзины и мешки, вязали в узлы. Гадали, что брать, что оставить – все еще не верилось, что деревню и вправду сожгут.
Отца, казалось, больше всего беспокоил верстак. Он только недавно сделал его вместе с хорошим мастером из Плоты Алексеем Исаковым, большой верстак с подвижным верхом. Он стоял в первой хате, занимал все место от двери до стола, и отец по утрам топил печку и одновременно работал за этим верстаком. Можно было снять с него ценную верхнюю часть со всякими там винтами, но на это нужно было время. – «Пускай остается!» – и отец решительно отрубил рукой.
Мы, младшие, ушли на огород, сюда отец и сестры носили вещи, вывели корову, овец, вынесли в лукошке кур.
Снега выпало пока мало, он едва прикрывал землю, но мороз стоял крепкий. Было еще темно. За логом горела Горка. Темень и густой морозный туман не давали хорошо видеть горевшие хаты – вся та сторона лога клубилась одной огненно-дымной полосой. Доносился приглушенный вой горских баб.
Это не пересказ услышанного от взрослых. Мне было тогда без малого пять лет, и память сохранила многие детали, что и как все это было в то утро.
...Мы стоим на огороде, топчемся по мерзлой земле вокруг кучи вещей. Рядом у половня привязана наша корова, жмутся в кучку шесть овец. Отец оставил их там, потому что за половень он не боялся: он стоит за садом, если наш двор будет гореть, сюда искры не долетят, а специально поджигать его никто не станет: немцам он не нужен – гнилой плетень да крыша. В половне у нас сено, в сене спрятаны мешки с хлебом, под сеном яма с картошкой. За половень боится Наташа. Она спрятала там от немцев книги, много книг, привезенных ею из Щигров.
Во всех хатах горит свет, распахнуты двери. От каждого двора на огород и обратно бегают люди. На каждом огороде уже кучи узлов, на узлах маленькие дети. А взрослые все в работе. Несут узлы, мешки, корзины, ящики с салом, перины, подушки, кровати, ведра, чугуны, прялки, ткацкие станки, кадушки, связки овчин, сундуки... Ведут коров, гонят овец, гусей, волокут на веревках поросят... Панические крики баб, матерная ругань мужиков, плач грудных детей, мычанье, блеянье, визг, кудахтанье; в общем гаме отчетливо слышатся тревожные выклики гусей...
Первая хата загорелась на Пасеке, на краю деревни у болота. Нам еще не видно было, мы это поняли по взметнувшемуся в той стороне отчаянному бабьему голосу. Замерли на мгновенье все на огородах – и тут же над всей деревней повис жуткий плач сотен баб; замычали коровы, заблеяли овцы, раскричались гуси. Этот всеобщий плач не смолкал ни на секунду, только время от времени в нем сильнее других прорезывался чей-то отдельный голос – и тогда было ясно, что запалили очередную хату.
Поджигали сразу в нескольких местах, и вскоре горела вся деревня. Нам было видно, как с факелами в руках солдаты пробегали от одного двора к другому, как начала дымиться желтым огнем и потом вспыхнула наша крыша. Вскоре дым закрыл все задворки и сады, плотной завесой повис над огородом, а над деревней бушевал и трещал огненный вал, и в небо взвивались красные шапки. Нас на огородах осыпало дождем мягкого черного пепла.
Появился из дыма отец. Ватная шапка туго завязана под подбородком, за поясным ремнем топор, в руках вилы. Лицо его было красное, глаза слезились.
– Шабаш! – сказал он. – Пока крыша не сгорить, делать там нечего. Ошибку, дурак, понес: вынесть надо было верстак.
На огород выбежал солдат с факелом, направился к нашему половню. Отец останавливает его:
– Оставьте половеньишко, сынок. Хлеб там в сене.
Солдат смотрит на нас, вытирает рукавом шинели глаза.
– Бегите школу и клуб спасайте, люди! – кричит он, и мы слышим, что он рыдает. – Бросьте ваши сараи, в клубе и школе все укроетесь. Никакой эвакуации не будет. Он просто с ума сошел... или предатель – приказать нам жечь деревни. – И убегает, оставив нам половень.
Кружат в воздухе и падают на землю огненные шапки. Отец отводит от половня корову, овец, дает им сена. А сам внимательно следит, как бы какая шапка не опустилась на половень.
Вынырнули из дыма человек пять военных, один в полушубке, остальные в солдатских шинелях, за плечами винтовки с примкнутыми штыками, у одного в руках факел. С ними какой-то мужик, носит бидон с керосином, отец узнал его: из соседней деревни Ново-Сергеевки, до войны горючее к тракторам подвозил.
– Оставь сараишко, товарищ! – просит отец того, в полушубке. – Ить плетень один, немцам он ни к чему, а у меня там хлебушко, картошка в погребе. Детей-то надо кормить.
– Приказано жечь все! – по голосу этого нерусского, по выражению его ясно: половень он не оставит.
– Кто приказал, кто? – от просительного тона отца не осталось и следа, он еле сдерживает ярость.
– Не твое дело!
– Ну погоди, дай хоть мешок хлеба достану!
– Некогда! – и этот, в полушубке, берет у солдата факел и идет к половню.
– Погоди! – кричит отец. – Охапку сена корове возьму. – И скрывается в половне. А тот, в полушубке, сует под стреху факел – как раз над дверью.
– Папа, выбегай, сгоришь! – кричат сестры.
Крыша над дверью уже горит. Закрыв лицо рукавом, выбегает отец. Он осматривается, видит уходящих, перехватывает наперевес вилы и, матерно выругавшись, бежит за ними.
– Пап, не надо!
Отец опомнился, круто поворачивает и идет назад. Лицо его страшное.
– Предатель! – выдыхает он. – Не иначе.
По огородам понеслась весть: заживо сгорел дед Ларя. Сколько ни уговаривали его родичи, как ни пытались стащить его с печки, старик не дался. Так и сгорел на печке.
Передавались и другие новости: кто-то забыл овец вывести из сарая, у кого-то поросенок сбежал с огорода в горящую закутку...
Вскоре запылала за засеками колхозная база, потом хутора за провальной церковью.
Отца мы увидели только к вечеру. В подпаленном полушубке, с обожженным лицом, с красными слезящимися глазами. Ему удалось отстоять стены и потолок горницы. Не сгорели сосновый амбар и пунька через дорогу от хаты – солдаты не заметили их в дыму, а может, и просто пожалели.
Ужинали, мы у своей хаты, ели хлеб и поджаренное на углях сало.
Вещи перенесли к амбару. Отец остался сторожить, чтоб ветер не раздул огонь на срубе и чтоб от искр не загорелся амбар.
Вечером поднялся ветер. Над сожженной деревней роились искры, освещая черные обелиски закопченных печных труб.
Мы ушли ночевать в хату Кольки Литвина. Она, как и наш амбар, стояла вне порядка и осталась цела. Сюда собралось семей тридцать. Хозяева и их родня устроились на печке и на подполе, все остальные разместились на земле. Приспосабливались спать сидя. Было душно, лампы едва не гасли. По очереди выходили дежурить, чтоб не загорелась от искр и эта хата. Стонали всю ночь мужики – от ожогов, от рези в глазах.
Теперь все говорили, что зря не пошли тушить клуб и школу: они, говорят, не загорались долго.
Откуда-то уже знали про поджигателей. Этот отряд остановился ночевать в Мелехино, в восьми километрах от нас по направлению отступления, а ночью вернулся назад, чтоб поджечь деревни. Они подожгли Троицу и хотели перейти по гати на левую сторону Рати, чтоб сжечь огромную по нашим местам деревню Писклово. Но пискловских мужиков уже поднял пожар в Троице, к тому же кто-то прибежал к ним из горевшей деревни и рассказал, что это за отряд. Когда отряд двинулся по гати, пискловские на той стороне открыли стрельбу из ружей, кто-то догадался поднять крик, будто в деревню входят немцы, – и отряд повернул назад. Так и пошел он по нашей стороне Рати, поджигая на своем пути деревни: Горку, нашу Слободку, хутора, Тестово, Ясенки... Много разных толков было в тот вечер по поводу этого пожара.
Говорили о сгоревшем Ларе.
Рассказывали, что он отказался выйти, когда узнал, что поджигают свои. «Раз свои пошли на своих, – будто бы сказал Ларя, – значит, конец свету пришел, и все одно скоро всем гореть». Другие уверяли, что было не так: Ларя поверил, что всех эвакуируют, и решил, что лучше сгореть, чем уходить неизвестно куда. «И дед мой, и отец жили и померли тут, и я хочу умереть в своей хате», – так будто бы сказал своей дочери Арине Ларя.
Но больше, насколько помню, о Ларе говорили проще и грубее. Дескать, он и всю жизнь был какой-то нелюдимый, злой – и теперь вот тоже заупрямился, не дался вывести себя из хаты. Он больной был, совсем слабый, почти не слезал с печки – и теперь ни за что не захотел слезть с нее и идти на мороз...
Ларя жил далеко от нас, и я видел его, наверное, всего несколько раз, да и то издали. Это могло быть, когда сестры брали меня с собой на речку, и мы проходили по деревне мимо хаты Лари. И все равно: часто, когда я думаю о Ларе, мне кажется, что я помню его.
...Высокий, сутулый, со всклокоченной бородой, в картузе, низко надвинутом на глаза, в дырявом кожухе внакидку, в лаптях – стоит он у плетня хаты и, прищурив маленькие рыжие глаза, долго смотрит вверх вдоль деревни, потом поворачивается на месте и так же долго смотрит на болото, что начинается под горой у его хаты. При этом он щиплет одной рукой прокуренные мокрые усы, а другой забирается под рубаху и чешет грудь. Насмотревшись и начесавшись, он садится на завалинку, достает кисет и начинает крутить цигарку. Он свертывает ее долго, много раз проводит языком по бумаге, пока та основательно не размокнет, а уже склеенную цигарку засунет почти всю в рот, раза два оближет мокрыми розовыми губами и только потом прикурит. Затягивается он часто и жадно, пока не закашляется, кашляет долго, с хрипотой и свистом в груди, отхаркивается и матерится одновременно и, наконец, зло бросает окурок, топчет его лаптем и, продолжая кашлять, уходит совсем – в сад под дулинку или на печку...
Не знаю, насколько точна моя память, но представляется мне Ларя именно таким. И мои первые впечатления о нем, помнится, были как о человеке, кого надо побаиваться и на всякий случай обходить стороной.
А все дело в том, что в деревне любили дразнить старого Ларю. У него в саду была прекрасного сорта груша, по-нашему дуля, кто-то когда-то ее отрусил ночью, и Ларя, обнаружив это утром, кричал из сада своей дочери Арине, что вот, мол, порвали у них дули. И с той поры деревенские ребята и девки, завидя Ларю, кричали: «Аришка, дули порвали!» Старику это, естественно, не нравилось, он боговал ребят и девок на чем свет стоит и гонялся за ними с палкой.
И вот этот самый злой Ларя не захотел выйти из хаты и сгорел вместе с ней. Трудно было мне, пятилетнему мальчишке, понять, как мог решиться человек на такое. Но я хорошо помню, что с того дня к образу обозленного старика во мне прибавилось нечто совсем другое, что делало Ларю уже совсем другим, хотя я и не знал, как назвать это новое чувство.
На знаю я этого и теперь, спустя тридцать лет. Но вспоминаю я о Ларе все чаще и чаще. Видимо, так уж вышло, что своей трагической смертью он стал для меня не только частью истории нашей Слободки, но и каким-то образом частью моей собственной биографии...
...Не было и худа без добра: утром мы ели такое тесто, какое никому никогда и не снилось. Тетя Христина, жена моего дяди по отцу, накануне поставила в печку парить двухведерный чугун теста с мороженой калиной. Главное в приготовлении теста – чтоб хорошо пропарилось: тогда и вкус у него отменный, и в нос аж до слез колоть будет. А тут пожар – не о чугунах в печке думать. Дотла сгорела хата, обвалилась труба, а печке ничего не сделалось, только что прокалилась да почернела от сажи, и пеплом ее до половины засыпало. И заслонка на месте осталась. Отняли ее утром – а в печке чистота, и чугун стоит как ни в чем не бывало. Все, кто ел, только и говорили: такого пропаренного и вкусного теста еще не пробовали.
...А родичи Лари откопали на своей печке обгоревшие кости деда и захоронили их в саду, рядом с той самой дулей.
VI
...Белое поле, щетина жнивья из-под снега, поземка. Тут и там черные фигурки людей: бабы, подростки, дети. Идут по двое, по трое, утопают в снегу, тянут за собой кто маленькие салазки, кто тяжелые подсанки. Останавливаются, откапывают из-под снега снопы незаскирдованной ржи, кладут на салазки и двигаются дальше, пока не наберут столько этих мерзляков, чтоб было под силу увезти, и опять назад по своему следу, по щетине жнивья, навстречу колючей поземке. Днем и ночью – то в болото за латником, то сюда в поле, за ржаными мерзляками. И стучат, стучат на вчерашнем пожарище топоры, вгрызаются в сырую древесину пилы, поднимаются на вилах тяжелые смерзшиеся снопы и укладываются плотно один к другому, постепенно образуя стены и потолки человеческого жилья. Днем и ночью долбят лопаты красную глину в яме пониже сгоревшего клуба, на трескучем морозе разводится из этой глины густой раствор, подаются наверх прокаленные черные кирпичи и выводятся повыше над соломенными потолками печные трубы, и вот уже одна задымила, другая, третья... А топится печка – значит, жив человек.
Целыми днями стучит молотком Сережа Картошечкин. Он жестянщик, он первый смастерил себе ручную железную мельницу, чтоб молоть рожь и ячмень. И потянулись к Сережиной халупе люди. Несут бабы ведра, несут куски жести, отодранные с колхозных веялок: «Сделай, Сереж, Христа ради, мельницу – горстки муки на лепешки детишкам нет: все же сгорело». Не отказывает бабам Сережа, лишь проворней стучит молотком. А там и в других халупах застучали молотками мужики и подростки: хитрое ли дело – мельницу сделать! Подсушивают бабы в печках привезенные с поля снопы, обмолачивают их на домотканых попонах, провевают рожь на ледяном ветру, днями и вечерами крутят люди ручные мельницы: грубый помол – а все ж как-никак мука! И поджариваются в печках на больших сковородках лепешки – и несет над деревней морозный ветер теплый дух горячего хлеба. А пахнет горячим хлебом – будет жить человек.
Слава богу, что есть в поле солома – можно прокормить и коров. Боязно ходить туда – того и гляди нарвешься на немцев, – да что делать? И тянутся по белому полю возки с соломой, режут люди из той соломы косами резку, обдают ее кипятком, несут коровам в закутки, сделанные из той же соломы. Овец не оставляют: их в первую очередь отберут немцы, а корову – ее пусть лучше отберут, чем самому зарезать: у какого русского человека поднимется рука с ножом на свою корову-кормилицу!.. Берегут люди коров – значит, не умирать собираются под немцем, верят: не все коту масленица – настанет и великий пост!..
Живуч народ. Что бы с ним ни делали, какие б испытания ни посылались ему – не опустит он рук, справится со всем, все вытерпит, все выдюжит.
Пятилетний, я не говорил такими словами, но я это уже знал.
Белое-белое поле, черные грушенки и яблони-дички вдоль дороги. На тебя, поле, на эту дорогу смотрят с низких крыш своих хат мужики, смотрят с высоких тополей у одной из хат постарше меня мальчишки. Отсюда, по этой дороге рано или поздно нагрянут немцы.
Как будет, когда они придут? Что сделают с нами? Говорят, что в первую очередь они расстреливают коммунистов и комсомольцев, потом те семьи, у кого кто-то в Красной Армии или в партизанах, потом колхозных активистов...
Был у нас в деревне коммунист – председатель колхоза Кузьма Федотыч, но он отступил с другими коммунистами сельсовета. А комсомольцев в деревне много, наши Наташа и Маруся тоже комсомолки: если кто докажет, их могут расстрелять, а заодно, может, и всех нас. И еще больше в деревне семей, у кого отцы или братья на фронте, воюют за советскую власть. И колхозных активистов в деревне много; наш отец был бригадиром, членом правления – он тоже активист...
Да-да-да: Виктору девять, Петру семь, мне пять лет – и мы в нашем уголке у теплой лежанки ведем такие разговоры.
А еще я слышал: сцепились бабы браниться, и выпалила одна другой: «Погоди!.. Это тебе не при с о в е т с к о й власти!» И кончилась на этом брань, и другие уже опасались сказавшей такое.
Явились немцы, и нашелся человек, пожелавший стать старостой. А вскоре мы узнали, что нашелся и еще один, кто положил на стол старосты Кирюхи список всех комсомольцев деревни, и пошел этот список в волость. И, наверное, быть бы беде, да работал в волости, как после мы узнали, другой человек. Рискуя собой, уничтожал он такие списки, а заодно клал под сукно и те, что составлялись для отправки девчат и подростков в Германию.
Видели мы – и не раз, как при вести «Немцы!» – наши сестры и соседские девчата одевались в разное рванье, мазали лицо золой, а когда немцы заходили в хаты – прятались; и узнали мы, что в одной хате из ста висит на стене портрет Гитлера; видели, как катались с немцами на санях и машинах те, кто не мазался сажей, и знали, как это по-русски называется...
...Белое снежное поле, светлая морозная ночь. Идет по нашему полю человек, одетый в крестьянскую одежду, обутый в лапти. Самые святки, в это время волки собираются в большие стаи – и страшно встретиться с ними, и этот человек, может, тоже боится волков, но всего опасней для него – встреча с людьми: как угадать – кто свой, а кто враг? А путь его далек – в сторону Воронежа, до линии фронта, откуда в ночной тиши до нас доносится приглушенный гул канонады.
Не знали мы, что идет через нашу Слободку, по нашему полю одетый в старую крестьянскую одежду человек, но этой ночью мы знали и думали о нем.
Мы видели, как садился на болото подбитый немцами наш советский «ястребок», знали, что немцы, стоявшие в Писклово, весь день искали летчика; и радовались, что н а ш сумел спрятаться, а фашисты так и остались с носом. Несколько дней у нас только и было разговоров, что о нашем летчике, сумевшем обхитрить немцев, и мы, мальчишки, без всяких верили, что н а ш р у с с к и й летчик сумеет пробраться к своим.
И вдруг жуткая весть: в Писклово будет казнь: немцы готовятся повесить семью Афони Беспяткина за то, что Афоня прятал у себя летчика с того «ястребка». Оказалось, летчик дождался темноты и пошел в Писклово, постучал в одну из крайних хат. В Писклово в большинстве хат стояли немцы, но, к счастью летчика, у Афони их не было. Афоня обогрел и накормил летчика и спрятал его у себя, а потом снабдил своей мужицкой одежей и подсказал, каких деревень ему держаться, чтоб безопасней пройти к линии фронта. Летчик ушел, но на Афоню донесли, и теперь для него, жены и сына немцы готовили виселицу.
Я помню, как сестры рассказывали, что в Писклово немцы сгоняют народ смотреть на казнь; и помню, как они пересказывали рассказы очевидцев, что сын Афони Володька – ему было лет шестнадцать – под виселицей причесался, попрощался с односельчанами и сам надел на себя петлю; всех троих повесили на большой раките, недалеко от их дома.
Предатель не знал или забыл, что у Афони была еще маленькая дочка: она успела убежать, осталась жить.
Знал, наверное, летчик имя крестьянина из деревни Писклово, спрятавшего его под носом у немцев, и, шагая по полю, думал, конечно, и о том, что если доберется до своих и останется жив до Победы, прилетит в эту деревню, сделает круг над болотом, где когда-то не повезло его «ястребку», а потом посадит самолет на лугу и пойдет к краю деревни, отыскивая глазами знакомую хату, и скажет тому доброму русскому человеку: «Жив, отец?! Ну и я жив. Здравствуй!..» И он сумел все, этот летчик: добрался до своих и воевал до Победы, а после войны прилетел в наше небо, сделал круг над памятным болотом, посадил машину на зеленый выгон. Только не пришлось ему обнять людей, о ком помнил он всю войну. С обнаженной головой долго стоял он и у той ракиты, – над могилой семьи Беспяткиных. И не забыл девочку, разыскал ее у родственников, спросил, согласна ли она стать его дочерью, и увез с собой.
...Два года мы смотрели в твою сторону, поле, два года ждали, когда, наконец, придут по твоей дороге н а ш и. И они пришли. По мокрому мартовскому снегу, пешие и на санях. В русских серых шинелях, с красными звездочками на шапках, с трехлинейными винтовками за плечами. В ботинках с обмотками, обветренные,мокрые, замерзшие и усталые. Мы встречали их на твоем краю, поле, мы шли рядом с ними. Мальчишки, мы боялись, что они не остановятся в нашей деревне и пойдут дальше в ту сторону, куда все эти дни спешно отходили немцы. Но, к нашему мальчишескому счастью, они остались ночевать. Они были слишком усталые, наши солдаты.
Никогда, кажется, не было нам так интересно сидеть в своей хате. Два десятка винтовок в углу у порога (их можно даже потрогать!), двадцать пар мокрых ботинок и обмоток у печки, два десятка усталых бойцов на соломе, ими самими принесенной из скирды старосты Кирюхи. Топится сырым орешником печка в первой нашей хате, топится соломой лежанка в горнице. Голодны наши солдаты, и плох у них паек, да и у нас кроме мелкой картошки и молока нет ничего. Варится в печке в двухведерном чугуне картошка «в мундире», и не едят пока свой паек солдаты, ждут. А пока они бреются, умываются снегом во дворе. Подают сестры горячую картошку прямо на пол солдатам (разве им всем усесться за стол!), ставят два кувшина молока, просят не обессудить, что нет у нас хлеба и соли. Есть у солдат сухари, есть у них соль и даже сахар кусочками. И отдают они нам часть своей соли, оделяют нас, мальчишек, сухарями и сахаром. Поели солдаты, стали разбирать и чистить винтовки, и мы горды, что отец наш тоже умеет быстро разобрать и собрать винтовку. Чистят солдаты винтовки – мы рядом: дозволяют нам солдаты протирать ветошью затворы и «собачки» и хвалят нас, говорят, что теперь их винтовки еще лучше стрелять по немцам будут. Отец нет-нет да и одернет нас, чтобы не мешали мы дядям, а дядям самим нравится возиться с нами, мальчишками, говорят: у них дома свои такие же – и дарят нам пустые обоймы. Всю ночь светит в хате тусклый каганец, стоят в углу у двери вычищенные двадцать винтовок, сушатся в печке двадцать пар ботинок и обмоток, крепко спят на соломе у печки двадцать усталых наших солдат, – а на деревне не смолкает не слыханная нами два года гармошка, и в полный голос поют – не напоются, смеются – не насмеются деревенские девчата, – и не было, не было для нас лучше той ночи!
Ушли днем солдаты гнать немцев дальше. Осталась у нас забытая ими зеленая плащ-палатка – через год шестнадцатилетняя Маруся сошьет мне из этой плащ-палатки штаны.
...И опять мы смотрим на твою дорогу, поле, по которой уходит на войну наш отец: в полушубке, в лаптях, белый запасник с едой за плечами;
и еще раз смотрим на твою дорогу, поле, по которой уходит на войну наша старшая сестра Наташа;
и еще два года будем мы смотреть в твою сторону – ждать, когда, наконец, вернутся они.
...Белое поле, щетина жнивья из-под снега, поземка. Я тоже много студеных зим походил по тебе, белое поле: в шахтерских калошах или в лаптях, в школу или отыскивая мерзлую свеклу в пустых колхозных буртах. Я тоже много поползал на коленях по тебе, когда мы с утра до вечера рвали по колхозному просу траву, чтоб прокормить корову; я тоже не один год колол твоим жестким жнивьем босые ноги и руки, когда мы после скирдовки украдкой собирали тут все равно пропадающие колоски – и часто, вытряхнув из мешка собранное, спасались бегством в лог или в кусты от верхового объездчика. Видишь, есть и у меня личная память о тебе, поле, и теперь, когда я приезжаю сюда и иду твоей дорогой от станции до деревни, – я не тороплюсь тебя пройти...