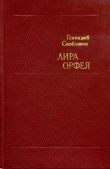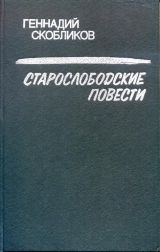
Текст книги "Старослободские повести"
Автор книги: Геннадий Скобликов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
XII
Сказала Варвара как-то Насте, что, наверное, с первой водой и она, Варвара, отойдет.
– Это, девка, не угадаешь: к а к а я в о д а п о й д е т! – ответила ей бабка таким тоном, будто и вправду смерть Варвары могла согласоваться с тем, к а к а я будет вода. – Моя мать-покойница, царство ей небесное, тоже, помнится, еще на Евдокию пособоровалась, а сама-то до летних святок дожила, троицын день при ней справляли. Так что не торопись спешить, может, еще и не с той ноги, кума, ты плясать собралась, – добавила Настя весело.
– Да уж с той, – спокойно возразила ей Варвара. – Чую я, Настя, ее. Сколь уж раз было: очнусь ночью, а о н а вроде вот сию минуту надо мной стояла, в лицо заглядывала, а теперь у головашек стоит. Не хочет, стало быть, раньше времени показываться, а караулить караулит. Я, значит, на очереди у нее.
– Ну, придет час, тогда и говорить про это будем. Пословица недаром молвится: раньше смерти не умрешь.
Настя хорошо успокаивала, да она-то, Варвара, свою болезнь лучше других знала: «е г о» не уговоришь, не умилостивишь.
На Евдокию по ночам еще морозы стояли, а днем было солнечно, тепло, на окнах в уголках стекол последние ледышки оттаяли, накопилась вода на подлокотниках, потекла по стенам. Значит, хорошая весна должна была быть. Старые люди говорят: «Если курочка в Евдокии напьется, то и овечка на Егорье травы наестся».
Не бывала Варвара на воле, а знала: почернели дороги, снег потревожился, тоже потемнел, зернистым стал. В эту пору ступишь с дороги в сторону – до земли провалишься, а там, у земли, снег уже набухает водой, посмотришь – черно там, где нога провалилась. Орешник в засеках без инея стоит, мокрый от тумана, и светлые капли падают с веток на снег, и сережки уже посвесились, тоже мокрые.
Когда на кухне в сени открывалась дверь, в горницу к Варваре тек свежий воздух, нес с собой запахи талого снега, навоза и сочный дух доброго свекловичного силоса с соседних огородов. Этот запах силоса любила Варвара – и именно вот в это время, когда только начинает таять снег, и отбивают ямы; потом, когда начнет припекать солнце, силос будет уже слишком духовит, тогда он неприятный; а сейчас, пика он еще холодный и без прели, – без его запаха и весна б вроде неполной была.
У доярок на базе хлопот в эти дни – хоть вовсе домой не уходи: самый отел пошел. Хлопотно, а хорошо в эту пору. Телята – они что дети беспомощные, а ить каждого хочется на ноги поставить, чтобы не хуже, чем у людей, были...
Потом Герасим-грачевник грачей пригнал. Бабка Настя весть принесла:
– Грачи-то на старые гнезда летят. Дружная, стало быть, весна будет, разом вода пойдет.
Кажется, никогда в жизни не следила так Варвара за днями и праздниками, обращала внимание на все приметы. Неизбежную, близкую смерть она по обычаю приурочивала к изменениям в природе, а первым из них должно быть половодье.
Пришли сороки[2] 2
День весеннего равноденствия.
[Закрыть], проторили дорогу сорока утренникам: сорок раз еще будут утренние морозы, и каждый раз мягче и мягче другого. Старые люди, бывало, так делали: отсчитают от этого дня сорок утренников – и сеют гречиху. И гречиха, говорят, как белая девка была.
Еще в прошлом году Варвара на сороки кулики пекла. Говорят, что в этот день жаворонки прилетают: сколько прогалинок на земле – столько и жаворонков. Кулики пекут с головками, с гребешками, с крылышками, а на большого кулика таких же маленьких деток понасадят. Раньше она их помногу пекла, детишки с ними в лес ходили, жаворонков закликали. И Колюшка – давно ли было!.. – тоже бегал жаворонков закликать. А в прошлом году смеялся над ней: «Мне, что ли, куликов печешь? Давай-давай! На трактор на выхлопную трубу посажу их – и буду закликать!» И теперь, может, опять повозилась бы с ними, хоть для людских ребятишек, – да отпеклась вот...
Сразу после сороков легли густые туманы-снегоеды; такие густые, что в окно соседние хаты едва видны были. По-старому – самый год для конопли: и угодит хорошо, и волокно доброе будет. За три дня туманы съели половину снега, на Алексея опять выглянуло солнце. Алексей – с гор вода, с холмов потоки. Вспомнилось Варваре, как, бывало, мать скажет: «Алексей-Алексей, не ночуй за рекой – или пыль забьет, или вода зальет», – и ей, маленькой Варе, представлялся этот Алексей – «божий человек» (в самом звучании имени было что-то жалостливое к нему) каким-то несчастным путником: он идет где-то низами по лугам и болотам и до вечера не может перебраться на эту сторону, устал он и хочет заночевать за рекой, а вот ночевать там ему и нельзя: или снегом занесет, или вода его там зальет...
Каждый день спрашивала она то сына, то Настю: ну, как там, с к о р о п о й д е т?
– Да ить Колька вон за дровами в болото еще по зимнику ходит, а тебе половодье дай! – недовольно ворчала Настя. – Время придет – пойдет, никуда не денется...
А когда однажды пригрело солнце, сын с помощью Насти вынес Варвару во двор, усадил на подушках на широкие дровяные салазки и вывез ее на выгон. Она сначала была против этой затеи, а потом аж до слез растрогалась – так хорошо было кругом! В тот день к обеду разом все двинулось. Снег по деревне еще не сошел, но таял, как воск на огне, и по выгону, по всем овражкам и лощинам журчали ручьи, мчались дальше под гору по голому уже склону, а от талой земли так и шел теплый пар. Под горой было самое настоящее половодье: вода уже залила колодезь и быстрым мутным потоком неслась вниз по логу, к затопленному болоту. Тепло пригревало солнце, чистым было высокое синее небо, звенели над головой жаворонки. И Варвара не сумела сдержаться, расплакалась сама уже бог знает от чего.
А Настя сказала:
– Вот и пошла вода, а с т а р а я – вон она на той стороне осталась!..
По всему выгону и погорью стояли люди. Многие подходили к Варваре, хвалили Колюшку, что додумался он вывезти мать посмотреть половодье. И ей было приятно слушать похвальные слова о сыне.
На пригревах, где уже высохло, девчонки разыгрались. Кто со скакалкой, кто с мячиком, кто в классики. Рядом с Варварой Зинка, пятилетняя внучка Танюхи-доярки, во весь голос весну закликала:
Весна-класна,
На чем плисла?
На кнутику,
На хомутику... —
точно так же, как и закликала когда-то весну она, маленькая Варя-Варюха.
А мальчишки все под горой были, бродили у самого потока, лезли в воду в резиновых сапогах. И это тоже всегда было: всегда в половодье мальчишки под горой, всегда тянет их в самую воду. Теперь-то хоть в сапогах, а раньше у кого были они, резиновые сапоги! – к лаптям деревянные колодки подвязывали.
...Меняется, все меняется в жизни, – думала Варвара. – Одно отходит, другое приходит. Бывает, старого жалко, а сравнишь с новым, вот хоть те лапти с сапогами – и жалеть вроде нечего. Та же вон Зинка весну закликает: пять лет – а она в красных резиновых сапожках! А они, бывало... Да что они. Дочери ее! – знали они что-нибудь кроме пеньковых ходоков?..
И эти нехитрые мысли – тут, на выгоне, над просторным логом, где внизу по-весеннему победоносно шумело половодье, под чистым голубым небом и ярким солнцем – будто встряхнули в душе Варвары горячее желание жизни: «Господи... Только б жить... Просто – жить! И ничего... ничего ей-больше не надо!..»
...Но «о н» догрызал ее.
Она теперь мало лежала: слишком нестерпимой была боль в расслабленном теле, – и все больше сидела, скрючившись, чтобы сдавить живот, приглушить в нем боль. Лицо ее отекло, пожелтело, дряблые сухие губы стали непослушными – и с каждым днем она говорила все реже и меньше: когда просила о чем-нибудь сына или вслух жаловалась сама себе на адские муки.
– Ну, приди... прибери меня! – молила Варвара в минуты приступов. – Сколько ж можно!.. Сил моих уже нет...
Сын с самого ее приезда не ходил на работу, весь день был рядом, и это, что сын вынужден караулить ее, тоже угнетало Варвару. А дочерей вызывать было рано. Кто знает, сколько она еще проваляется. Приедут, побудут – и уедут: отпуск-то невелик. А она хотела, чтоб они вовремя приехали; чтоб и застали ее живую, и похоронили.
Так прошел апрель, настал май. Жизненные силы с каждым днем покидали ее, а она, измученная болями и бессонницей, тоже уже не цеплялась за жизнь. Наоборот, каждый день молила, чтоб пришла за ней смерть.
Еще месяц назад Варвару интересовало и беспокоило многое из того, что обычно интересовало и беспокоило ее раньше, когда она была здорова. Теперь даже их хозяйственные дела, хотя бы тот же огород, целиком легший на плечи сына, будто не касался ее. Только так, за разговором, она спросит что-нибудь Колюшку о делах или даст совет, – а через минуту эти дела ее уже не заботили. ...Теперь у нее было нечто свое, до чего тоже не было никакого дела тем, кто оставался жить.
Чем меньше оставалось ей жить, тем чаще вспоминала она себя маленькую, мать, отца... Ее притупленная болезнью память странным образом легко воскрешала ту их довоенную жизнь, воскрешала из мертвых мать, отца, других близких людей... – и Варвара то просто думала о них, а то как бы переселялась к ним – живым, видела их, слышала их голоса и сама разговаривала с ними.
Близкая смерть, с чем Варваре только и оставалось, что окончательно смириться, постепенно отделила ее от всех живых, занятых житейскими хлопотами. Ну что ей до них! А они, пусть хоть и дети – здоровые ведь, – без нее обойдутся.
Ее мучили боли, она стонала и жаловалась – и звала смерть. Ни в какой «тот свет» она не верила ни раньше, ни теперь, знала, что станет тленом и больше никогда ничего для нее уже не будет, – а в то же время та жизнь, когда она была еще девчонкой, виделась ей будто и не в прошлом, а там впереди, за ее смертью, и была светлой и благостной; в своем закутке за лежанкой она часто пребывала в этом состоянии видения той ясной и солнечной жизни, когда она была еще маленькой Варей-Варюхой и рядом всегда была мать.
Оставшимся жить, здоровым, она просто-напросто не сумела б рассказать, что это такое: как светло брезжит, ей на краю могилы та давняя жизнь. Помнится, о чем-то таком же говорила мать, когда умирала, но Варвара тогда не понимала, о чем она. Теперь и она знала, почему они – и мать, и свекор Осип – не боялись смерти, умирали тихо и спокойно: они сделали все, что им отведено было сделать на земле, и душа, освобожденная от земных забот, опять как бы возвращалась к своему младенчеству...
Как-то она все же стала рассказывать обо всем этом Насте. Бабка слушала ее с интересом, поддакивала, даже умилялась, а потом вздохнула:
– Ох, Варварушка, а все-таки жив человек смерти боится!..
И Настя сказала правду. Ужас охватил Варвару однажды ночью, когда она почувствовала, что вот-вот может умереть.
Сына в тот вечер дома не было, сидел где-то с ребятами на улице. Круглые сутки он при ней – так пусть хоть вечером посидит с ребятами, отдохнет от ее стонов и жалоб, и она сама выпроводила его.
– Иди-иди, сынок! – сказала. – Мне ничего не надо. Отпустил о н меня, может, посплю...
Ей и в самом деле полегчало тогда. А когда ушел сын, она сбросила с себя одеяло, по груди подтянула рубашку – от наступившей прохлады ей стало совсем хорошо. Так она пролежала, может, полчаса, а может, и меньше. Зашумели над хатой тополя, заскрипела калитка, свежий ветер потянул в открытое окно – и она опять закрылась одеялом. Полежала, прислушалась к себе, осторожно повернулась на бок, подтянула к груди колени, накрылась с головой и под шум тополей незаметно уснула.
...Кто-то тяжелый, мягкий навалился на нее и душит. Она поняла: Х о з я и н, вещевать пришел.
«К худу или к добру?» – хочет спросить она, но нет воздуха, и нет сил открыть рот. Она напрягает последние силы, толчком сбрасывает с себя этого тяжелого, жадно вздыхает, открывает глаза – и ее ослепляет яркий солнечный свет. Счастливая, что хозяин – это только сон, она ждет, пока успокоится сердце, и удивляется, что на дворе уже утро и в кухонное окно светит солнце.
Она проворно встает, садится на край постели, опускает на пол ноги – земляной пол приятно охладил ступни. Какое-то время удивленно смотрит на себя: знает ведь, что больная, лежит чурка-чуркой, повернуться не может, а вот на тебе: вскочила – и ничего! Собственная болезнь кажется ей сейчас давнишним наваждением. Но ей чудно и то, что она совсем здорова – и долго еще сидит, удивленно осматривает и себя, и залитую солнцем горницу. Она по-детски зачарованно следит, как в лучах солнца переливаются тысячи пылинок, отчего сами лучи становятся сизыми, обводит взглядом свежевыбеленные стены, потолок, подсиненные занавески на окнах, посыпанный желтым песком пол, выскобленные до желтизны дубовые лавки вдоль стен, крытый стол, застеленный белой скатертью, два городских стула, иконы в углу, этажерка с книгами, приемник «Родина» на лежанке рядом с ее кроватью... – и маленькая горница видится ей по-праздничному уютной. Она снимает с себя ночную рубашку и остается совсем нагая. С наслаждением потягивается, с легким стоном проснувшегося вдруг постыдного желания стискивает тугие груди, гладит живот, шелковистый треугольник, полные ноги. Откидывается на постель, раскинула руки – ждет: вот коснутся ее крепкие руки Мишки, ее мужа, Мишки-кузнеца, она обовьет руками его шею и никогда больше не отпустит от себя...
Встает с кровати, нагая идет по горнице. Солнечный луч из кухонного окна светом и теплом ласкает ее тело, песок приятно щекочет ступни ног; она расслабленно опускает руки, роняет на грудь голову, смотрит на себя – и все никак не может понять, она это или не она и что вообще с ней происходит.
Подходит к зеркалу – из светлой деревянной рамки на нее вопросительно уставилась она сама, молодая Варька-Варюха: девичьи глаза, свежие губы. Нет, думает, что-то все перепуталось: с каких уж пор в старухи себя записала, а посмотреть – лицо как у невесты, волосы гребнем не прочешешь. Вот бы Мишка посмотрел – не узнал бы. Погоди, опять путаешь, – перебивает она себя, – как раз узнал бы: какая при нем была – такая и есть.
Отходит от зеркала, останавливается перед портретом мужа. Мишка ее тоже не изменился: смотрит молодо, брови густые, чуб вьется из-под кепки все такой же, как и тогда был. Помнится, до женитьбы еще снимался, специально в город ездили, чтоб холостым сфотографироваться.
На стене, рядом с портретом, тикают ходики. Посмотрела на них – головой покачала: состарились их часы. Краска потускнела, пооблупилась, стрелки ржавые. Потянулась рукой, чтоб потрогать то место на дощечке, за маятником, где химическим карандашом вдавлены цифры: год, месяц и число их записи с Мишкой, но не дотянулась...
...– Это я, – сказал он за ее спиной, и она узнала голос мужа.
А вот и он сам. Мишка стискивает ее плечи, притягивает к себе.
– Если что – прости, – говорит он... как тогда, на станции, в последний раз...
Она ощупывает его лицо – и не понимает: то ли он вернулся из какого-то далека, то ли сейчас должен уйти от нее.
Она осматривается – и видит забитую народом станцию, своих деревенских и чужих баб, ребятишек, мужиков. Мелькнул где-то Степан, стоит в окружении родичей Андрей...
– Миша! – шепчет она и вцепляется в мужа. – Они придут, они уже пришли, а ты...
– Сынишку сбереги, – говорит Михаил; – Сбереги детей. И себя береги. Я вернусь...
Она поднимается на цыпочки, прижимает к мужу свое тело, целует его лицо, стриженую голову, обветренные губы.
Беззвучно уходит состав. А Мишка ее висит на подножке, смотрит на нее. Она хочет помахать ему, но рука поднялась только до подбородка и онемела. В последний раз мелькнуло лицо мужа – и все исчезло в густом белом дыму...
(– Мам? Ма-а-ам? – звал ее сын, но она совсем по-другому слышала его слова.)
...«Па-ап? – донеслось откуда-то, и она узнала голос маленького Колюшки. – Па-апа-а!»
Ее маленький сын не звал и не просил никого – это был крик сорвавшегося в бездну. Она слыхала этот крик раньше, давно, но где и когда, не помнила. Как и не помнила теперь, где она и что с ней...
(А она лежала, пригвоздив локтями подушку, и трясущейся рукой зажимала себе рот, чтоб не закричать самой. И сын со страхом наблюдал, как его мать каким-то безумным, полным отчаянного страха взглядом всматривается в горницу.)
...Напряженное детское «а-а-а» звенело у нее в ушах, тянуло за собой. Она присмотрелась и у в и д е л а этот звук: черной воронкой уносился он от нее в какую-то пропасть... и вот уже она сама падала в эту пропасть и знала, что это конец...
Она опомнилась – и поняла, что задыхается. Ужас, что это конец, смерть, приподнял ее с постели, но она тут же упала опять на подушки. Ей было страшно, она не хотела умирать – и через силу судорожно хватала воздух, не отдавая себя насовсем тяжелому удушью.
И она справилась. Удушье отступило.
И только теперь она увидела, что рядом с нею был ее взрослый сын.
В горнице во всю силу светила лампа. Колюшка ее, живой и невредимый, стоял рядом с ее кроватью. Он был в своем обычном синем спортивном костюме. Сын испуганно смотрел на нее.
– Ты дома? – спросила она.
– Давно... Может, мам, Настю позвать?
– ...Не надо, сынок.
Она ясно вспомнила все, что ей только привиделось, и недавний страх за сына сменился приливом облегчения и радости.
– Не надо, сынок... Не зови... – Она, как могла, ласково улыбнулась сыну... – Никого не надо... Легче мне...
XIII
После той ночи, когда она вспомнила, как мать кормила ее грудью, она сказала сыну, что пора вызывать дочерей. И за неделю до троицы они приехали. В первый раз дочери приехали так: без детей и мужей.
Она понимала, что дочери приехали хоронить ее, и боялась, что вот кончатся их отпуска, а она не успеет.
Теперь дочери круглые сутки не отходили от нее. Клава, Нина, Валя. Они то вместе, то по очереди сидели у ее кровати, рассказывали ей о себе, о детях, просили ее то поесть, то попить. А ей уже ничего не хотелось, ничего не надо было. Ей хватало одного чая: глотка холодного чая, заваренного на ветках смородины.
Все хуже и хуже было ей. Она стонала, жаловалась, что грызет «он» ее, просила то повернуть себя, то посадить – и подолгу сидела в этой позе, уткнув лицо в расставленные колени, изводила стонами и себя и детей.
А ночью под семик отлегло. Так отлегло, что будто и не болело у нее ничего. И она поняла: не нынче – так завтра.
...И свободно ей стало.
Она даже-будто поспала в ту ночь и очнулась отдохнувшая. У кровати ее никого не было: устали дети, тоже легли отдохнуть – и она не стала звать их.
Не двигаясь, она прислушалась к себе. Боли не грызли, а тоже как бы уснули: будто свернулись в один плотный клубок и улеглись на своем месте в низу живота. «Ну что б, – подумала, – стоило: взять и выздороветь». – И сама удивилась нелепой своей мысли. «Чего ты, девка, захотела! – сказала себе вслух. – Глаза выше лба не растут...»
По привычке она забралась рукой под одеяло – пощупать больной живот. Нет, никуда «ему» не деться: даже при слабом нажиме оживала внутри ноющая боль. И она убрала руку.
Двигая осторожно руками, она заправила назад волосы: провела несколько раз ладонями по оплывшему дряблому лицу, потерла пальцами мешки под глазами – вроде как умылась. Потом дотянулась рукой до кружки, что всегда стояла рядом на лежанке, отпила глоток холодного чаю и стала ждать рассвета.
«Нынче ослобоню их», – думала она про дочерей и сына, слушая их дыхание: две дочери спали за лежанкой на Колюшкиной кровати, а младшая и Колюшка спали в кухне на подполе. – «Ослобоню, даст бог. Пора...»
На кухне, в темноте под печкой, стрекотал сверчок, и она стала слушать его. Ночью их тут оркестр целый: и из-под печки стрекочут, и из загнеток, и из лазейки... Теперь все они угомонились, к рассвету дело, а этот, последний, должно, в самой темноте сидел.
Потом она услыхала стук ходиков на стене. И в какой уж раз в жизни подумала про часы: «Ить идут, ходят... С того самого дня, как Мишка еще купил и повесил их тут...»
И вспомнился тот день, когда они расписывались, и как Мишка часы и шаль в сельпо покупал... И многое еще вспомнилось ей, кажется, вся жизнь, и она подержала в памяти всю эту свою жизнь...
В открытое окно дул легкий утренник. Прохладный воздух доставал и в закуток Варвары, омывал ее лицо, и больной это было хорошо. И только жалела она, что не получалось набрать свежего воздуха полную грудь, чтоб хоть подышать вволю.
Был уже полный рассвет, и за окном вовсю гомонили птицы. Казалось, что тополя над хатой просто забиты ими: так и сыпался оттуда утренний певчий перезвон. Больше всех было, конечно, воробьев. Их звонкое «чив-чиви! – чив-чиви!» сыпалось веселым дождем, и Варвара с завистью подумала: какой-то серенький воробей – а поди ж ты! рад утреннему солнцу – и, как путевая птица, расчирикался, слушать приятно. А по всей деревне кричали петухи, в соседних дворах переговаривались гуси, в сенях бабки Насти крякали утки.
Слушала Варвара эту утреннюю жизнь – и охватывал ее душу знакомый холодок, и твердый комок подступал к горлу, и рот кривился в подступающем плаче. «Да и как же!.. – думалось. – Вон оно, утро какое начинается. И завтра будет такое же, и воробьи будут, и кочета... А она...»
И не сдержалась Варвара, заплакала от жалости к себе.
Но этот ее плач был недолгим, тихим, по-своему даже как-то просветлившим ее душу.
Что ж, думалось ей, раз так создан человек, что рано или поздно каждому умирать. Да и что живое вечно на земле... И у птиц, и у зверей, и у людей – у всех одинаково: старые умирают, а дети остаются. От начала мира это идет, всегда так и будет. Птицы вон тоже небось знают, что смерть будет, а пока живые, радуются жизни.
Да сама она тоже греха на душу не берет. Чуть вон отлегло – и воробьи ей уже радость. Теперь вот, когда скрутило, так разве что и додумаешься, начнешь понимать, что, если здоров человек, то и вся жизнь ему должна в радость быть, каждой живой твари должен уметь радоваться, каждому кусту, каждой зеленой травинке. Горе какое может случиться, или еще там что – мало ли, без этого не бывает, недаром говорится: жизнь пережить – не поле перейти, каждому надо своей ложкой из обоих горшков зачерпнуть: и где сладкое, и где горькое; а если при этом жив и здоров ты, перемоги горе и радуйся жизни, другой не отпустят. Вон – те же птицы: ничего у них нет, кроме гнезда и детей, и тягот своих им тоже хватает, а проснулись, ждут солнышко – и песни поют, каждый день с песней солнышко встречают. Так вот и людям надо: забывать вчерашнее горе, с радостью каждый новый день встречать, лицом к солнцу становиться, а когда оно, красное, покажется – доброе слово жизни сказать, что, слава богу, жив и здоров ты и дело доброе у тебя на весь день есть, потому что без радости и доброго дела какая уж жизнь.
Прервал эти нехитрые мысли Варвары тугой звон струи в пустое ведро. Танюха, за две хаты, вышла к сараю доить корову. Подоит свою, а потом побежит на базу колхозных доить.
Вот и она, Варвара, сколько лет, как один день: в этот же час встанет, бывало, подоит корову – и на базу...
И сейчас бы она, Варвара, бегом бы, кажется, побежала, день-деньской как белка в колесе крутиться согласна... Господи, думалось, как хорошо-то все было. Хоть и она кляла не раз свою беспросветную бабью жизнь – а разве плохо было! Теперь уж и того не будет...
Дочери не забыли обычай – убрать на семик хату березовыми и кленовыми ветками, посыпать пол зеленой травой. В хате стало хорошо, как бывало, когда она, Варвара, была еще Варькой-Варюхой и тоже на семик шла в засеки за ветками и росной травой, а потом убирала ими хату.
Когда утром Колюшка принес из засек мешок накошенной травы и старшая дочь Клава стала посыпать ею пол в горнице, Варвара попросила дать и ей на постель горсточку. Как саму живую жизнь приняла она на ладони эту прохладную свежую зеленую росную траву и опустила на нее свое лицо... И долго-долго сидела так, несчастная и счастливая одновременно...
Утреннее чувство, что нынче она освободит детей от себя, не было ни обманом, ни страхом. Она чуяла свою смерть, с каждым часом чувствовала ее приближение, будто та и вправду стояла за головашками ее кровати и вот-вот должна была встать перед глазами, – и только не могла она сказать себе, когда это будет: к концу ли дня, вечером или ночью.
Страха перед последним своим часом у нее не было. Устала она бояться, давно смирилась с такой своей судьбой, да и не было у нее физических сил, чтоб цепляться за жизнь.
И только было ей обидно... обидно за самые простые вещи: что вот уже завтра не будет для нее ни этой вот хаты, где прожила она свою жизнь, ни детей – Клавы, Нины, Вали, Колюшки... Она не боялась за детей: выросли, сами обойдутся без нее, – а было жалко и обидно, что она, Варвара, уже никогда больше не увидит их, и не узнает, как у них там дальше будет получаться в жизни. И она время от времени подзывала кого-нибудь из них к себе и каждому говорила что-нибудь такое, что, по ее мнению, было важно для них.
Она не говорила им, что собралась нынче умереть, а только вот давала каждому свои последние наказы. Она все оттягивала минуту, когда должна была сказать им, что нынче умрет, думала, что они пока ничего не подозревают... и не замечала, что дети ее, несмотря на праздник, за весь день ни разу не сели вместе за стол, что они все время были заняты какими-то делами, о чем-то тихо переговаривались на кухне, куда-то уходили... – и все это только между собой, помимо нее, чего они раньше не делали – с надобностью или ненадобностью, но посвящали ее во все дела. Она все еще не замечала, что и бабка Настя и дети ее еще с утра почувствовали произошедшую в ней перемену и теперь по-своему готовились к тому же, к чему, пока что скрывая от них, готовилась она сама.
И поняла она, что дети ее, да и вся деревня, тоже знают об этом, когда в хату стали одна за другой приходить бабы. Они приходили чисто одетые, тихо здоровались, говорили, что вот, дескать, пришли по случаю праздника проведать ее, присаживались, говорили о чем придется, а сами почти неотрывно смотрели на нее. И хотя на этот раз никто из баб не заговаривал о ее смерти, она знала, что они приходят попрощаться с ней.
Под вечер она позвала к себе детей.
– Ну, детки... – начала она и замолчала. Она собиралась сказать своим Клаве, Нине, Вале и Колюшке, что чует – подходит ее час... а теперь вот смолкла. Она в последний раз видела своих дочерей, своих кровинок, ставших теперь тоже матерями, и Колюшку, исхудавшего, измученного ее болезнью, – и не хотела огорчить их.
– Ты что хотела, мам?
– Так, ничего... Посидите со мной. Ты, Колюшка, сядь поближе.
Сын сел к ней на кровать, и Варвара положила свою легкую желтую ладонь на его руку.
– Легче мне стало, – говорила она, смотрела на дочерей, а сама все гладила и гладила руку сына.
– Ты, Колюшка, – сказала она ему, – принеси-ка мне карточку отца. Хочу посмотреть на него.
Она увидела, ка́к сын переглянулся с сестрами, но даже не обиделась: чего ж ей обижаться, если э т о правда!.. Колюшка поставил перед ней портрет отца. Теперь они только двое смотрели друг на друга: она, умирающая, и ее молодой муж, ровесник своему сыну. Опять засветилось где-то вдали прошлое – и тут же померкло. Только серый портрет мужа был перед Варварой: старый, выцветший – и Мишка был на нем совсем не живой.
– Повесь, – сказала она сыну. – Попрощалась...
...Посреди горницы светила лампа. Она висела на длинном проволочном крюку, на одинаковом расстоянии от потолка и пола, и потому низ горницы был освещен хорошо, а весь потолок закрывала тень от круглой тарелки. По всей горнице висели пушистые березовые и кленовые ветки, и они, почти черные в тени, как бы сгущали то молчаливое ожидание, что с часу на час нарастало в хате Варвары.
Умирающая лежала на своей кровати. Тень от щитка падала на ее лицо, и оно – при свете дня желтое – было сейчас светло-серым, а под черными глазами лежали большие темные круги. Поредевшие седые волосы были опрятно зачесаны назад: еще днем причесала ее младшая дочь.
Все четверо ее детей были тут же. Пришла и бабка Настя. Сидели, ждали.
Варвара слышала их рядом с собой, видела, когда кто-нибудь подходил близко, а сама угасающим сознанием думала о чем-то своем.
На стене стучали ходики.
Она то слышала их, то звук надолго пропадал и опять появлялся, нарастая, заполняя собой всю горницу.
«Вот и посмотрим, сколько они нам с тобой настукают», – вспомнились ей слова мужа.
И опять забрезжило в ее сознании: она маленькая, мать, отец, Мишка... А потом война... она сидит под дубом и поет песню...
– Сынок, дочки, – позвала она. И когда дети подошли и наклонились к ней, сказала еле слышно: – Умираю я. Душит... Вы... не забывайте друг друга. Не забывайте. Одним трудно...
Что-то еще очень важное хотела она сказать детям, но язык уже не слушался ее.
Она сделала попытку приподняться, но тут же упала на подушку...
* * *
«Ну и слава богу, отмучилась, царство ей небесное», – говорили утром в деревне старые люди, осеняя себя крестным знамением.
«Да уж помучил ее этот проклятый рак. А так бы – жить да жить...»
«Кому б, как не ей, и пожить бы теперь. Девки устроены, сын вырос...»
«Тоже и ей хватить пришлось...»
«А кому не пришлось! А так, слава богу, без куска не сидела».
«Другим и с мужиками больше горя досталось...»
«Да ить у каждого свое...»
«То-то и оно...»
«А так, конечно, жить бы ей да жить...»
«Судьба, значить...»
«Значить, судьба...»
В пору сороковин, когда поминали Варвару, на месте того загона, где ее ушибла корова, цвел татарник. Сплошным лесом разрослись на унавоженной земле эти высокие серебристо-зеленые колюки, и тысячи лилово-розовых султанов распустились на их верхушках.
У крестьянина ругательство просилось на язык, когда он проходил мимо и видел, какой золотой кусок земли захватила себе эта нечисть.
И только девчонки, идущие купаться на Рать, нет-нет да и не утерпят: сорвут осторожно, чтоб не уколоться, по две-три корзиночки и их шелковистыми мягкими волокнами гладят себя по щекам...
И кто ж угадает, кто знает, какой будет она у них, у девчонок, какой выйдет она у них, их будущая жизнь...
Челябинск, 1974 г.