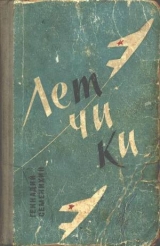
Текст книги "Летчики"
Автор книги: Геннадий Семенихин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
– Я готов, – повторил Мочалов.
– Чудесно, подполковник, чудесно, – заторопился Северцев, – прошу в машину. Мы все уточним и проверим перед вылетом.
…На стоянке Мочалов принял рапорт от техника Рубцова, выслушал замечания инженера полка Скоробогатова и последние указания Северцева. Стоя на плоскости истребителя, генерал тыкал пальцем в чашечки приборов и пояснял, когда какому показанию надо безоговорочно следовать на той неизведанной высоте. Потом он дружески пожал Сергею руку и сошел на землю, а Мочалов с глухим щелчком закрыл фонарь. Шли минуты, последние минуты до взлета, но сейчас они казались Сергею нестерпимо медленными. Наконец он услышал в наушниках голос Ефимкова, руководившего полетами.
– «Синус», – окликнул Кузьма, – разрешаю выруливать.
Двигатель свистел, работая на малом газу. Сергей, притормаживая, стал рулить к старту.
Десятки техников и несколько находившихся на земле летчиков провожали его напряженными взглядами. Истребитель подпрыгивал, а Мочалов зорко смотрел вперед, стараясь отогнать навязчивые, некстати пробивавшиеся мысли.
– Разрешите взлет? – запросил он через минуту, привычно осматривая впереди себя бетонку, убеждаясь, что на ней нет никаких посторонних предметов. Стартовый командный пункт был теперь слева, и Сергей увидел, как над разрисованной клетками стеной взметнулась вверх зеленая ракета. Это Кузьма решил отсалютовать другу, провожая его в трудный полет.
Забурлило в наушниках, и голос Ефимкова произнес:
– «Синус», взлет разрешаю.
Мочалов снял тормоза. С гулом устремился вперед истребитель с нарисованной на фюзеляже тонкой красной стрелой. Стало тихо за плексигласом кабины, и земля плавно и быстро начала отдаляться. Сергей повел машину с той рассчитанной еще на земле скоростью, с которой выгоднее всего было набирать высоту. Стрелка высотомера отсчитывала метры сотню за сотней. Турбина уносила машину в небо без рывков и подбалтываний, так что подъем был мало ощутим. «Эх, Нина», – с тоской думал Сергей. Промелькнуло сбоку легкое зыбкое розоватое облачко, и опять бескрайняя голубизна повисла над кабиной. Сергей впервые радировал на землю:
– «Родина», я – «Синус». Крыша сто. Продолжаю набор.
Когда стрелка высотомера показала шесть тысяч, он проверил курс. Самолет уже был на высоте восьми тысяч. В кислородной маске дышалось легко и свободно. Небольшая изморозь покрыла кромки плоскостей и тонкую, устремленную вперед трубку Пито. Термометр показывал минус сорок четыре градуса, но в герметически закрытой кабине даже в легком летнем комбинезоне было не холодно.
– «Синус», я – «Родина», передайте, где находитесь, – донеслось с земли. Это уже спрашивал не Ефимков, а сам Северцев.
– Крыша двести, – радировал Сергей, и цепким взглядом окинул доску приборов. Все было в порядке. Стрелки жили под стеклом своей правильной, сосредоточенной жизнью. Тонкий убаюкивающий свист двигателя непрерывно слышался за кабиной. Пронизывая невесомое пространство тупым носом, мчалась ввысь «стрела». Стрелка термометра заколебалась и стала быстро падать. Уменьшилась изморозь на отведенных назад крыльях. Теперь самолет Сергея находился в том далеком от земли пространстве, в котором небо почти всегда бывает свободным от облаков, и которое именуется стратосферой. Температура достигла минус пятидесяти. Прибор показывал огромную высоту. Это был рубеж, выше которого еще не поднимался ни один из летчиков полка. На этом рубеже обычно кончались поиски «воздушного противника» и полеты на его перехват. Достигнув этой высоты, самые опытные летчики начинали снижение. Сегодня Мочалову предстояло перешагнуть этот рубеж, и перешагнуть сразу на километр с лишним.
– «Синус», где находитесь? – окликнул с земли генерал Северцев, и оттого, что его голос прозвучал отчетливо, будто старик был рядом, Мочалову стало спокойнее. Он не ощутил неуверенности, когда машина перешагнула еще вчера запретную высоту и стала подниматься выше.
– Я – «Синус», я – «Синус», – повторил он, – прошел крышу триста, прошел крышу триста. Пр-рием! – и этим самым нажимом на «р» в слове «прием» он подбадривал себя точно таким же образом, как и десятки летчиков в грозные минуты боя, или в трудные минуты борьбы со стихией, или просто в тех случаях, когда они хотели вселить уверенность в себя и своих подчиненных.
– «Синус», слушайте меня внимательно, – передал Северцев, – через каждые пятьсот метров делайте площадки, пробуйте крены и скорость. Все замечайте.
Мочалов понял. Конструктор приказывал через каждые пятьсот метров набранной высоты выравнивать машину и некоторое время идти по прямой, что и называлось «площадками». На этой прямой нужно делать виражи, обращая внимание на то, как слушается машина рулей управления. Сергей прекратил подъем и пошел строго горизонтально. Самолет вел себя точно так же, как и на тех предельных высотах, на которых приходилось ему бывать. Но когда Сергей набрал еще пятьсот метров, он вдруг почувствовал, что его испытанная «стрела» начинает нервничать. Едва он сделал легкое движение ножной педалью и ручкой, чтобы выполнить левый крен, как самолет очень круто накренился влево и далеко не сразу выровнялся. Сергей попробовал увеличить скорость полета и не спеша двинул вперед рукоять сектора газа. Самолет рванулся, словно подстегнутый бичом, и тотчас же контрольный прибор требовательно просигналил летчику: «Убавь крен!» Мочалов выполнил этот приказ и снова повел истребитель вверх.
– «Родина», я – «Синус», – передал он на землю по радио, – крыша триста пятнадцать, продолжаю набор.
– «Синус», – донеслось в ответ с земли, – выше крыши триста двадцать набор высоты запрещаю!
– «Родина», вас понял, – сообщил он в ответ, – пробую машину на этой высоте и снижаюсь.
Но пока он это говорил, истребитель достиг высоты гораздо больше той, что считали расчетной. Сергей перевел машину из горизонтального положения в крен и удивился, как легко она на это подалась. Здесь, на громадной высоте, в разреженном воздухе стратосферы, его «стрела» стала вдруг легкой и чуткой к малейшим движениям рулей. Казалось, она попросту перехватывает мысли летчика. Летчик подумал сделать левый крен и только прикоснулся ногой к педали и ладонью тронул ручку, как машина очутилась в левом крене. Он чуть-чуть увеличил газ, а самолет уже мчался, бешено наращивая скорость. Мочалов не привык к таким изменениям в технике пилотирования, и они его сейчас волновали. Нужно было заметить каждое движение машины, чтобы потом, ничего не упустив, подробно рассказать конструктору.
– «Синус», достаточно, снижайтесь, – донеслось с земли.
Но Сергею показалось, что это не ему, а кому-то еще кричит рассерженный генерал Северцев. Сергей был один в этом огромном воздушном пространстве, где сильно слепило солнце и где не был еще никто. Он смотрел на приборную доску и вдруг опять вспомнил о Нине, о том голубом конверте, что смятым лежал в кармане. То ли лямки парашюта больно врезались в плечи, те ли что-то сжалось в груди от огромной и неожиданной тяжести. Сергей тупо глядел на приборную доску, ощущая сильную резь в глазах, и машинально двигал вперед рукоять сектора газа. Один из приборов уже давно давал тревожное показание, словно силился крикнуть зазевавшемуся Мочалову: «Убавь крен! Убавь немедленно! Слышишь?» Но смысл этих показаний не дошел до сознания вовремя. Сергей глянул на прибор, когда машину резко встряхнуло один раз, второй и еще сильнее – третий. И только тогда понял, что случилось, но было уже поздно. Сделав резкий наклон, его «стрела» внезапно опрокинулась на спину, а потом, не слушая рулей, устремилась вниз, в бездонную пропасть, прямо к покрытой дымкой земле.
Сергей попытался выполнить рулями те необходимые движения, которые должны были вывести машину из угрожающего положения, и не смог. Доска приборов расплывалась перед глазами, горизонт зашатался, и голова бессильно упала на грудь. Сергей успел крикнуть по радио: «Вошел в штопор!» – и вдавился в сиденье отяжелевшим непослушным телом. А «стрела» будто обрадовалась, что нет больше руки, способной, подстегивая, гнать ее ввысь на большой скорости. Стремительно и неудержимо валилась она на землю, делая витки один за другим. Сергей сидел без движения с закрытыми глазами, вдавившись подбородком в одну из брезентовых парашютных лямок. Лицо тяготила кислородная маска…
Машина продолжала падение. Мочалов очнулся, когда стрелка высотомера была на шести тысячах метров, и мутными глазами обвел кабину. В переднем смотровом стекле с непонятной быстротой возникала земля, все вырастающая в размерах. В эту секунду на ее пестром покрове можно было разглядеть пятна лесов, блестевшие среди них озера и синеватые макушки гор. Мочалов падал на свой родной аэродром, с которого столько раз поднимал его истребитель. «Да неужели же конец? Неужели все?» – подумал Сергей, силясь выпрямиться.
– «Синус», немедленно катапультируйтесь, немедленно катапультируйтесь, – доносилось до стартового командного пункта, это уже не генерал Северцев, а Кузьма Ефимков говорил в эфир. Голос у Ефимкова был зычный, твердый, требовательный. В нем нельзя уловить тревоги.
– Катапультируйтесь, – снова услышал Сергей голос Ефимкова и подумал, с каким трудом удерживает майор волнение, боль, отчаяние.
«Выброситься?» – промелькнула мысль. Он бы мог повернуть знакомый красный рычаг, автоматически сбрасывающий в любом положении фонарь, а потом привести в действие пиропатрон катапульты. Но как он покинет машину, если во всем случившемся виноват только он, один он, и никто больше. «Нет, ни за что», – заскрипел зубами Сергей.
А выгоревшее от солнца, знакомое до каждой кочки и рытвины поле аэродрома с ровными рядами самолетов и полосатой будкой СКП мчалось навстречу. И не куда-нибудь, а в него, в это родное поле своего родного аэродрома, должен был врезаться он вместе с машиной. Беспорядочно падавший самолет уже заметили с земли. Инженер Скоробогатов закрыл ладонями глаза; надрывно воя, мчалась на старт санитарная машина. И только Ефимков повторял размеренно и требовательно:
– «Синус», немедленно катапультируйтесь! «Синус», катапультируйтесь!
Сорвав с лица маску, Сергей с огромным трудом дотянулся до ручки и вытянул ногу. Он вдруг почувствовал привычную твердость педалей. Он сделал один раз и второй те плавные, нерезкие движения, в силу которых верил. И машина вдруг замедлила вращение, пошла вниз уже не отвесно, а косо, а затем облегченно вздохнула двигателем, и все, что было на земле, – самолеты, серое здание штаба, красные кирпичные постройки Энска, заблестевшее озеро и покрытые снегом горные вершины, – все стало на свое место. Впереди кабины появилась линия горизонта.
Чувствуя огромную усталость, Сергей подвел машину к аэродрому и, сделав круг, точно «притер» ее около «Т». Он дорулил до стоянки, хотя перед глазами окружающие предметы двоились, двигались, покрывались зелеными искорками. И только там, открыв слабеющей рукой фонарь, он бессильно откинулся на борт кабины.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
I
Сергей Мочалов лежал в маленькой палате гарнизонной санчасти. У него была высокая температура. Он бредил. Возле постоянно дежурила Валерия Николаевна Цыганкова. Приходили друзья: Ефимков, молчаливый комэск Андронников, Цыганков, Спицын. Ночью несколько часов просидел у постели генерал Северцев. Он держал бессильную жаркую руку Мочалова и, глядя в лунный квадрат окна, о чем-то напряженно думал.
Подполковник медицинской службы Мерлушкин так и не мог определить причину тяжелого состояния командира полка. Из штаба военного округа вызвали ведущего терапевта. Он осмотрел Мочалова. На теле не было ни единой раны и царапины. Тогда он пригласил для консультации невропатолога. Вдвоем они сделали лаконичное заключение: нервное потрясение, нужен покой и правильный режим.
Сергей пришел в себя лишь на третьи сутки. Случилось это вечером, когда у кровати дежурил возвратившийся из полетов Кузьма Петрович. Он сидел на табурете в белом халате и широченной загорелой ладонью гладил наволочку рядом с плечом Мочалова так трогательно, будто эта наволочка и была плечом друга. Сергей глубоко вздохнул и заворочался.
– Сережа, дружище! – радостно зашептал Ефимков, – да открой же глаза, посмотри. Ну!
Мочалов с усилием поднял веки. Комната поплыла перед глазами, один только голос Ефимкова был устоявшимся во всем окружающем. Электрический свет резко бил в лицо. Слабым голосом Мочалов попросил:
– Потуши… лампу.
– Тебе больно, Сережа? – сказал Ефимков, щелкая выключателем.
– Не-еет, легче, – протянул Мочалов.
– Я послал телеграмму Нине. Она скоро будет здесь.
Мочалов протестующе поднял руку:
– Не надо! Не надо!
– Что не надо? – уставился на него Ефимков.
– Не хочу видеть.
– Кого?
– Ее, Нину.
Пожав плечами, Кузьма положил ладонь на его горячий лоб и, отдернув, пробормотал:
– Да и на самом деле ты неважно выглядишь, Сережа… снова бред.
Мочалов сделал попытку приподняться, но голова бессильно завалилась на подушку.
– Как «стрела»?
– В порядке. У тебя, оказывается, трубка кислородная на высоте рассоединилась, прекратился доступ кислорода… Страшно смотреть было, как ты с такой высоты сыпался. Думал, останусь седым… Почему ты свалился в штопор? Не держится машина на такой высоте, а?
– Держится, – тихо ответил Сергей, – хорошо держится. А в том, что она свалилась в штопор, я сам виноват. Больше никто. За скоростью лучше нужно было следить. Меня предупреждал об этом Сергей Лукич.
– Так ведь лампочки сигнальные на что?
– Знаю. Зажглись они вовремя, а я проглядел, курсантскую оплошность допустил. Непростительную. Где Северцев?
– Спать ушел. Он всю ночь дежурил у твоей кровати. Переживает здорово.
– Напрасно. Оборудование годится для таких высот. Я на семьсот метров выше предельной высоты испытания поднялся. Двигатель тянет нормально. Нужно только особенности в пилотаже учитывать. Движения рулей делать плавными и, главное, скорость. Постоянно следить за скоростью.
Дверь заскрипела, и в палату быстрыми шагами вошел Северцев. Он еще с порога услышал последние слова Сергея и, обрадованный, приблизился к кровати.
– Да, вы пошли на поправку! – заговорил он, волнуясь. – А я себя казню, считая, что из-за меня все вышло, что нужно было еще раз проверить оборудование лабораторным путем, а испытательный полет преждевременен.
– Нет, Сергей Лукич, нет, – приподнимаясь, заговорил Мочалов. Серые глаза его потемнели, – машина ни в чем не повинна. Оборудование прекрасное. Если завтра мне разрешат подняться на такую высоту, я все тридцать минут пройду на ней. Только нельзя зевать. На лампочки я вовремя не посмотрел. Скорость превысил. Вот и получилось. Каюсь перед вами, мне бы в тот день не стоило летать.
– Это почему?
– Плохо себя чувствовал, Сергей Лукич, – глухо ответил Мочалов и откинул на подушку голову.
– Чего же вы, батенька, не сказали? – строго спросил Северцев. – Если летчик плохо себя чувствует перед полетом, он должен об этом заявить. Кому-кому, а вам, командиру полка, такая истина, я думаю, известна.
– Известна, – подтвердил Сергей, – но, все-таки, я не рядовой летчик. Это меня и удержало.
– Понимаю, – нахмурился конструктор, – вы решили, что отказ от полета со стороны командира полка, да еще от полета ответственного, испытательного, подчиненные могут расценить, как проявление боязни. Ложная гордость. Не ожидал я этого от вас, подполковник. Думал, вы зрелый офицер, – он насмешливо скривил губы. – Если же придаете значение тому, что кто-то может заподозрить вас в трусости, обратились бы к врачам, заручились, так сказать, официальным подтверждением.
– Справку у врачей! – горько усмехнулся Мочалов. – Да кто бы мне дал такую справку, если у меня не селезенка, не печень, а душа болела. Бывают в жизни исключительные положения, товарищ генерал.
Серые глаза Сергея нервно заблестели, плотно сомкнулись губы, и старый конструктор, сердцем чуя горе Мочалова, примирительно произнес:
– Бывают. Что верно, то верно. Успокойся, Сергей Степанович. Есть мудрая, на все случаи жизни подходящая пословица: «Все хорошо, что хорошо кончается». Ты уже сделал доброе дело, Мочалов. По целине, можно сказать, прошел. Там побывал, где никто не был, доказал, какая высота для этой машины доступна. Остается подтвердить результаты испытания еще одним полетом.
– За этим дело не станет, товарищ генерал, – улыбнувшись, промолвил Кузьма.
Северцев окинул оценивающим взглядом его рослую фигуру и кратко ответил:
– Именно на вас я и рассчитываю, майор Ефимков!
II
На самом исходе короткой летней ночи, когда особенно густым был мрак, обволакивающий землю, от Энска к аэродрому мчались три машины. Миновав ворота аэродрома, они разъехались по трем направлениям: «Зис» помчался на старт, полуторка свернула в сторону самолетных стоянок, а «ГАЗ-67» остановился у штаба.
Полуторка приблизилась к реактивному истребителю, отмеченному красной стрелой на фюзеляже, дверца ее со скрипом распахнулась, из кабины выпрыгнул Ефимков. Кузьма Петрович успел облиться по пояс холодной колодезной водой и ощущал во всем теле приятную бодрость. Во мраке его фигура казалась еще более высокой. Уверенными быстрыми шагами приблизился он к истребителю, от которого, медленно разворачиваясь, отъезжал керосинозаправщик. Откуда-то выросла фигура Железкина.
– Товарищ майор, самолет к испытательному полету подготовлен.
– Вольно, товарищ Железкин.
Ефимков крепко пожал руку технику и взглянул на часы. До наступления рассвета оставалось тридцать пять минут. Невдалеке горели две линии огней ночного старта. В чахлой траве стрекотали кузнечики, Кузьма Петрович облегченно вздохнул, подумав о том, что в этот час на летном поле присутствует самый ограниченный круг людей. Все-таки, прав был генерал Северцев. Это по его настоянию решили повторный испытательный полет провести ночью, чтобы личный состав гарнизона узнал о нем после того, как это испытание будет завершено. Когда нервы напряжены, любопытные взгляды только помеха.
Железкин приставил к борту самолета узкую лесенку и с парашютом в руках подошел к майору. Кузьма Петрович привычно надел парашют, крепко затянул лямки. Когда он выпрямился, Железкин пристально смотрел на небо из-под надвинутой на лоб фуражки. Глаз его не было видно, но Ефимков угадал, что в этих глазах сейчас нет обычного флегматичного выражения, в них и тревога, и ожидание, и напряжение.
– Ни пуха вам, ни пера, Кузьма Петрович, и чтобы, значит, благополучно назад.
Кузьма Петрович, тронутый необычной теплотой, прозвучавшей в голосе Железкина, ласково потрепал техника по плечу и без улыбки, задумчиво, сказал:
– Спасибо, Железкин… Доброе слово никогда не пропадет даром.
А десятью минутами позднее его истребитель уже мчался по бетонке. Ни тумана, ни облаков над землей не было, и когда Ефимков оторвался от земли, он еще видел некоторое время и две линии огней ночного старта, и светящееся «Т», и редеющие к утру огоньки городских улиц. Самолет набирал высоту круто, но от напряжения казалось, что он поднимается совсем медленно. Перед глазами маячила полуосвещенная приборная доска, над прозрачным колпаком кабины вздрагивало звездами ночное небо, на нем уже начинали появляться предутренние светлые тона.
– «Чернослив-один», – запросил с земли полковник Шиханский, – сообщите высоту и видимость.
Кузьма Петрович подумал, как, наверно, волнуются сейчас на земле те десять-пятнадцать человек, которые следят за его полетом, и стало почему-то спокойнее от этой мысли.
– «Родина», – пробасил он, – я – «Чернослив-один». Крыша сто.
Это значило, что он уже достиг высоты пять тысяч метров. Двигатель свистел ровно, на одной и той же ноте. Минуты три Ефимков вел машину в горизонтальном положении, потом снова устремился вверх.
– «Родина», крыша – двести, – передал он на землю, достигнув десять тысяч метров. Погруженная в сон земля была теперь далеко внизу, и там, на ней, в будке стартового командного пункта, подавляя в себе волнение, следили за ним Северцев, радисты, Шиханский.
– Крыша двести плюс пятнадцать, – передал Ефимков.
– Будьте повнимательней, – донесся с земли голос Северцева, – не разгоняйте скорость.
Кузьма Петрович уже вел «стрелу» на той самой высоте, на которой секундное ослабление внимания едва не погубило Мочалова. Впервые Ефимков почувствовал, что нервничает. Он чутко прислушивался к свисту двигателя, напрягая глаза до боли, переводил их с прибора на прибор. Машина сделалась удивительно чуткой и на каждое самое незначительное движение рулей реагировала мгновенно.
– Скорость выдерживаю, – передал Ефимков, – крыша плюс двадцать пять.
– Пробуйте виражи, – приказал Северцев.
Кузьма Петрович заставил «стрелу» развернуться и в левом, и в правом вираже. Делал он их с небольшими кренами и запоминал каждую особенность в поведении самолета. Больше десяти минут находился он на этой огромной высоте. Ощущение неизвестности уже успело смениться обычной деловитой сосредоточенностью, от волнения остались только капельки пота над бровями.
– «Чернослив-один», возвращайтесь, – послышался голос Северцева, и Ефимков без труда распознал в нем радостное возбуждение, облегченность.
Делая одну за другой замысловатые спирали, Ефимков снижался, и с каждой тысячей метров приближалась земля… Гудел двигатель, оглашая предгорья, словно трубил победу.
Когда Ефимков выбрался из машины и сошел на упругую, влажную от росы землю, он почувствовал и сильную усталость, и радость, и жадное нетерпение поскорее рассказать о результатах испытания. У машины собрались люди, и он шагнул в круг этих людей. Здесь были и Северцев, и Шиханский, и Цыганков, и техники, и мотористы. Майору не дали даже освободиться от парашюта. Сильные руки подхватили его, и внезапно Кузьма Петрович почувствовал, что снова летит в высоту.
III
Повторный полет на большую высоту подтвердил все наблюдения Сергея Мочалова. Данные Кузьмы Ефимкова помогли Северцеву составить окончательное заключение о том, в каком направлении надо совершенствовать конструкцию и оборудование.
Проводив вместе с полковником Шиханским Северцева, Кузьма с букетом сирени ворвался в санчасть, но у самой двери был остановлен Валерией Николаевной Цыганковой:
– Нельзя сейчас, Кузьма Петрович, честное слово, нельзя.
– Да что за тайны мадридского двора такие, – нетерпеливо гудел Кузьма, – почему доступ к командиру закрыли?
– Нина у него… – помявшись, ответила Валерия, и Кузьма понятливо закивал головой. – Тогда хоть веник этот передайте, – сказал он, кладя на столик врача букет…
…Мочалов проснулся от прохладного прикосновения чьей-то руки и открыл глаза. Прямо перед ним в белом больничном халате сидела Нина. Ему показались усталыми ее большие серые глаза, осунувшимся лицо. В глазах жены не было следов раскаяния, они смотрели сухо и напряженно.
– Ты пришла? – сипло дыша, сказал Сергей и приподнялся.
Она молча кивнула, и губы ее вздрогнули.
– Сережа… тебе очень больно?
Мочалову показалось, что она спрашивает об этом лишь потому, что не припасла другого вопроса и не знает, как можно начать разговор. Злое чувство раздражения глухо поднималось в нем. Эта женщина вдруг показалась ему безразличной и чужой.
– Спасибо. Сейчас не больно. Больно, когда у человека что-то отнимают. Я уже пережил свою боль.
– Сережа! – заговорила она, с трудом подыскивая слова, и опустилась на пол, рядом с его кроватью. – Сережа, пожалей меня, ты же все должен понять.
Она уронила голову на край постели, щекой ткнулась в грубое ворсистое одеяло и беззвучно заплакала, сотрясаясь в рыданиях. Ее светлые волосы разметались по подушке и смешались с черными прядями Сергея. Мочалов до боли сжал зубы и, глядя в потолок, молчал.
– Встань, Нина, – сурово и требовательно сказал, наконец, он, – ты говоришь о жалости… а ты меня пожалела?!
– Я понимаю… я все теперь понимаю, – всхлипывала Нина.
– Не надо, – заговорил он тихо, – встань и забудь о том, что ты передо мной в чем-нибудь виновата. Если бы ты смолчала, я бы тебе не простил… до конца своей жизни не простил бы. Слышишь?!
– А теперь?
– Я тебя не осуждаю теперь, – как-то медленно, почти равнодушно заговорил Мочалов, так что можно было подумать, словно речь идет о самом обыденном и незначительном. – Я не осуждаю тебя, Нина… да, да не осуждаю. Только дороги у меня к твоему сердцу больше нет. Поняла? Оборвалась она!
Он глотнул подкатившийся к горлу клубок. И продолжал:
– Эх, Нина… а я в тебя верил… Я всю душу тебе открыл, ни одного темного переулка в ней не оставил… А ты предала мою любовь. Разве не так? Молчи! Я ни о чем тебя не прошу. А теперь уходи.
Он приподнялся над смятой, подушкой. Распахнулась рубашка, обнажив смуглую крепкую грудь. Глухо застонав, он повернулся лицом к стене.
Нина молча подняла сумочку и шагнула к двери.
IV
Сидя на корточках, Нина укладывала в чемодан свои летние платья, белье, книги. В комнате было жарко, полуденное солнце било прямо в окно. Под шелковым абажуром жужжала муха.
Нина посмотрела на свой большой портрет, висевший над кроватью, задумалась, потом решила: пусть остается.
Она тщательно выгладила все рубашки и галстуки Сергея, привела в порядок письменный стол. Потом позвонила на городскую почту и попросила задержать Гришу Оганесяна, если он приедет за газетами и письмами для экспедиции. В дверь постучали. Нина отрывисто сказала «да, да, войдите», и почему-то не удивилась, увидев на пороге Галину Сергеевну Ефимкову.
– Нина, – заговорила Ефимкова, волнуясь, – в Энске всякая новость облетает дома со скоростью звука. Мне сказали, вы уезжаете. Это правда?
– Да. Правда.
– И еще мне сказали, что вы уходите от Сергея…
«Уже все знают», – горько подумала Нина.
– Нина, я не верю, – тихо, с испугом в голосе сказала Галина Сергеевна, и на ее лице появились красные пятна. Нина усмехнулась и глазами показала на чемодан.
– И я не верю до сих пор, но, вот, видите…
– Почему так поспешно, Нина?
– Так, вероятно, лучше.
Ей хотелось расплакаться, головой уткнуться в теплое плечо Галины Сергеевны, но, пересилив себя, она молчала.
– Так будет лучше… – повторила она, наконец, тихо, с расстановкой и сжала ладонями виски, – я сейчас ничего не понимаю… ничего не понимаю. Может быть, я и виновата… Это все так просто и страшно. Сережа мне не до конца поверил, ему представилось все в другом свете, все совсем не так. А может… может, мне и на самом деле нет оправдания. Все-таки, мне было не просто жалко другого человека, было к нему и какое-то чувство, если я позволила ему себя целовать. А потом… потом мне стало больно, ужасно больно за Сережу. И я написала ему обо всем без утайки. Когда я узнала, что он в санчасти, я шла сюда почти двое суток. После дождей обвалилось шоссе, и «газик» не мог по горной дороге проехать. Я шла пешком, голодная и больная малярией. Я всю правду ему рассказала. А он меня прогнал. Какая же это любовь, если она без жалости и сострадания… Нет, Галя, уеду я.
Светлый узел волос вздрагивал у нее на затылке. Галина Сергеевна стояла в нерешительности, молча теребя пальцами воротник платья. Она хотела утешить Нину, наговорить ей много ободряющих слов. Но подумала, что слова эти будут сейчас ненужными, ничего не значащими, пустыми. И она их не сказала.
V
Прямо с полетов с папкой бумаг майор Ефимков заехал в санчасть. Мочалов лежал на кровати, просматривая какой-то журнал. Он только вымылся в ванне, волосы его были еще влажны. Кузьма ввалился в палату без больничного халата, в запыленных сапогах и коричневой летной куртке.
– Здравствуй, друже. Я тебе бацилл не нанесу. Ты уже выздоравливающий.
– Верно, – без улыбки сказал Сергей, – подполковник Мерлушкин с завтрашнего дня разрешает выходить на службу. Что у тебя за бумаги?
– На подпись, Сергей Степанович. Отпускные билеты адъютанту Нефедову и Железкину, да еще Цыганков план партийно-политической работы подбросил. Сам он на полигоне сегодня.
Мочалов взял документы, строгая морщинка появилась у него над переносьем.
– Нефедову отпускной подпишу, а Железкину отпуск придется отставить. Не подумал ты, Кузьма Петрович. У нас такая горячка, а ты офицера на отдых отправляешь. План партполитработы давай.
– Есть еще одна новость, – сказал Кузьма. Мочалов вопросительно поднял на него глаза. – Звонил полковник Шиханский и приказал готовиться к дивизионному учению. В штаб соединения приехал инспектор ВВС генерал Олешев. Шиханский предупреждал, что надеется на тебя, как на бога.
– Так и сказал? – криво усмехнулся Сергей.
– Так и сказал.
– Узнаю Шиханского, это на него похоже. Задачу он поставил?
– Поставил. Тема – отражение массированного налета бомбардировочной авиации. Мы – «синие». Будут действовать с нашей стороны два полка: наш и Кравцова. В штабе определены два рубежа встреч. Кравцов будет атаковать колонну бомбардировщиков на маршруте от Энска до Ажиновки, наш рубеж – Ажиновка – Черный стан. Решение приказано готовить самостоятельно. Полковник Шиханский предупредил, что от нас ожидает успешной групповой атаки всем полком. Даже при ухудшении метеорологических условий.
– Та-ак! – протянул Мочалов. – Значит, потребовался эффектный удар всем полком, чтобы покорить инспектирующего генерала. Ну, а если облачность будет низкой?
– Все равно рекомендовано готовиться к атаке всем полком сразу.
– Понятно, – заключил Сергей, – когда срок готовности к учению?
– Понедельник.
– Хорошо. Завтра выхожу на службу. У тебя ко мне все?
– Нет, не все, – покачал головой Кузьма и, замолчав, отвернулся.
– Нина уехала, Сережа, – сказал он после паузы.
Мочалов не пошевелился. Наклонившись, он сосредоточенно наблюдал за тем, как колышется край белой простыни от влетевшего в окно ветерка.
– Когда?
– Вчера, Сережа, – громко вздохнул Кузьма, – может, зря вы погорячились оба: и ты, и она. Как-то странно. Дружно жили, она в Энске всем нравилась.
– Она и там всем нравилась, – резко перебил Мочалов, – там, в экспедиции.
– Сергей, тебе, конечно, решать, – настойчиво возразил Ефимков, – а мое мнение такое – поторопился ты! Как можно было все это сразу, даже не выслушав человека как следует. Тем более, ты командир полка, нас всех воспитываешь.
– Решил поучить? – усмехнулся Мочалов.
Ефимков развел руками и сухо, с явной обидой произнес:
– Извини на слове. Сказал, что думал.
Он встал и, не глядя на Мочалова, стал собирать в папку бумаги.
– Я тебе все же друг и говорить, что думаю, имею право. Мы с тобой руководящий состав полка, Сережа, и об этом нельзя забывать ни на минуту. С нас пример должны брать. Значит, и быт у нас должен стоять всегда на уровне. У Цыганкова, вон, тоже в прошлом не все с Валерией ладилось, а он сумел найти общий язык. И смотри – живут дружно, ребенка ожидают.








