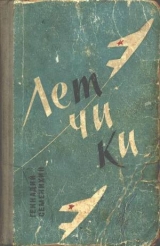
Текст книги "Летчики"
Автор книги: Геннадий Семенихин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
– От гарный парубок, ты, Михайло… Яка обида, що дочки у меня больше нема. Ох, и добрый был бы ты зятек!..
А Михаил уже наливал себе и брату «Запеканку» в рюмки и, озорно блестя глазами, кричал:
– Держи, Кузя, штурвал покрепче, чтобы выше звезд и месяца летать, а мы, станкостроители, такую технику тебе на земле подготовим, что в обиде не будешь.
…По пути на вокзал «эмка» дважды садилась в кювет, к счастью неглубоко, и ее сравнительно легко удавалось вытаскивать. Ефимков едва поспел к московскому скорому. Он вбежал на перрон, когда к вокзалу подкатила длинная вереница вагонов. Михаил стоял на ступеньках, такой же высокий и плечистый, как и Кузьма. Только глаза у него были синие, материнские, да густые волнистые каштановые волосы красиво зачесаны назад. Но подбородок крутой, упрямый, как у старшего брата, и губа нижняя полная, вздрагивающая от усмешки.
Пальто с котиковым воротником было распахнуто, и Кузьма увидел под ним красивый коричневый костюм из дорогой шерсти.
– Жду, Кузя, жду, – приветствовал брат, – ты уже на целую минуту опоздал.
Они крепко обнялись, и Кузьма Петрович ощутил запах тонких духов.
– Ого, да мы, кажется, франтим!
Михаил спокойно встретил шутку.
– А по-твоему, токарь должен всегда в замасленном комбинезоне ходить? Я и учиться начал, Кузя, не только франтить. Можешь поздравить, уже на первом курсе института металлов.
Глаза капитана округлились.
– Вот как!
Младший брат довольно рассмеялся, показывая крепкие белые зубы.
– Удивил, а? Можешь сказать: «Дай бог нашему теляти да волка сжевати». Ничего, дело пойдет.
– Значит, у станка уже не работаешь?
– Это почему же?
– Ты сам сказал, что в институте.
– И что же? Нет, брательник, учусь и работаю.
– Молодец, Миша! – с восхищением одобрил капитан. – Я в тебя всегда верил. А теперь куда путь держишь?
– В Москву. Есть там знаменитый токарь-скоростник Быков. Слыхал? В своем деле он, что у вас называется, ас. Так вот дирекция и парторганизация вроде как на практику к нему посылают. По секрету тебе скажу, я и мой напарник дядя Федя Оленин уже на трех сменах его рекорд побивали. Вот и хочется силами с ним померяться. Таким, как Быков, стать, понимаешь.
– Ты станешь, Миша, ты упорный.
– Конечно, стану. Надо топать вперед, в двадцатом веке ведь обитаем. А ты чего такой вроде как грустный?
Капитан вяло улыбнулся.
– А что, разве заметно?
– Натурально.
– Устал немного, Миша, – соврал Кузьма, – ночные полеты были.
– Ну, проводишь меня и отоспишься. Галинка как, Вовка?
– Спасибо, все в порядке.
Раздался свисток дежурного по станции и под вагонами зашипели тормоза. Михаил ухватился за тонкие поручни, полез в тамбур. Из перестука колес донесся его тенор:
– На обратном пути жди в гости.
Поезд ускорял ход. Кузьма бежал за вагоном, постепенно отставая.
У края перрона остановился, в последний раз поднял руку, махнул.
«Вот и уехал Мишка». И он вдруг подумал о том, как, должно быть, светло сейчас и радостно на душе у этого парнишки, доводившегося ему родным братом, оттого, что едет он в столицу осуществить заветную свою мечту. «Он не только собирается «топать вперед». Он и топает, – подумал грустно Ефимков. – А я?»
И ему вдруг с нестерпимой остротой стало больно за ту первую в жизни потерю ориентировки в полете, которую допустил сегодня, за то, что в воздухе, в кабине истребителя, сегодня он впервые в жизни почувствовал себя каким-то неуверенным. На душе стало холодно и пусто.
– Нет, так дальше не пойдет, – тихо сказал Кузьма, – так нельзя.
Он медленно поднял голову. Сверху на него смотрели крупные фиолетовые звезды. Было безветренно, неправдоподобно ярко искрился снег. Впереди, насколько хватает глаз, стелилось пестрое множество огоньков. Это город начинал свою вечернюю жизнь.
Над одним из отстроенных заводских корпусов курилась тонкая, уходящая в небо труба, на привокзальной площади молодые голоса выводили «Калинушку», веселую и задорную, непонятно почему распеваемую в этот мороз.
Кузьма стоял и стоял и вдруг физически ощутил, как хорош этот вечер, как крепок и бодрящ сухой морозный воздух.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Человек, потерявший в полете минуты, подобен пассажиру, опоздавшему на поезд. С багажом в руках мечется такой пассажир по перрону, все еще не желая верить, что последний вагон скрылся из глаз за поворотом. Примерно с таким же чувством восстанавливал в памяти детали прошедшего полета на перехват воздушного «противника» Кузьма Ефимков. «Эх, вернуть бы этот полет, – тосковал он, – ни за что бы не стал выходить под облака. Я бы этого «синего» срубил первой очередью». От воспоминаний о неудаче портилось настроение. Дома он слышал горькие вздохи Галины, ловил ее укоризненные взгляды. Однажды она не выдержала и спросила:
– Ты как, с Сергеем помирился?
Он свирепо затряс головой.
– Не тревожь, Галю, дай душе выболеться!
На службе Ефимков избегал встреч с Мочаловым. Иногда догадывался: Сергей хочет подойти, заговорить. Кузьма хмуро сдвигал брови и сразу поворачивал дело так, что разговор по душам становился невозможным. Про себя он уже на третий день думал спокойно и холодно: «Правильно получил, по заслугам. Не знал теории, вот и не поверил приборам. Думаешь, не так? Так!» В самые трудные минуты Кузьма Ефимков любил мысленно разговаривать с самим собой. При этом к себе он обращался всегда с самыми обидными словами: «Ну что, Ефимков, прошляпил? Кричал, шумел, что всегда на уровне будешь, а сам… Тяжело в облаках летать? В войну этим заниматься тебе почти не приходилось. Самолеты сбивал в ясном небе, когда аэродром закрывало, взлетать и садиться не требовали. Новое все это для тебя. Эх, приятель, неужели ты уже ненужным для авиации становишься! Пальчиков и тот бы не стал на твоем месте выходить из облаков, а стрелкам поверил. А впрочем, все ерунда! – решительно обрывал себя капитан. – Одно интересно – сколько времени мне нужно, чтобы в приборах получше разобраться. Трое, четверо суток? Может, пять? Возьмусь!»
И Кузьма взялся. Он занимался упорно, с яростной настойчивостью, на какую только был способен. Два вечера капитан просидел у Скоробогатова над учебником физики, разбираясь с помощью старшего техника во всех теоретических основах.
Придя к старшему технику, он сказал:
– Вы, конечно, не поймите меня превратно, Аркадий Петрович. А то скажете, дескать, покритиковали Ефимкова, он и перелицевался. Теоретиком становиться не думаю. И знаний хватит мне, чтобы машину по синему небу водить. А вот прибор новый освоить помогите.
Потом три дня подряд оставался в опустевшем здании штаба и проводил вечера в штурманском классе.
Сегодня Ефимков тоже направился в учебный класс. Сам подготовил несколько маршрутов полета за облаками и, поставив стрелки в необходимое положение, засекая условно время и скорость, тренировался в полетах на «приводную» радиостанцию.
– Ты идешь вправо от нолика, – вполголоса повторял он, имея в виду длинный конец стрелки, – стало быть, я делаю доворот. Теперь мы с тобой идем к аэродрому и скоро будем пробивать облачность. Допустим, что летное поле закрыто туманом и даже с пятидесяти метров ничего не видать: ни финишера Петькина, ни «бати» Земцова, ни нашего мудреца Мочалова. Как будем поступать, а?
Тут происходила заминка. Полет на приводную Ефимковым был освоен полностью, а посадка вслепую с пробиванием облаков над совершенно невидимым аэродромом – недостаточно. Такая посадка представляла большую сложность.
Скрипнула дверь. Ефимков мгновенно обернулся: любой вошедший сейчас был бы только помехой. «Если даже Скоробогатов, все равно откажусь от его помощи, – решил Кузьма. – Разве только спрошу, как будет себя вести прибор». Но в класс вошел не старший техник, а подполковник Оботов.
– Добрый вечер, – сказал он радушно, – чем занимаемся?
Ефимков привстал и неохотно ответил на приветствие.
Но Оботов, не обращая внимания на недовольный вид офицера, подошел ближе. Бегло взглянул на листок бумаги, что лежал исписанный цифрами, и одобрительно кивнул.
– В пробивании облачности над аэродромом тренируетесь?
– Так точно, – подтвердил Кузьма.
– И как получается? – Оботов присел рядом.
– Да вот после четвертого разворота не все ясно… Как, например, тут быть? – Кузьма говорил нехотя, как человек, которого вынудили к этому.
– Давайте попробуем разобраться вместе, – предложил Оботов. – Значит, каковы условия «полета»? Над посадочной полосой ноль видимости в высоту и ноль по горизонту.
– Совершенно точно.
– И вы уже вышли к аэродрому?
– Да.
– Теперь нужно будет поступать таким образом…
Оботов снял с головы шапку и положил на соседний стол. Пригладив жесткую седину висков, он заговорил спокойно, не торопясь, повторяя по два раза, когда и каким будет каждое колебание стрелок и как летчику нужно их понимать. Объяснял замполит просто, и Кузьма удивился, что этот человек, уже несколько лет не поднимавший в небо истребитель, все до тонкостей понимает в новом навигационном оборудовании.
– Вы и это знаете! – воскликнул Ефимков, когда Оботов стал говорить о том, какие возможны отклонения в показаниях прибора при пробивании облаков. – А для чего вам знать с такой глубиной? – Кузьма хотел сказать: «Вам, бывшему летчику», но запнулся.
– Вы собирались сказать – вам, которому не придется никогда летать? – будто угадал Оботов.
– Нет, я не совсем так, – густо покраснел Кузьма Петрович.
Подполковник спокойно посмотрел на скрытые под стеклом прибора стрелки.
– А как же можно иначе, – убежденно возразил он, – какое право я имею знать этот прибор, допустим, хуже вас? Пусть я не летаю, но изучать новую технику я должен больше других. Что же я за политработник, если не сумею ответить на вопрос любого офицера, который младше меня и по должности и по званию? Что тот подумает: «Ну и Оботов. Только и может политинформации да занятия по марксистко-ленинской подготовке проводить». Нет, Кузьма Петрович, учиться, учиться и учиться, иначе быть не может.
Замполит молча взял шапку, собираясь уходить. Потом, что-то вспомнив, постучал о стол указательным пальцем.
– Вот еще что, Кузьма Петрович! Помните, на занятии мы как-то вели речь о переходе количества в качество, и вы не могли назвать примера?
– Помню, – насторожился Кузьма.
– Вот вам убедительнейший пример из вашего личного жизненного опыта, ваш неудачный полет наперехват. Вы стали мало учиться, пренебрегли теорией. Вам казалось, что такой опытный офицер, как вы, может обойтись старыми практическими навыками. А новая техника требовала знаний, знаний и знаний. Вы не замечали, как происходили эти количественные изменения. А в один прекрасный день количество перешло в качество, в плохое качество. Скачок. Вы не сумели перехватить «синего».
– Да, это был ска-ачок! – Кузьма всей пятерней провел по волосам. – У меня этот скачок из головы не выходит!
– Вижу, – согласился замполит, – но вижу и другое: вы взялись за дело, и радуюсь этому особенно!
Оботов дружески потрепал Ефимкова по плечу.
– Эх, Кузьма Петрович! Отличный вы человек. Прямой, душевный, дело свое любите. Так надо к черту выбросить упрямство свое и самолюбие, как самолет-буксировщик сбрасывает простреленный конус. Я уверен, что в следующем тактическом полете вы себя покажете!
Ефимков быстро встал, двинулся к замполиту и чуть не обнял его в бурном порыве.
– Спасибо, товарищ подполковник, спасибо вам человеческое от всей души, что поддержали, – трубно заговорил он и покраснел. – Увидите, что Ефимков не только ошибки делает, но и исправлять их умеет.
Оботов ушел, а Кузьма еще долго повторял теоретические расчеты слепой посадки…
– Через неделю мы расстанемся, Боря, – сказала Наташа. Ее широко раскрытые глаза смотрели куда-то поверх Спицына, – должно быть, на дверь библиотеки, ее неплотно притворил за собой один из последних посетителей.
Шел уже десятый час. Библиотеку полагалось закрывать. Спицын смущенно перелистывал страницы восьмого тома Чехова. Он принес его сдавать, и Наташа уже вычеркнула книгу из формуляра, но томик еще продолжал лежать на столе, и пальцы лейтенанта переворачивали страницы.
– Значит, уезжаете?
– Через неделю.
Наташа бесцельно переложила с места на место зеленую ручку, подула на стол, хотя ни одной соринки на нем не было.
– Так скоро?
– Да.
Спицын вздохнул. Он не обладал счастливой способностью быстро сходиться с людьми, а с девушками был особенно робок и нескладен. Борис нередко завидовал Пальчикову: у того и речь бойкая и шутка всегда наготове. Даже с Наташей, а к ней его очень потянуло за эти дни, он был неразговорчивым. Сегодня одна из последних встреч. Скоро проходящий поезд заберет эту девушку и увезет далеко-далеко.
– Я вам напишу, обязательно напишу, – решительно сказал Спицын, – про то, как у нас тут в Энске жизнь пойдет. И про себя, и про Колю Пальчикова, и про всех. А вы ответите?
Наташа молча кивнула.
– Я буду радоваться каждой весточке, – загорелся Борис и покраснел оттого, что заговорил откровенно. – Правда, Москва большая – метро, парки, театры. Там у вас друзей найдется много.
– Они у меня теперь не только в Москве, – перебила Наташа.
Борис благодарно улыбнулся.
– Спасибо. Значит, помянете и меня вместе с нашим Энском.
– Вспомню, Боря, – тихо отозвалась Наташа, поправляя слегка растрепавшиеся волосы. – И прогулку под ночными звездами на лыжах вспомню и вашу готовность улететь на Луну.
У Спицына гулко заколотилось сердце. Он перестал листать книгу, отложил ее в сторону.
– Поставьте на полку, – попросил он.
– Давайте, – охотно согласилась Наташа и поспешно отнесла томик, словно он был помехой в их плохо завязывавшемся разговоре.
– Наташа, – заговорил лейтенант. – Знаете, я о чем подумал… Вот вы уедете и обещания своего не исполните.
– Какого?
– Вы обещали мне что-нибудь сыграть на пианино.
Наташа несмело тронула лейтенанта за рукав шинели.
– Хотите, сейчас? Клуб сегодня пустует, мы проберемся к пианино, как два заговорщика. Идет?
Узким коридором прошли они в пустой, полутемный зрительный зал. Пианино стояло на сцене. Туда нужно было подниматься по узким ступенькам.
Борис легко вскочил первым и протянул девушке руку.
– Осторожнее, здесь темно.
Как жалко, что до сцены всего шесть ступенек! Вот была бы лестница крутая, высокая – и он вел бы Наташу на самую вышину, заботливо, нежно. С неохотой Борис отпустил ее руку.
– Нет, подождите, – капризно произнесла девушка. – От меня отделаться не так просто. Вам еще придется подержать мою шубу…
– А вы не простудитесь, здесь холодно?
– Да что вы! Какой же музыкант, даже самый начинающий, играет в шубе!
Девушка сбросила шубку прямо ему на руки и осталась в черном шерстяном платье, еще больше подчеркивающем белизну ее лица, волос, рук. Спицын бережно принял шубу, сохраняющую тепло ее тела, и осторожно, на некотором отдалении, держал ее, словно эта была дорогая хрупкая вещь, способная при неосторожном обращении разбиться.
Скрипнула крышка инструмента. Наташа опустила на клавиши руки, откинула голову. И вот струны зазвенели.
Спицыну показалось – музыка пришла откуда-то издалека. Была она задумчивой, мягкой. Он представил: «Должно быть, так плещется море, тихо и спокойно, в ясное безветренное утро под лучами солнца, или журчит в камнях ручеек, или шелестит весенняя листва…»
Пальцы девушки то замедляли, то ускоряли бег, взлетали вверх над клавиатурой и, помедлив, опускались на нее вновь.
Но вот Наташа взяла несколько бурных аккордов. Они сильно раскатились по залу, на смену безмятежным, ласкавшим ухо звукам метнулась целая буря. Так бывает, когда небесные тучи с громом и молнией обрушиваются на землю потоками проливного дождя. Были здесь и гнев, и призыв, и борьба. Потом звуки стали слабеть. И вот все закончилось мягкой, замедленной мелодией, грустной и радостной в одно и то же время. Наташа оторвала руки от клавишей, тихо положила их на колени.
– Хорошо, Наташа, очень хорошо, – возбужденно похвалил Спицын. Музыка еще звенела в его ушах.
– Это мое собственное, – покраснев, призналась девушка.
Борис помог ей надеть шубку.
– Что-то мягкое и грозное, нежное и могучее. Это о природе?
– Не угадали. Это называется «Подвиг».
Лейтенант удивленно остановил на ней глаза.
– А содержание?
– Это еще набросок, – пояснила она смущенно, – настоящая музыка появится потом. Если, конечно, получится. А все это я памяти своего папы посвящаю. Вот послушайте и скажите, воспринимается содержание или нет… Тихое утро. Солнце всходит над степью, над лесом и над крышами маленькой деревеньки. Но почему в этой деревеньке от околицы до околицы слышен плач? Это фашисты сгоняют детей в школу, чтобы запереть их там и поджечь здание… Один шустрый парнишка вырывается из толпы и бежит в сторону наших траншей. Свистят пули ему вдогонку, злобно ухает миномет. Но мальчик переходит линию фронта. Вот он у командира батальона. Сомкнув шершавые от ветра губы, в суровом молчании слушает его командир батальона. «Атаковать деревню!» – приказывает он. И вот мчатся вперед танки, бегут следом за ними советские автоматчики. Батальон ворвался в деревню. Штыками и прикладами бьют воины гитлеровцев. Командир вбегает на порог школы и распахивает дверь. «Дети, вы спасены!» – кричит он запертым в доме ребятам, но в эту последнюю минуту падает, насмерть сраженный вражеской пулей. Он лежит на пороге школы с рукой, простертой вперед. Кончился бой. И опять над лесом и степью голубеет небо и светит солнце. Спасенные дети проходят мимо павшего героя, и каждый из них кладет ему на гимнастерку букетик полевых цветов. Дети остались жить. Их путь – к счастью! Вот и все, Боря, – закончила взволнованно Наташа. – Ну как, вам… понравилось? Только вы по-честному…
– Не знаю, Наташа, – развел лейтенант руками, – мне понравилось. Но, если по-честному, я бы на вашем месте сделал более строгим начало. У вас оно слишком мирно звучит и тихо, а ведь действие происходит на войне.
– Я подумаю, – отозвалась девушка. – Пожалуй, вы верно заметили.
Застегивая верхнюю пуговицу шубки, она дружески смотрела на летчика.
– Знаете что, Наташа, – смущенно сказал Спицын, – завтра я и Мочалов поднимаемся первыми, и как раз когда вы открываете библиотеку. Это я вам по секрету.
– Мне бы хотелось увидеть, как вы полетите. Только как я узнаю, на каком самолете вы, а на каком Мочалов?
Спицын задумался, наморщив по-детски лоб, потом радостно махнул рукой.
– Мы будем набирать высоту горкой, это подниматься вверх резко, как бы свечой. Знаете?
– Знаю.
– Так вот, я в это время «бочку» крутану.
– Ой, как здорово! – девушка поднесла к его вздернутому носу указательный палец и слегка погрозила. – А потом вы не сможете меня проводить, потому что будете на гауптвахте. Нет, не согласна.
Лицо Бориса расцвело в улыбке.
– За два года службы в Энске это будет мое единственное нарушение. Ну, поругают. А я ведь это для вас специально.
– Не знаю, как и быть, – успокаиваясь, ответила девушка, – а когда вы будете взлетать? – По озорному огоньку, затеплившемуся в глазах Наташи, было видно, что дерзкое предложение Спицына ей по душе.
Из клуба вышли вместе и попрощались, расставаясь, весело…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Майор Мочалов прибыл на аэродром в самом невеселом настроении. Еще не остыла боль, вызванная размолвкой с Ефимковым. Все эти дни раздумывая над случившимся, Мочалов пришел к выводу, что должен извиниться перед товарищем за резкий тон на разборе, но одновременно и повторить, что от своего взгляда на его ошибки не отказывается. Вчера он хотел было уже пойти к Ефимкову, но вспомнил, что тот после шести вечера заступил дежурным по гарнизону. В комнате дежурного такой разговор вряд ли возможен. Впервые за время пребывания в Энске Мочалов написал жене грустное, с жалобами на одиночество письмо. Однако, прочитав его, сунул в печь.
– Тоже расплакался, – выругал он себя.
Полеты на утро были запланированы несложные, к ним все уже подготовлено. Перед тем как лечь спать, Сергей позвонил на метеорологическую станцию и справился об ожидаемой погоде. Дежурный наблюдатель информировал весело и даже пошутил:
– Все будет ясно как на ладони, товарищ майор. Видимость сто километров по горизонту и сто в высоту. Перевал будет открыт целый день.
На аэродроме майор первым делом принял рапорт от механика о готовности самолета. Старательно начищенный мотористами фюзеляж «единицы» ярко блестел. Мочалов обошел истребитель, осматривая его снаружи, затем сел в кабину и проверил агрегаты. Правый карман комбинезона что-то оттягивало. Мочалов вспомнил: официантка Фрося, заметив, что за завтраком он ни к чему, кроме чая, не притронулся, завернула несколько бутербродов и настойчиво сунула в руки:
– Негоже, товарищ майор, – говорила она, – вы и так у меня вечно недоедаете, берите с собой, на старте аппетит придет.
Сейчас они оттягивали карман комбинезона, но делать было нечего. Мочалов махнул рукой и смирился с тем, что этот кулек вместе с ним уйдет в учебный полет. «Бортпаек заменит», – усмехнулся комэск про себя. В кабине Мочалов решительно отогнал невеселые мысли. Он весь превратился в слух и внимание, собрал себя в упругий комок, подчиненный единственной мысли – хорошо выполнить задание. Вместе с лейтенантом Спицыным он пройдет по маршруту вдоль синеющего горного хребта, выполнит групповой пилотаж и через сорок пять минут возвратится назад.
По радио дано разрешение на вылет. Машина, притормаживая, несется к старту. Белый флажок стартера описывает в воздухе дугу и застывает в вытянутом в направлении взлета положении. Стремительно пробежав по бетону, истребитель Сергея отделяется от летного поля. Когда самолет набирает первые метры высоты, звук мотора меняется, становится менее оглушительным, чем был при разбеге. Делая разворот, Мочалов посмотрел влево: посадочное «Т», выстроенные на линейке самолеты, радиостанция, на тонкой мачте ее полосатый, с расходящимися солнечными лучами флаг Военно-Воздушных Сил, фигуры расхаживающих на старте командира части и замполита Оботова. Выровняв самолет, Мочалов поглядел вправо. В слепящих солнечных лучах появился самолет Спицына с хвостовой «тройкой». Ведомый шел ровно, на положенном интервале. Под прозрачным колпаком кабины Сергей видел сосредоточенное лицо лейтенанта. Время от времени Спицын поворачивал голову в разные стороны. Мочалов удовлетворенно подумал: «Держится правильно».
Борис Спицын нравился Мочалову и на земле и в воздухе. На земле – внешней скромностью, походкой немножко вразвалку, говорящей о добродушии, внезапной способностью оживляться, если речь заходила о полетах. В воздухе он покорял майора темпераментностью, смелостью пилотирования.
Сделав плавный круг над аэродромом, Мочалов и Спицын по условиям задания должны горкой набирать высоту. Спицын переводит острый нос истребителя в крутой угол и, едва не опережая Мочалова, устремляется ввысь.
Летчики уже отошли от аэродрома и висят над крышами городка. Еще секунда, и, закончив набор высоты, нужно переходить в горизонтальный полет. Но что это? Самолет Спицына внезапно опрокидывается на спину, расчерчивая синь неба плоскостями, и через мгновение занимает прежнее положение.
– Молодец, паренек, – чуть не крикнул Мочалов, залюбовавшись исполненной фигурой, но тотчас же вспомнил: «бочку» делать нужно не здесь, а в зоне, через три минуты полета.
– «Чибис-три», «Чибис-три», – посылает Мочалов в эфир резкий окрик, – кто разрешал «бочку»? Немедленно прекратить!
– Вас слышу, вас понял, – раздается в ответ, – больше не повторится.
А в это время весь покрасневший от прилившей крови Борис Спицын представил девушку, ради которой пошел на первое в своей жизни нарушение летной дисциплины. Опершись руками о подоконник, смотрит, наверное, Наташа в небо. Замерли настороженные голубые глаза. Может быть, верхняя губа с родинкой вздрогнула от улыбки. Может быть, просто и ласково прозвучало сейчас его имя… Картина мгновенно исчезает. Снова проясняется доска приборов с белыми заостренными концами стрелок, словно их, прежде чем поместить под стекла, окинули в сметану. Перед летчиком небо, свободное от облаков, послушно расступающееся перед стремительной скоростью истребителя.
Подполковник Земцов приложил к мохнатым бровям ребро ладони и сердито покачал головой.
– Нет, вы только посмотрите, – обратился он к шагавшему рядом Оботову. – Как вам это нравится?
– Что такое? – удивился замполит, не наблюдавший за взлетом истребителей.
– «Бочку» сделал на три минуты раньше, чем положено. Где, я спрашиваю, нужно «бочку» вертеть: в зоне или над аэродромом? – Земцов погрозил летчику кулаком, будто тот мог его сейчас увидеть и услышать. – Ну, подожди, узнаешь у меня, где раки зимуют! Я покажу!
– Да кто сделал, Мочалов, что ли?
Земцов перевел глаза на Оботова. От подобного предположения он даже опешил.
– Ну нет. Как можно о серьезном человеке такое подумать? Если уж командир эскадрильи своевольно начнет «бочки» вертеть, так мне только в отставку проситься останется. До этого у нас еще не дошло. Спицын отличился! Передам, чтобы шел на посадку!
Командир сделал решительное движение к радиостанции.
– Товарищ командир, – окликнул замполит, – а может, не стоит? Поломаем всю организацию летного дня. Пусть выполнит задание, а потом и накажем. Ведь это у нас за два года первое нарушение летной дисциплины.
– И последнее! Не будь я Земцов! – горячился подполковник, но возмущение его постепенно угасало. – Ладно, пусть продолжают полет, – заключил он сердито, – но без взыскания не обойдется. Я с ними сейчас свяжусь; может, Спицыну пришла идея и на маршруте что-нибудь отчудить…
Подполковник потянулся за микрофонной трубкой. Мочалов быстро отозвался на вызов. На вопрос командира полка: «Как ведет себя ведомый?», майор ответил, что условий полета больше не нарушает.
Земцов успокоенно отошел от радиостанции.
– Кажется, угомонился, – сказал он облегченно. – Эх, и молодежь, всегда над ней нужна твердая командирская рука. Особенно, когда пилотажные вольности в голову лезут…
Было ясное утро со свежим ветром и крепким пощипывающим морозом. Небо на востоке горело яркими красными отсветами. Холод пробирал даже в унтах. Земцов и Оботов расхаживали вокруг стартовой радиостанции. После взлета пары истребителей наступил перерыв. Следующая группа должна была подняться после двенадцати часов.
– Завтра будто среда, товарищ командир, – сказал Оботов.
– И что из того? – скосил на него глаза Земцов.
– По плану намечен ваш доклад для летно-технического состава – о Берлинской операции.
– Дошел намек, – улыбнулся командир. – Вы интересуетесь, готов ли я? Сделано порядочно, Павел Иванович. Первый вариант, который вы читали, исчеркал. По-моему, теперь стало получше. – Земцов потер перчаткой замерзшие щеки и прибавил: – Но было бы отлично, если бы вы еще разок пробежали доклад перед тем, как мне показываться на трибуне. Ум, говорят, хорошо, а два лучше.
– Договорились, – согласился замполит, но тотчас же поморщил лоб, словно что-то припоминая. – Да, вот еще что, – спохватился он, – все забываю у вас спросить: как семейные дела у Цыганкова? Я делаю вид, будто ничего не знаю про его личные неурядицы. Дело это тонкое. Тут сочувствием да широкой оглаской не поможешь, а только напортить можно. Раз он открылся только вам, вам и удобнее заниматься этим.
– Что верно, то верно, – согласился Земцов. – Вчера беседовал с Цыганковым. Он же у нас немного скрытный. Спрашиваю, как дела, улыбается, и одно лишь слово: «Порядок». Помолчал и говорит: «Мы с коммунистами решили теоретическую конференцию о полете в сложных метеоусловиях провести». Я пожал плечами – и напрямик: «Не про теоретическую конференцию тебя спрашиваю, Гриша. Дома у тебя как?».
– А он что же?
– Нахмурился. «Не хочу сейчас об этом говорить, товарищ командир. Кажется, что-то изменилось. Я лучше вам после, через неделю-две, расскажу». На том и кончился разговор. Думаю, тревожить расспросами Цыганкова пока не стоит. Подождем, может, все образуется…
– Согласен, – одобрил Оботов, – в чужую личную жизнь командиру вмешиваться – это все равно, что по тонкому первому льду через реку идти. Очень и очень большая осторожность нужна. – Замполит сунул руку в карман своей меховой куртки, достал пачку папирос. – Угощайтесь «Казбеком». Московский.
Земцов взял папиросу, подул в мундштук, но закурить не успел. Затрещал телефон, и в прямоугольнике двери стартовой радиостанции показалось круглое румяное лицо дежурного радиста.
– Вас просят, товарищ командир.
– Кто там еще?
Земцов тяжело взобрался по ступенькам в кузов автомашины, приложил трубку к посиневшей от холода гладко выбритой щеке. Лицо его имело выражение, свойственное человеку, успевшему за день сделать пятнадцать дел и собирающемуся прибавить к ним шестнадцатое, но еще не знающему, каким оно будет. Лицо Земцова не было равнодушным, но и не было нетерпеливо ожидающим. Скорее всего оно было деловым, озабоченным, и только. «Что же, – говорил спокойный рассудительный взгляд черных глаз, – я и это шестнадцатое дело готов сделать не хуже, чем первые пятнадцать». «Вероятно, это начальник КЭЧ звонит, – подумал Земцов, – по поводу батареи, которую вчера не успели починить в шестом корпусе. Сейчас я его пропесочу!»
– Кто там еще? – Земцов взял трубку. – Да, да, слушаю! – крикнул он и сразу насторожился.
Минуту длилось молчание. Потом в трубке послышался далекий и, как всегда, спокойный голос генерала Зернова, четко произносивший каждое слово.
– Я вас слышу, товарищ генерал, – громко сказал Земцов, очевидно, в ответ на вопрос о слышимости. – Есть ли у нас кто в воздухе? Майор Мочалов и лейтенант Спицын идут вдоль главного хребта по маршруту. Что, что? Послать их в квадрат пятнадцать-десять? Но ведь это же переваливать главный хребет? Что? Немедленно выполнять?.. Где, в этом квадрате?.. Слушаюсь!
По лицу командира полка красными пятнами прошло волнение. Рука, положившая телефонную трубку, затеребила узкий ремешок планшета. Нет, уже не было на этом лице обычной деловой озабоченности. В больших черных глазах под разлетом мохнатых бровей горела решимость, голос звучал строже и требовательнее, чем обычно.
– Вызвать Мочалова! – приказал он радисту и отбросил незажженную папиросу. Земцов наклонился к Оботову и негромко сказал: – Иностранный самолет нарушил границу и углубляется на нашу территорию.
Оботов резко выпрямился.
– Вы уже приняли решение? – спросил он поспешно.
– Принял, – твердо ответил Земцов. – Поднимать наперехват новую пару истребителей или четверку бесполезно. Нарушитель уйдет. Дам команду Мочалову перевалить хребет кратчайшим путем. Хватит ли у него только горючего на обратный маршрут? – Командир части досадливо закусил губу, помолчал, производя в уме подсчет. – Хватит, – ответил уверенно. – Если Мочалов и Спицын сделают один круг и дадут нарушителю сигнал идти на наш аэродром, вполне хватит. Да и выход один все равно. Перехватить могут только они!








