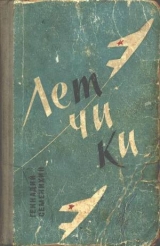
Текст книги "Летчики"
Автор книги: Геннадий Семенихин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)
– Спасибо и за это, товарищ подполковник! Разрешите идти?
– Действуйте.
Лейтенант круто повернулся и почти бегом бросился на свой участок. Его звену предстояло расчищать снег вокруг зачехленной ефимковскои «двойки». Пальчиков схватил широкую деревянную лопату, с силой вонзил ее в сугроб.
– А ну, пошевеливайтесь! – буйно крикнул он сержантам. – Кто будет хорошо работать – тому увольнение в город обещаю. С девушками танцевать будете. А тому, кто плохо, рекомендую скипидар в качестве ускорителя… Взялись!
Механики ответили на шутку смехом, и работа пошла живее.
Через полчаса Пальчиков разрешил сделать пятиминутный перерыв на перекур, чтобы люди не утомились преждевременно. Опершись о лопату, он стоял у истребителя Ефимкова и с тоской наблюдал, как безжалостная метель заносит только что расчищенную площадь.
– Ну, дьяволы-архангелы! – выругался Пальчиков, грозя кулаком в небо. – Все равно с нами не справитесь. Десять, двадцать раз пройдем, а к утру все в ажуре будет.
– Товарищ лейтенант, разрешите обратиться, – услышал он позади себя хрипловатый голос. Пальчиков быстро обернулся.
– А-а, Железкин! – произнес он почему-то обрадованно.
– Так точно, товарищ лейтенант. Сержант Железкин. Прибыл из краткосрочного отпуска!
Пальчиков протянул ему руку и ощутил крепкое пожатие узловатых пальцев механика.
– Ну, как мамаша?
– Спасибо, товарищ лейтенант, – словоохотливо начал Железкин. – Все обошлось. Как приехал, свез ее в областную поликлинику. В районе у нее рак подозревали, а вышло, что опухоль незлокачественная. Профессор операцию делал. Пошла на поправку. Так что спасибо, – еще раз поблагодарил он, тронутый тем, что Пальчиков, командир не его экипажа, задал такой вопрос.
– Вы когда приехали?
– Прямо с вокзала. Зашел в казарму – там никого, кроме дневального. Он мне и рассказал все про майора Мочалова и лейтенанта Спицына. – Железкин вздохнул. – Скажите, где мне лопату взять, товарищ лейтенант?
– А вы не устали с дороги?
– Да что вы, товарищ лейтенант! У Железкина сил много. Какая усталость, раз такое дело!
Минуту спустя Железкин уже отбрасывал от самолетной стоянки снег.
Ветер не унимался. Небо, темное, беззвездное, смешалось с землей. Подполковник Оботов поглядел на светящийся циферблат ручных часов: половина одиннадцатого. Он пошел против ветра спиной вперед в ту сторону, где под руководством Цыганкова работали летчики, техники и механики мочаловской эскадрильи. Ветер мешал идти. Оботов с теплым чувством думал про свой разговор с Пальчиковым. «Эх, Паша, Паша, – обращался мысленно замполит к самому себе, – а все-таки до чего жалко, что ты сейчас не летаешь. Если бы ты летал, ты бы тоже, подобно этому пылкому лейтенанту, просился на розыски. Разве нет?»
Оботов повернулся и пошел вперед, навстречу метели.
Было около полуночи, когда Григорий Цыганков заехал домой, чтобы выпить стакан горячего чаю и снова возвратиться на расчистку аэродрома. Старший лейтенант устал, ныли мышцы рук, казалось, даже позвоночник был наполнен тупой болью. Он подумал о Валерии: встанет или нет? За последнее время между ними установились какие-то странные отношения. Почему-то жена стала задумчивой, молчаливой. Несколько раз Григорий пытался решительно с нею поговорить, но Валерия перебивала:
– Подожди, Гришук, не время.
И оттого, что она называла его мягко, как прежде, «Гришуком», Цыганкову начинало казаться, что в отношении Валерии к нему что-то изменилось. Но что? Лучше или хуже стала она к нему относиться – сказать было трудно. Несколько раз он заставал жену за вузовскими учебниками. Валерия читала курс хирургии с красным карандашом в руке, отчеркивала целые абзацы. С мужем она не была ни раздражительной, ни ласковой. Иногда у Григория появлялась тревожная, пугающая мысль: «К чему вся эта перемена? А вдруг она уложит вещи и уедет?» И от этого вновь пробуждалась тоска…
Войдя в комнату, старший лейтенант зажег свет. Очевидно, он слишком громко прихлопнул за собой дверь. Валерия проснулась и привстала на локтях в кровати. Распущенные волосы упали на ее белую шею.
– Опять ты в полночь, Гришук!
Григорий остановился, молча расстегнул верхнюю пуговицу комбинезона и так и остался стоять, прислонившись спиной к косяку двери. Очевидно, столько невысказанного горя было в его глазах, что Валерия Николаевна не выдержала. Выражение сонного равнодушия уступило место удивлению. Она вдруг свесила с постели ноги, нашарила ночные туфли и приблизилась к нему:
– Что с тобой, Гриша? Почему ты молчишь?
Цыганков устало провел ладонью по холодной щеке, сказал медленно, точно отрывал от себя эти слова:
– Ты жена офицера, Лера. Я не должен этого делать, но тебе скажу. Наши товарищи, майор Мочалов и лейтенант Спицын, не вернулись с задания. Они в горах, на вынужденной.
– Почему? – тихо спросила Валерия.
– Вели бой с иностранным самолетом, нарушившим нашу границу, и остались без горючего.
– Мочалов, это тот красивый майор с черными бровями? – невпопад спросила Валерия. – А Спицын молоденький, курносый, почти мальчик.
– Да. Две жизни, две человеческие жизни!
Валерия пошевелила теплыми губами, словно что-то подсчитывала в уме.
– Гриша, – сказала она задумчиво, – а ведь и с тобой это могло бы случиться… Это верно?
– Если бы я был на их месте, – подтвердил Цыганков.
– И ты бы остался там… в далеких безлюдных горах?
– Да. Тогда бы остался, – мягко улыбнулся старший лейтенант. – Но, как видишь, со мной этого не случилось, и сейчас у меня новые заботы. Я выпью стакан чаю, Лерочка, и уйду на аэродром на всю ночь, – помолчав, сказал Григорий и стал сбрасывать с себя комбинезон. – Видишь, какой буран. Но завтра все равно полетим па поиски.
Валерия подошла к нему вплотную, положила голые руки на плечи.
– Кто полетит, Гриша?
– Прежде всего капитан Ефимков. Будет мало – полетят и другие. На очереди Андронников и я.
Валерия тяжело вздохнула. Ночник из-под розового абажура щурился, словно удивлялся, что вот встали двое на пороге и не проходят дальше, будто нет лучшего места в этой теплой комнате. Странные мысли нахлынули вдруг на молодую женщину. Нет, не о Мочалове и Спицыне думала она, а о том, что именно здесь, в суровом пограничном Энске, течет настоящая большая жизнь, та жизнь, которую она чуть было не проглядела, затосковав по далеким огням Москвы, по уютной трехкомнатной квартире на Кузнецком, по ежедневным телефонным перезвонам с подругами. Прав отец. Как же могла она не найти своего места здесь, среди этих простых, прямодушных людей, таких, как ее Григорий, никогда не жалующихся на трудности, даже страдающий и то потихоньку, так, чтобы не видели этого другие? Нет, дальше не может все оставаться так… Валерия привстала на цыпочки. Горячее ее дыхание опалило Григория, необычно блестели большие зеленоватые глаза.
– Гриша, ты чуточку отдохни. Давай я сниму воротничок, развяжу галстук. Не помогай, я сама.
Цыганков почувствовал легкое прикосновение ее пальцев. «Что с нею, совсем как раньше», – подумалось тревожно и радостно.
– Вот так! – тихо сказала Валерия, забирая галстук и воротничок. – Теперь за стол. Я сейчас согрею тебе чай. Ты что будешь – котлеты или яичницу?
– Ты раздетая, простудишься, – остановил ее Григорий.
– Да нет, что ты! – мягко возразила Валерия. Она сделала шаг к буфету, но остановилась и оглянулась на мужа. – Гриша, – произнесла она твердо, – я тоже пойду с тобой. Пока ты будешь кушать, я оденусь.
– Куда? – удивленно попятился Цыганков.
– На расчистку снега. Да, да, не смотри на меня, пожалуйста, такими глазами. Я и у Оботова и у Земцова могу попроситься. Ведь лишние руки на аэродроме сейчас не помеха. Я разбужу в Энске всех женщин и позову с собой… У меня нет валенок, но я возьму твои старые унты. В них будет тепло.
– Лерочка! – Цыганков нежно взял ее за руки, привлек к себе. Он хотел ей сказать какие-то особые теплые слова о том, что все плохое в их жизни кончено, что она стала опять его прежней, близкой Валерией, но он не нашел подходящих слов и топтался на месте, улыбаясь широкой простодушно-доверчивой улыбкой, говоря ей совсем другое. – Не надо. При всем желании не могу тебе этого позволить. Мы стараемся, чтобы об этом знало как можно меньше людей. А если понадобится, – нерешительно прибавил он, – я приду за тобой. Ладно?
– Спасибо, Гришук! Я спать сегодня не буду до твоего возвращения. Мне нужно будет подробно ответить папе. На то письмо. Помнишь? – Она запнулась, так же, как и он, не находя подходящих слов, и тогда Цыганков смело шагнул вперед, покрыл горячими поцелуями ее лицо.
Ночь, глубокая зимняя ночь. Оголтелый ветер мечется по единственной улице Энска и воет, воет не переставая. Будто озлобившись на все живое, человеческое, он заносит горбатую, ныряющую в овраг дорогу, с яростью набрасывается на часовых, охраняющих самолетные стоянки. Уже пробило двенадцать. Откуда-то издалека, вероятно из казармы, донеслись звуки Государственного гимна. На одном из постов прозвучал голос часового: «Стой! Кто идет?» И опять тишина. Но если внимательно прислушаться к шуму ветра, то можно различить приглушенное рокотание снегоочистителей. Пронзая фарами февральскую ночь, машины медленно движутся по летному полю. А рядом с ними непрерывно трудятся солдаты авиатехнического батальона, механики и летчики, молчаливо и упорно очищая подъездные пути от липкого, бьющего в лицо снега. Нужно все сделать, чтобы к рассвету аэродром был готов и капитан Ефимков на своей «двойке» смог отправиться в трудный, опасный полет…
Не спится в эту вьюжную ночь и самому Кузьме Петровичу Ефимкову.
Он лежит на спине с широко раскрытыми глазами. Завтра трудный полет, нужно бы отдохнуть, забыться, а сон не приходит, и Кузьма Петрович продолжает смотреть в едва различимый темный квадрат окна. Мысли теснятся в мозгу торопливые, несвязные, беспокойные.
Вспомнилось детство. Старик отец с поседевшими усами и шрамом на подбородке, полученным при штурме Зимнего дворца, возвращался с завода поздно вечером. Шумно отфыркиваясь, он долго мылся на кухне под краном, потом, растираясь мохнатым полотенцем, входил в комнату, с усов еще падали на пол капли. И весело спрашивал сына:
– Сколько отличных отметок из школы принес, стрекулист?
– Одну, – улыбался Кузьма.
– А я сто сорок процентов нормы! – бас отца в небольшой комнате раздавался мощно. Он поднимал сына на руки и громко смеялся.
Отец хотел, чтобы Кузьма заменил его в цехе, вырос хорошим токарем. Но старший сын не оправдал его надежд. Проучившись после семилетки год в фабзавуче, ушел по спецнабору в авиацию.
Когда Кузьма Петрович получил после войны первый отпуск и прилетел в Ленинград, отца уже не было в живых. Старик умер от воспаления легких вскоре после начала блокады города. В их комнате жили другие люди. Комната была заставлена незнакомыми вещами, но каждый угол, каждая царапина на стене остро напоминали о прошлом.
– Эх, батя, батя, – горько покачал головой Кузьма, обводя комнату тоскливыми глазами.
Из Ленинграда он уехал в Полтаву к своему другу-однополчанину, у которого и прожил остаток отпуска. Там, в городском театре, познакомился с молодой учительницей Галиной Горпенко. Веселая плечистая украинка с яркими черными глазами приветливо улыбнулась летчику, когда их знакомили друг с другом.
– Галина Сергеевна, – назвала она себя.
– Для учеников шестого класса вы, конечно, Галина Сергеевна, – сказал Кузьма, – а для меня просто Галина. Я так и буду вас звать, хоть сердитесь, хоть не сердитесь.
Через год они отпраздновали свадьбу. Они очень подходили друг другу – оба красивые, рослые. Покладистый, но временами бурный Кузьма так часто нуждался в ласковом спокойствии Галины. За все годы совместной жизни у них не произошло ни одной серьезной размолвки. Рос сын Вовка. Семья была здоровая, дружная. Кузьма вспомнил, как упрекала его Галина за то, что он мало читает, не учится.
Мысли тотчас же повернули к другому – к недавней ссоре с Сергеем Мочаловым. «Медведь я! – выругал себя Ефимков. – Что я сделал за четыре послевоенных года, кроме того, что закончил среднее образование? Ноль целых, ноль десятых. Нет, дудки, теперь все пошло по-иному. Пойдет или уже пошло? – спросил он самого себя и удовлетворенно ответил: – Да, пошло!.. Позавчера я лучше всех сдал зачет по новой навигационной аппаратуре. Подполковник Земцов сам сказал это.»
Ефимков усмехнулся, подумав, что все дни после ссоры с Мочаловым он даже себе не признавался в том, что взялся всерьез за учебу. В учебный класс он приходил тайком, когда там никого не было. Обращаясь изредка с теоретическими вопросами к Скоробогатову, он упросил его об этом никому не рассказывать. Мысленно самому себе Ефимков говорил: «Дай я только с приборами разберусь, а потом баста. Ни в какие теоретические глубины не полезу. Хватит с меня. Как там говорил наш мудрец Мочалов: летчик теперь должен быть почти инженером. Ничего. Мне только в слепой посадке потренироваться, а там я всех инженеров за пояс заткну».
Но проходил день, и Ефимков обнаруживал вдруг, что слабо разбирается в радиолокации, что не все ему ясно в аэродинамике больших скоростей. И он снова брался за книги, не говоря об этом никому. Один лишь Оботов, заставший его за повторением расчета на слепую посадку, знал об этих изменениях. Но замполит после их последнего разговора тактично молчал.
Как-то Кузьма Петрович набросал тезисы доклада «О советской военной гордости», который должен был сделать по плану партийного бюро. Вечером Галина перечитала их, подчеркнула синим карандашом неудачные фразы:
– Ой, Кузя, – вздохнула она, – был бы ты моим учеником, честное слово, и тройку бы не поставила. Ты же лучше можешь!
Он изорвал тезисы, сел и написал все снова.
– А теперь?
– Теперь на четыре с минусом, – засмеялась жена, прочитав новый текст.
– Когда же пятерку поставишь, милая моя учительница-мучительница?
Она ладонью взъерошила его волосы, сказала обычным голосом, тихим и ласковым:
– Сразу пятерка не дается, милый мой ученик.
Сейчас Галина Сергеевна спала. На белой подушке выделялись ее черные распущенные волосы. Край одеяла съехал и оголил плечо, Ефимков неслышным движением поправил одеяло. Галина Сергеевна тотчас открыла глаза.
– Почему не спишь, Галю? – прошептал Кузьма.
– А ты почему?
– Ты спи, спи, я только на минутку проснулся.
– Ой, неправда!
Галина Сергеевна села в постели. Будто решив сбросить с себя остатки сонливости, потерла висок ладонью.
– Зачем меня обманываешь, родной? У тебя опять неприятности?
Голос ее звучал встревоженно. Кузьма вздохнул и тоже поднялся. Мягкая ладонь жены неслышно опустилась ему на лоб, потом осторожно прошлась по волосам, задержалась на затылке и упала на спину.
– Галю, не беспокойся. Ложись, спи. Я тебя прошу, голубка.
В соседней комнате стучал будильник, ритмически отсчитывая секунды. Галине почему-то показалось: стучит он очень громко.
– Зачем ты его завел, Кузя? Тебе же завтра никуда не лететь.
Кузьма Петрович наклонился, поцеловал ее в плечо, коротко сказал:
– Лететь!
Жена сделала порывистое движение рукой.
– Лететь? В такую погоду? Да ты вслушайся!
Ветер на улице надрывно выл: «дзиу-дзиу-дзиу». Где-то близко громыхнул железный лист кровли. Кузьма нащупал в темноте мягкую руку жены, сжал ее в своей.
Галина слегка отодвинулась, резко повернула голову. Прядь распущенных волос скользнула по лицу Кузьмы. Как они хорошо пахли, эти дорогие волосы! Словно черпая воду, он набрал их в ладонь, поднес к губам, глазам, щеке.
– Родной, что случилось? – еще больше обеспокоилась Галина. – Почему тебя посылают в такую погоду? Я жена летчика и знаю, что значит вылет, если и завтра так, – она выразительно показала рукой на окно. – Кузьма, неужели ты мне не доверяешь? Я никому ни одного словечка, только объясни, отчего ты полетишь в такой опасный день?
– Всего не могу.
Вся охваченная беспокойством, Галина Сергеевна потянулась к мужу.
– Но хоть что-нибудь ты скажешь?
Ефимков кивнул головой.
– Тебе, Галю, да! Ты самый мне близкий человек…
Она слушала и, улыбаясь, думала о том, как потеплел вдруг его грубоватый голос.
– Галю, – донесся как издалека шепот Кузьмы и оборвался неловким смешком. – Вопрос у меня к тебе… По существу, как говорят. Давно хотел спросить, да все как-то стыдно было.
– О чем же, родной?
– Мне иногда казалось… Вот мы повздорили с Сергеем. Я, может быть, допустил ошибку в жизни, отстал от товарищей… И только опомнился, когда вышло это… с полетом наперехват. И я себя спрашивал, могла бы ты меня вот за все это… ну, за то, что стал я неучем и прочее… разлюбить? Ну, если даже не совсем, так наполовину?..
Галина Сергеевна покачала головой и тихо засмеялась:
– Кузьма, и как ты мог подумать такое! Или я для тебя в беде не первый друг!
Он наклонился и поцеловал ее в губы.
– Спасибо, Галю. Я так и думал, что ты это скажешь. Ты у меня в жизни как радиокомпас: из любого тумана на верный путь выведешь, – пошутил он. – А за себя я взялся. На чем споткнулся, с того и начал поправляться. И теорию и практику по слепой посадке сдал на «отлично». И завтра меня выпускают в такой полет, в какой редко кого пустят.
Она опять настороженно притихла, выжидающе всматриваясь в его глаза.
– У нас несчастье, Галю! – доверчиво продолжал Ефимков. – Сережа Мочалов сел на вынужденную в районе главного хребта.
Галина Сергеевна вздрогнула.
– Кузьма, неужели правда?! – И один нетерпеливый вопрос вырвался у нее. – Жив?
Кузьма Петрович угрюмо наклонил голову.
– Неизвестно…
– А есть ли надежда, хоть какая-нибудь надежда, Кузя?
– Есть. Там три посадочные площадки. Но они разбросаны друг от друга на десятки километров. Если бы он сразу одну из них нашел, если бы смог на нее спланировать, если бы эта площадка не была под снегом… Видишь, сколько этих «если бы», Галю! Сплошная теория вероятностей, как видишь.
Они долго молчали. Будильник стучал сухо, однообразно.
– Ты полетишь на розыски? – наконец спросила Галина, хотя теперь это было ясно и так.
– Да, – отрывисто бросил Кузьма и вдруг весь загорелся, придвинулся к ней, задышал в самое ухо. – Мы даже помириться не успели с Сережей. А с ним там еще и Спицын. Двое погибнуть могут. Галю, нужно ли тебе рассказывать, как мне сейчас тяжко. Да я всего себя наизнанку выверну, чтобы их спасти. От смерти мы с Сережей друг друга защищали, как братья были в войну. Как же я могу бояться погоды? Я сам выпросился на задание…
Она прервала:
– Полет опасный? Очень?
– Да, Галю, да. Нужно пробиваться чуть ли не до самой вершины хребта в тумане. Ни черта не увидишь, кроме приборной доски. Очень сложно.
– А ты в себя веришь?
– Верю.
Галина Сергеевна спрашивала быстро, отрывисто, не продумывая хорошо вопросы, не вслушиваясь как следует в ответы. Сейчас она собрала все это воедино, несколько минут молчала и заговорила спокойнее:
– Значит, ты полетишь. Что же я могу тебе сказать, Кузя, чем напутствовать? Ни одна женщина не имеет права удерживать в таких случаях самого родного человека. Но… – голос ее внезапно осекся. Она бросилась к нему на грудь, и он почувствовал, как горячи ее слезы.
– Ну что ты, родная, – старался утешить ее Кузьма Петрович. – Ну зачем… Все же на уровне.
А за окном была ночь, темная, беззвездная, и уныло, на один и тот же мотив, захлебывался ветер: «дзиу-дзиу-дзиу…»
…А утром, едва только пасмурный рассвет пришел на смену длинной зимней ночи, с широкой бетонированной полосы аэродрома оторвался одинокий истребитель с цифрой «2» на хвосте и мгновенно исчез в белесой пелене тумана. Несколько минут спустя подполковник Земцов принял первое сообщение летчика:
– «Родина», я «Чибис-два». Пробиваю сплошную облачность. Высота тысяча шестьсот. Задание выполняю…
Сергей Степанович уже несколько раз выворачивал карман, рассчитывая найти хотя бы хлебные крошки, оставшиеся от бутербродов, но там было пусто. Только клочок газеты упал на землю. Майор с досадой подбросил его ногой, подхваченный ветром листок помчался к обрыву площадки и нырнул в туманную мглу. Мочалов угрюмо махнул рукой и лег на землю, прислонившись к одной из каменных глыб, составленных полукругом для защиты от ветра. Ночевали летчики в самолетах: там было несколько теплее, плексиглас защищал от бушевавшего ветра, но за ночь уставали и отекали руки и ноги.
Спицын переносил лишения лучше. Его молодой крепкий организм не поддавался ни наступившему голоду, ни мучительным холодам. В бойких карих глазах не убавилось упрямства, хотя они и были уже окружены отеками. Мочалов выглядел хуже. Лицо его почернело, нос заострился, он все время чувствовал надломленность, руки и ноги были слабыми, неподатливыми.
Случайно притронувшись к ладони командира, Спицын ощутил, что она горячая. Сомнений не оставалось: у майора была высокая температура. Это подтверждал и лихорадочный блеск его глаз. Борис ничего не сказал о своем открытии майору, так же, как и, в тот второй уже день не выдавал мучительного озноба. Видимо, Мочалов простудился позавчера, когда, почувствовав сильную жажду, проглотил несколько горстей снега.
Мочалов вытащил из-за пазухи записную книжку, привстал и, сняв меховую рукавицу, стал писать мелким убористым почерком. Спицын лежал рядом, полузакрыв от слабости глаза. Он решил не отвлекать командира и думал о своем. Ему вспомнилась последняя встреча с Наташей, звонкий подзадоривающий голос девушки, голубизна больших ее глаз под длинными ресницами. Потом опять встал перед глазами накренившийся набок иностранный бомбардировщик, ощетинившийся огнем пулеметных точек. Может, это и было наивысшее испытание воли, о каком и не мог предполагать Борис? Может, перехват чужого самолета, нарушившего нашу границу, и будет расценен однополчанами как подвиг?.. «А вдруг, да?» – с волнением подумал Спицын.
Когда лейтенант очнулся от нахлынувших дум, он увидел, что Сергей Мочалов откинулся навзничь и спит. Ветер вырвал из его пальцев записную книжку и не сразу, а короткими, сильными рывками понес к краю площадки. Еще несколько метров, и книжка полетит с обрыва. Спицын побежал за ней и едва настиг. Возвращаясь, он случайно остановил глаза на исписанной страничке. Мелкие, почти печатные буквы читались легко, без усилия.
«Надежд на спасение мало. Проплыли они перед глазами. Больше рисковать его и своей жизнью не имею права. Сегодня же прикажу Спицыну уйти, а сам останусь у самолетов. Возможно, парнишка выберется, останется жив. Нина, если не увидимся…»
Следующее слово оказалось размазанным, и его нельзя было прочесть. Лейтенант вскинул голову, и сухие его губы зашевелились. «Командир разрешит мне уйти», – подумал Спицын. Перед ним мгновенно возникла картина. Вот, вконец обессилев, потеряв способность передвигаться на ногах, он сползает вниз с последнего крутого склона. Снег набивается в рот. Ледяной ветер успел обморозить лицо, руки. Но он жив, он дышит, он спасен. У подножья хребта его встречают вышедшие на поиски лыжники. А вдруг среди них Наташа? Она же прекрасно ходит на лыжах. Да, конечно, его находит Наташа! Она первая склоняется над его неподвижным телом, обдает лицо теплым дыханием, шепчет нежно, едва не плача: «Боря, вставайте, Боря, откройте же глаза!»
И вот в теплой комнате он подробно рассказывает девушке и однополчанам про все, что видел и пережил. Про то, как ударил в него из спаренных пулеметов иностранный бомбардировщик, про бой с ним и про вынужденную посадку. Фрося принесет из столовой усиленный обед: на второе два, нет, три бифштекса. И хлеба, хлеба. Очень много хлеба! Будет хорошо, уютно…
А Мочалов? Утомленный мозг безотказно рисует Спицыну другую картину. В то время как он будет отдыхать в теплой комнате, ветер переменит направление и нанесет снег на голую площадку, завьюжит холодное, неподвижное тело командира… И кто-нибудь из однополчан обязательно перебьет длинный рассказ Бориса о пережитом одним суровым, неотразимым вопросом: «А где майор Мочалов?»
Что ответит тогда Спицын? Будет говорить об этом приказании. Нет, никогда не повернулся бы у лейтенанта язык для такого ответа. И всю жизнь преследовал бы его этот короткий, жестокий вопрос, от которого не было бы ни защиты, ни оправдания: «А где Мочалов?»
Дрожь, но уже не от холода, промчалась по телу Спицына: «Эх, да что же я зря пугаюсь, – подумал Борис с облегчением, – ведь я же еще не сделал этого, не ушел от беспомощного командира, которому ни за что нельзя покидать боевые машины. И не уйду! Никогда не уйду, – весь напрягшись, продолжал рассуждать Борис. – Если спасемся, так вместе. И никому не придется задавать мне этот страшный вопрос: «А где майор Мочалов?»
Мочалов очнулся от забытья и пристально посмотрел на Спицына.
– Уже прочитали? – спросил он отрывисто, кивком головы показывая на записную книжку.
– Я только последние слова, – побледнев, признался лейтенант.
Мочалов нахмурился, брови стремительно слетелись над переносьем, стали одной неразрывной линией.
– Это очень плохо – читать чужие письма, лейтенант, – тихо сказал он.
У молодого летчика задрожали губы.
– Я не хотел, товарищ командир, получилось случайно, – забормотал Спицын, – ветер унес записную книжку, я побежал за ней и вот… прочитал. – В голосе Бориса было столько искренности, что Мочалов сразу отошел. Он медленно привстал, положил ему на плечо руку.
– Я не прав, извини, – сказал он мягче, впервые обращаясь к лейтенанту на «ты». – Может, даже и хорошо, что ты прочитал. Нам теперь легче понять друг друга.
Спицын, склонив голову, напряженно ждал самого главного. Мочалов присел поудобнее, под ногами его неохотно заворошился песок. Майор почему-то медлил. Наконец они упали, эти слова, тяжелые, гулкие.
– Боря, дружок, ты должен уйти, – тихо сказал Сергей Степанович. – Нет уверенности, что нас обнаружат сегодня или завтра, если такая погода… И не нужно зря рисковать двоим. Давай по русскому обычаю поцелуемся напоследок, и ты пойдешь искать дорогу вниз, к людям… Видишь ли, в тот день, когда мы совершили вынужденную, я был другого мнения. Я даже запретил тебе одному искать дорогу вниз. Я твердо верил, что через два-три дня придет помощь. Теперь у меня такой уверенности нет. Ты уходи!
– А вы, товарищ командир? – стараясь избежать его взгляда, обронил лейтенант.
– Останусь у самолетов. Бросать боевые машины мы не имеем права. Кто-то должен остаться.
– Почему не я? – голос лейтенанта осекся.
Мочалов усмехнулся и с наигранной бодростью похлопал его по плечу.
– Потому, что в данном случае командир я, а не вы, юноша, – он снова перешел на «вы».
– Это приказ, товарищ майор? – испуганно спросил молодой летчик.
– Да, – отрывисто подтвердил Мочалов и вдруг медленно осел на землю и откинулся на спину. Борис встревоженно наклонился над его побледневшим лицом. Глаза Мочалова были закрыты, только из пылающего, пересохшего рта вырывалась бессвязная речь. Мочалов бредил. Он звал жену Нину, в чем-то горячо и непоследовательно убеждал капитана Ефимкова, обещал в чем-то исправиться генералу Зернову и часто повторял тихо и хрипло:
– Снега… Побольше снега… В груди горит.
Спицын побоялся дать ему снега. Лейтенант сел на землю, вплотную придвинулся к командиру, стараясь как можно больше прикрыть его от усилившегося ветра своим телом, подставляя пронизывающим порывам заледеневшую спину. Через некоторое время бред прекратился. Мочалов открыл глаза, встревоженно и удивленно посмотрел вокруг.
– Я спал? – едва слышно спросил он. – Почему вы не ушли?
– Вы не спали, вы бредили…
Майор грустно, в знак того, что он все понимает, кивнул головой.
– Уходите, Спицын. Я приказываю!
Карие глаза лейтенанта сузились, сверкнули острыми льдинками.
– Не уйду! – заговорил он резким, обозленным голосом, какого никогда еще не слыхал майор. Верхняя, поросшая рыжеватой щетинкой губа подпрыгнула. – Я любой ваш приказ выполню, так и запомните, товарищ майор, любой, только не этот! Хоть судите потом. Да как я брошу вас такого!
Мочалов сделал попытку приподняться.
– Я приказываю!..
– Такой приказ может выполнить только трус. А я не выполню! – еще злее перебил его лейтенант. – Мне присяга велит другое: грудью защищать командира. Пусть потом хоть судят. Да, да, хоть судят!..
Голос у Спицына задрожал и оборвался. Он отвернулся, поднес к лицу руки, лбом уткнулся в промерзший рукав комбинезона. Что он делал: растирал застывшие щеки или плакал?
Мочалов чувствовал, что встать ему на ноги сейчас будет очень трудно. Холодная каменистая земля казалась удобной, чтобы лежать вот так, бессильно распластавшись. «А если Спицын уйдет и из-за неосторожности угодит в пропасть, а меня спасут?» – подумал он неожиданно.
– Борис, – спросил Мочалов после долгой паузы, – сколько дней человек может прожить без пищи?
– Говорят, если с водой, так до десяти, – угрюмо ответил лейтенант.
– А мы голодаем третий день. Значит, можно держаться целых семь? – Сергей Степанович хотел, чтобы эти слова прозвучали шуткой, но шутки не получилось.
– Значит, семь, – вяло подтвердил Спицын.
– Тогда по рукам, оставайтесь, – слабым голосом согласился майор.
Лейтенант обрадованно обнял Мочалова за плечи.
– Правда, товарищ командир? – воскликнул он повеселевшим голосом. – Вы разрешаете? Спасибо. Не может быть, чтобы нас бросили в беде. Возможно, погода улучшится и нас обнаружат с воздуха. Нас обязательно найдут.
– Да, да. Обязательно найдут, – занятый какими-то своими мыслями, ответил Мочалов.
Но часы проходили, а день по-прежнему оставался хмурым. Чтобы отвлечься от тоскливых дум, летчики рассказывали друг другу о своей жизни, о детстве, о первых инструкторах, у которых учились летному мастерству. Не чувствуя никакого смущения, Спицын поделился думами о Наташе. Он увлекся и пересказал Мочалову все подробности их встреч.
– На лыжах она меня здорово осрамила, – смеялся он. – Но я в ближайшее время подучусь и перещеголяю ее в этом жанре… – Борис осекся, подумав, что неизвестно, когда наступит это ближайшее время.
– Одним словом, успели влюбиться? – подытожил Мочалов.
– Нет, я этого не сказал, – упрямился Борис. – Просто она славная и талантливая.
– Самая лучшая?
– Может, и не самая, но одна из лучших, это факт!
– А стихи вы ей писали?
– Откуда вы знаете? – насторожился Спицын.
Мочалов рассмеялся. Разговор окутал его на время приятной теплотой, отдалив суровую действительность.
– С этого все начинают, – объяснил он серьезно.
– Вот что… – протянул Спицын. – А я решил, кто-нибудь подглядел. Я и в самом деле за стихи брался, только неважные получались.
– Прочитайте!
– Нет, нет.
– Стыдитесь? А чего же тут стыдиться, я тоже писал стихи своей Нине, когда еще не был женат на ней. И даже на занятии писал.








