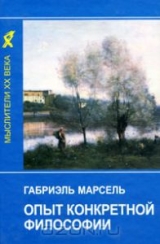
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
89
Прежде всего и главным образом ситуацию. И здесь важно определить возможно более точно природу умственных операций, с помощью которых мы схватываем суть этой ситуации и овладеваем ею. Мне кажется, что сам факт прямого взгляда на ситуацию, вместо того чтобы просто испытывать на себе ее воздействие, воспринимая случайным образом ее некоторые аспекты, предполагает своего рода какую-то внутреннюю мобилизацию, которая затем проявляется в акте выхода навстречу. Но и здесь мы еще слишком удаляем друг от друга эти понятия, слишком их разделяем. С определенной точки зрения, смотреть прямо в лицо – уже смело выходить навстречу.
Эти размышления должны быть продолжены по крайней мере в двух направлениях. Прежде всего, прямо смотреть в лицо – во многих смыслах означает оценивать. И здесь необходима ссылка на ряд ситуаций.
Ситуация по своей сути является запутанным клубком. Самим фактом существования во времени мы призваны жить в этом нераспутанном сплетении. Отсюда некоторая неопределенность. И здесь традиционная проблема познания, заключающаяся в том, насколько реальна или нереальна эта неопределенность, теряет для нас всякий интерес. Для сознания, которое смотрит в лицо и смело идет навстречу, эта неопределенность существует и даже является существенной данностью. Она вынуждает меня подсчитывать, прикидывать вероятности и риски, что уже является первичной формой оценки. Но, с другой стороны, очевидно, что прямо рассматривать ситуацию – значит в то же время определять ее. Без предварительной оценки я не могу выйти навстречу. Ведь смело выходить навстречу означает раскрыться, то есть сориентировать себя в определенном направлении, и только оценка позволяет зафиксировать это направление. Здесь было бы кстати привести пример и подробно рассмотреть его.
Возьмем какое-либо событие, о котором сообщается в газетах; большую часть времени мы подвергаемся воздействию потока новостей, который извергает на нас пресса; с того момента, как мы начинаем их критический разбор, в нас проявляется «личность» – впрочем, этот способ выражения недостаточно передает суть явления, и у меня еще будет случай к этому вернуться. Очень часто нечто вроде невидимой преграды отделяет нас от того, о чем мы читаем. Перед нашим мысленным взором как в кинематографе мелькают образы, мы ведем себя как зрители, нам не приходит даже в голову, что событие, о котором идет речь, тоже может нас коснуться. Тогда нет и речи о том, чтобы смело выходить навстречу, смотреть в лицо ситуации и оценивать ее в самом лично значимом смысле этого слова. Пока мы пассивно принимаем «систему ценностей» читаемой газеты. Это значит, что мы не производим оценки, так как действительно оценивать – это оценивать от своего собственного имени, вовлекая в оценку самих себя. Теперь предположим, что какая-либо деталь рассказа особенно поразила нас; произведенное впечатление было подобно шоку. И с этого момента мы начинаем воспринимать прочитанное не как дело, о котором рассказывает газета и кото
90
рое нас не касается; мы захвачены чувством реальности. И самое замечательное, что тем самым исчезает невидимый барьер, о котором я только что говорил. Мое безразличие было связано с не осознаваемым мною отношением к прочитанному как к нереальному (другими словами, как к тому, во что я не верю). Теперь же все меняется. Прочитанная мною история происходит уже в пределах моей вселенной, и я должен выстроить свое отношение к ней. Выскажемся с большей ясностью: представим себе, например, что какая-то подробность, которая бросилась мне в глаза, вызвала у меня сомнение в точности версии события, данной в газете. Например, я верю в добросовестность человека, которого мне представляют как мошенника. Возможно, что с этого момента, хотя это ни в коей мере не фатально, не неизбежно, встав на сторону этого человека, я уже не могу довольствоваться ревизией своих собственных мнений. Я чувствую потребность поделиться с другими моим открытием; я вовлекаюсь все более и более, тем самым самопроявляюсь; я смело выступаю против бытующего мнения, слепо отражающего мнение прессы, и т. д. Я могу пойти на открытое личное выступление в защиту того, кого я считаю невинно оклеветанным; таким образом, я продвигаюсь вперед в действии. Я беру на себя за это ответственность. И этот момент не менее важен, чем те, о которых мы уже упоминали: суть личности состоит не только в том, чтобы смотреть прямо в лицо, оценивать, смело выходить навстречу, но и брать на себя ответственность за свое действие. И именно здесь наиболее полно осуществляется соединение моих выводов относительно действия и результатов моего анализа личности. Действие, как мы говорили, есть то, что берется на себя, то есть личность должна признать себя в этом действии; действие является действием только потому, что делает возможным этот последующий шаг личности. Следовательно, действие опосредует связь личности с ней самой. В действии раскрывается nexus1, которым личность связана с самой собой, но нужно добавить, что она не находится вне этой связи. Существо, которое не было бы связано с собой, в строгом смысле слова оказалось бы принадлежащим к умалишенным и именно благодаря этому неспособным действовать.
Впрочем, следовало более полно выявить существенную общность тех моментов, которые я вынужден был развести для ясности анализа. Можно было бы показать, в частности, что брать на себя ответственность за что-то – это в каком-то смысле смело идти навстречу, но (это может показаться странным) идти навстречу своему собственному прошлому, то есть тому, что уже позади. Здесь мы обнаруживаем парадокс, метафизическая важность которого, по-моему, огромна. В моей власти только указать на него. Если брать что-то на себя – значит смело идти навстречу своему прошлому, то, с другой стороны, можно сказать, что смело идти навстречу какой-либо ситуации—это в определенном смысле возлагать на себя ответственность за нее, как возлагают ответственность за свое собственное действие, считая ее тоже своей.
' сцепление (лат.).
91
Отсюда открывается ряд перспектив.
Во-первых, мы можем теперь определить истинный смысл различия, существующего между личностью и индивидом. Я сказал бы, что индивид – это безличное on, раздробленное на частицы. Это только статистический элемент. А с другой стороны, статистика может осуществляться только в плане on. Я сказал бы, что индивид безличен, лишен взгляда, лица. Это – экземпляр, пылинка.
Во-вторых, охарактеризовав личность таким образом, как мы это сделали, мы в состоянии предположить то, чем могла бы быть абсолютная личность, хотя мы и не в состоянии установить, является ли она лишь метафизической фикцией или нет. Для абсолютной личности совершенно аннулируется и без того трудно определимое различие между смелым выходом навстречу и возложением на себя ответственности. Такая личность устремлена к полной ответственности за историю. Вокруг нее и в ней on исчезает в совершенной оригинальности взгляда.
И, однако, мне кажется невозможным завершить все сказанное своего рода абсолютным согласием и метафизическим апофеозом. Я должен признаться, что если представленный мною эскиз анализа и кажется мне неукоснительно точным, то, с другой стороны, у меня есть опасение, что мое намерение извлечь из него элементы позитивной философии чрезвычайно рискованно. Что касается сути моей идеи, то я думаю, что, с одной стороны, личность не является и не может являться сущностью, с другой – метафизика, построенная в стороне от сущностей, рискует рассыпаться как карточный домик. Я могу это только констатировать, и здесь для меня сокрыт своего рода скандал и даже разочарование. Но если мы вновь напрямую обратимся к проблеме отношений между индивидом и личностью, то рискуем встретить почти непреодолимые трудности.
В двух словах: личность не может быть ни разновидностью, ни повышенным в своем статусе индивидом. Но что же тогда она есть на самом деле? Каков ее метафизический статус? Не является ли она в конце концов чем-то, что, будучи соотносительно с on, не имеет отличного от on метафизического содержания? И не нужно ли строить конкретную философию на совсем других основаниях?
Прежде всего нужно признать, что имеется определенное искушение установить прямое отношение между личностью и индивидом. Но какое в действительности? Очевидно, что личность – это не вид или разновидность индивида; что нет никакого смысла спрашивать себя в присутствии какого-либо конкретного существа, является ли оно или нет личностью. Мы будем только терять время, настаивая на этом.
Можно ли сказать, что она есть определенное повышенное состояние индивида? Но в этом случае обнаруживаются непреодолимые трудности. Действительно, мы не можем принять ни то, что такое состояние является универсальным, ни то, что оно таковым не является. Вся демократическая философия, если я не ошибаюсь, строится на подобной псевдоидее. Здесь налицо некая догматика, которая может
92
быть объяснена, как это увидел наряду с другими и Шелер, только присутствием в остаточном состоянии некой разложившейся теологии, которой мы следуем, не веря ей или, точнее, думая, что больше не верим. Если мы попытаемся выделить то, что несмотря ни на что остается ценным в тех постулатах, на которых основывается подобная философия, то, как мне представляется, признаем следующие моменты. Мы уже видели, что личность, смело бросая вызов on, стремится его минимизировать, ограничить и, следовательно, устранить его как таковое. Но это было бы в каком-то смысле приложимо к индивиду, если верно то, как я это отмечал, что индивид – это on в состоянии раздробленности. Личность, бросая* вызов индивиду, стремится уподобить его себе, то есть относиться к нему, мыслить его и желать его как личность. Это можно было бы выразить, сказав, что личность есть явление иррадиирующее, благодаря чему только возможна справедливость как воля к справедливости, а не как статический порядок, не как перенос определенного абстрактного эквивалента. Исходя из этой точки зрения, мы можем сказать, что справедливость не менее существенная сторона личности, чем мужество и искренность.
Но как только мы пытаемся выразить все это на метафизическом языке, взяв за основу саму реальность, то наталкиваемся на серьезные трудности, к которым, впрочем, были подготовлены нашим анализом действия. Мы видели, что нельзя рассматривать действие со стороны, в качестве зрителя, не отрицая его. Но этот факт имеет очевидные последствия в том, что касается личности. Исследуем это более подробно. Суть личности, как мы уже говорили, в том, чтобы оценивать, смело идти навстречу, брать на себя ответственность. Но как противостоять искушению гипостазировать личность, спрашивая о природе того принципа, который смело идет навстречу, оценивает, возлагает на себя ответственность? Однако есть риск, что тем самым мы окажемся в лабиринте. Мы будем приведены к созданию некой сущности, наделенной определенным количеством абстрактных характеристик; и вынуждены спросить себя, в каких отношениях может находиться сама эта сущность с индивидом. Это та проблема-тупик, о которой я только что говорил. Как этого избежать? Только действительно признав, что здесь мы имеем две противоположно направленные и дополняющие друг друга перспективы, которые мы рискуем постоянно смешивать.
В этом мы отдадим себе отчет, если поймем, что в реальности мы не в состоянии относиться к личности ни как к данности, ни, может быть, даже как к существующему. По сути дела наша формулировка «сущность личности – смело идти навстречу» раскрывает свою недостаточность, поскольку она, по крайней мере неявно, отделяет личность от действия, в котором она себя проявляет, и любая теория личности подвергается опасности каким-то образом использовать это необоснованное разъединение.
Мы можем спросить, каким образом мыслить ту связь, которая соединяет два последовательно совершенных действия, и не есть ли
93
личность то синтетическое единство, которое делает эту связь возможной? Но мы должны быть здесь осторожны, поскольку вопрос, который намереваются разрешить, взяв личность за унифицирующий принцип, сам оказывается вопросом теоретического порядка; он возникает извне для того, кто превращает свои действия в определения и, следовательно, склонен отрицать их в самой их специфике. Обычно мы склоняемся к тому, чтобы определять личность в качестве субъекта действия как такового. На вопрос «кто действующее лицо акта вообще?» мы отвечаем «личность». Но, с другой стороны, мы знаем, что этот вопрос настолько менее законен или, точнее, настолько более лишен смысла, насколько мы более непосредственным образом присутствуем при действии. Вопрос этот может быть поставлен только тогда, когда происходит некое смещение, в силу которого действие предстает как операция, а где имеет место операция, там мы вправе спросить, кто оператор. Это смещение практически неизбежно: мы находимся в атомизированном мире, мы являемся индивидами, мы со всех сторон открыты для on; можно было бы добавить, что мы – жертвы истории. Таким образом, противоречия, которые я отметил, заложены в самом нашем уделе, и только мучительным и почти невозможным усилием мысли нам удается их преодолеть, впрочем, всегда хрупким образом.
Из всего этого можно вывести два совершенно противоположных заключения метафизического порядка соответственно тому, как мы склонны интерпретировать идею личности. С одной стороны, можно спросить себя, не является ли идея человеческой личности в какой-то мере фикцией. Может быть, в строгом смысле не существует вообще человеческой личности, и мы не в состоянии ее обрести; и только в Боге она становится реальностью. Для нас же, смертных, личность является лишь аспектом, всегда рискующим выродиться в установку, в волнующее предвосхищение, которое может в любой момент деградировать до притворства, стать самопародией в святотатственном маскараде.
Но для философской мысли открывается и совсем другое направление размышлений. Можно было бы утверждать, что, напротив, личность до конца остается связанной с этой анонимной стихией, которой она смело бросает вызов, и что в Боге, в котором эта стихия исчезает, она самоупраздняется именно потому, что достигает высших пределов своего проявления. Кроме того, стоило бы исследовать более подробно два полюса альтернативы и понять, не является ли это противопоставление скорее терминологическим, чем реальным.
Нужно отметить одно обстоятельство, являющееся в высшей степени усложняющим фактором в разрешении проблемы личности. Дело идет о нашей излишней склонности смешивать личность и индивидуальность, с одной стороны, и действие и творчество – с другой.
Я хотел бы просто отметить здесь, что если мы рассматриваем индивидуальность как индивидуальный отпечаток, как знак, как
94
Pragung1, то совсем необязательно, чтобы образовывалась прямая связь между таким образом понятой индивидуальностью и личностью в том ее виде, в каком я не столько ее определил, сколько лишь обрисовал. Безусловно, здесь возможно еще спорить относительно выбора терминов, но мне кажется особенно важным признать, что в действительности существуют два совершенно различных аспекта или плана. Индивидуальность в качестве Pragung – нечто врожденное; она нам дана если и не непосредственно, то по крайней мере через таких таинственно прозрачных посредников, как голос и взгляд. Напротив, принято считать, что в действии, в котором личность находит свое наиболее полное выражение, происходит абстрагирование от любой врожденности, от любого укоренения. Но не следует ли опасаться в данных условиях, что философия, строящаяся на понятии личности, а не индивидуальности, неизбежно приходит к формализму?
Мы еще будем иметь возможность напомнить, что личность, как я уже говорил, смело идет навстречу своему прошлому. Можно попытаться утверждать, что она является индивидуальностью, взявшей на себя ответственность за себя саму, врожденностью, получившей от самой себя свое признание. Но мы не можем быть вполне уверены, что такое решение вопроса вразумительно, и, во всяком случае, было бы невозможно считать это заключение верным в любых условиях, так как мы знаем, что существуют случаи, когда личности удается утвердиться только как бы путем государственного переворота, который подавляет в личности все, что существует в ней врожденного2.
Что касается формалистической опасности, очевидно, что современные защитники личности претендуют, по крайней мере в какой-то степени, восстановить те определения, от которых кантианство полностью отказалось. Но мы вправе спросить себя, не приходят ли они этим самым к бессвязному синкретизму.
В том, что касается творчества, мои заключения не будут сильно отличаться от уже изложенного. Здесь я присоединяюсь к тому, что высказывал в другом месте относительно противоположности тайны и проблемы. Не существует творчества вне определенной тайны, окутывающей творца и источаемой им. И то, что мы зовем творчеством, есть по сути посредничество, в лоне которого, как это увидели романтики3, пассивность и активность объединяются и сливаются воедино. Но не состоит ли величие личности, с этой точки зрения, в некоторой онтологической ущербности? Этим объясняется то, что творец так часто предстает перед нами как такое сущее, которое одновременно и больше и меньше, чем личность.
1935
1 чеканка, тиснение (нем.).
2 Может, следовало бы сказать «предварительного» (примечание 1967 г.). Зи особенно Шеллинг (примечание 1967 г.).
ОТ МНЕНИЯ К ВЕРЕ
Те, кто знакомы с некоторыми из моих произведений, знают, что для меня философская работа, как я ее понимаю, заключается прежде всего в погружении в определенные духовные ситуации, которые сначала необходимо обозначить как можно точнее, с тем чтобы затем рефлексия могла их по-новому раскрыть для нашего внутреннего взгляда. Действуя подобным образом, я хотел бы приступить к проблеме, которую ставит сосуществование верующих и неверующих в нашем обществе.
Нетрудно понять, почему эта проблема встала передо мной и несомненно будет меня волновать в будущем. Я поздно пришел к католической вере. Своими наиболее близкими привязанностями я связан с обществом неверующих; и я лучше, чем многие другие, могу понять их трудности. Отсюда возникает для меня ситуация, не использованная для размышления, ситуация, которая если и служит источником многих трудностей, однако, по крайней мере, стимулирует мысль.
Я начну с одной ремарки, которой я обязан моему другу, преподобному отцу Фессару, великолепным образом развернувшему ее в своем недавно изданном произведении1. Мы ничего не сможем понять в отношении между верующими и неверующими и даже можем дойти до опасной степени фарисейства в его трактовке, если мы прежде всего не постараемся изучить кажущийся совершенно таинственным симбиоз веры и неверия в глубине одной и той же души. Если и есть у верующего какой-либо долг, то это прежде всего отдать себе отчет во всем, что в нем есть от неверующего.
Это наблюдение предстало во всей своей тревожащей ясности моему сознанию в тот момент, когда давление внешних событий становилось почти невыносимым. Я чувствовал приближение катастрофы, где должно было погибнуть все, что мы любили. Я говорил себе: нет причин для того, чтобы не произошло то, что, по нашему мнению, является самым худшим. И тогда я начинал себя спрашивать: что стало с моей верой? Я ее больше не чувствовал; она мне казалась безжизненной и выродившейся в определенное мнение, которое я считал принадлежностью моего мыслительного багажа – и не более. Я спорил с самим собой: не могу же я, однако, позволять себя ослеплять, говорил я себе, существует легковесный оптимизм, к которому я не могу себя
1 «Le dialogue catholique-commuste est-il possible?» Ed. Grasset.
96
принуждать, неисповедимы пути Господни, ничто не может дать мне гарантии, что то, что я люблю, не будет разрушено. В эту эпоху я часто общался с одним католиком, одним из моих друзей. Он был человек чрезвычайно ясного ума, от которого не могла ускользнуть ни одна опасность нашего времени. Его спокойствие начало меня раздражать; я дошел до того, что стал принимать его хладнокровие за безразличие, но потом вдруг подумал: вот где истинная вера, ибо человек этот достиг покоя. Покой и вера неразделимы. К этой взаимосвязи я еще вернусь, так как она кажется мне главным. И я в то же время отдал себе отчет в том, что если я мог распознать в этом человеке веру, то только в той мере, в какой она живет во мне самом. Эта мысль мне принесла большое облегчение. Но воспоминание об этом внутреннем кризисе сохранилось, и особенно запомнилось осознание непроходимой пропасти, разделяющей мнение и веру.
Я хочу обратить внимание читателя на факт, который сам по себе потребует длительного размышления. Мне кажется, что современная мысль склонна смешивать веру и мнение. Действительно, моя вера может показаться мнением тому, кто ее не разделяет в качестве мнения. Благодаря известному феномену ментальной оптики я сам начинаю рассматривать мою веру с точки зрения другого, а следовательно, относиться к ней в свою очередь как к мнению. Таким образом, во мне возникает странная и смущающая меня двойственность: в той мере, в какой я непосредственно живу моей верой, она ни в коем случае не является мнением. Но в той мере, в какой я ее объективирую, я становлюсь на точку зрения того, кто ее представляет себе, но не живет ею. В этом случае она становится по отношению ко мне чем-то внешним – и с этого момента я перестаю сам себя понимать.
Чтобы все это ясно увидеть, важно постараться понять, что же есть, и особенно не есть, мнение.
Само собой разумеется, что большая часть размышлений, следующих далее, имеет прямое отношение к остающемуся непревзойденным платоновскому анализу; я говорю о нем, чтобы больше к этому не возвращаться. Однако их ориентация несколько другая, поскольку их задача – определить мнение в его отношении не к науке, а к верованию и вере. Действительно, именно здесь путаница наиболее возможна.
Оставим в стороне мнения, являющиеся предположениями, касающимися неопределенного факта. Это нам ничего не дает. Но я, впрочем, отметил бы, что первое утверждение, с которого мы начнем, относится именно к этим «предположениям».
Вообще говоря, мнение существует только о том, чего мы не знаем. Но это незнание не различает само себя, не признается себе в качестве незнания. Лучше всего здесь было бы привести пример мнения о какой-либо личности. Можно сразу же обратить внимание, что мы не можем иметь мнения о людях, которых мы знаем очень близко. Это может относиться и к произведениям художников и т. д. Если
4 – 10982
97
меня спросят мое мнение о Моцарте или Вагнере, я не буду знать, что мне ответить: мой опыт здесь слишком богат, мое духовное сосуществование с Моцартом или Вагнером слишком тесно. В любом случае мы найдем подтверждение тому, что мнение формируется только при наличии определенной дистанции, оно по сути своей дальнозорко. Остается узнать, не является ли эта дальнозоркость в определенном отношении близорукостью. Конечно, эти метафоры обманчивы. Но в любом случае, по мере того как наш опыт обогащается, становится более полным, он освобождается от тех элементов мнения, которые первоначально содержал, употребляя их при любом удобном случае.
Посмотрим теперь, какова структура мнения. В действительности она существенным образом подвижна, поскольку, по сути, мнение всегда скользит между двумя пределами – впечатлением и утверждением. Но там, где мнение еще только впечатление, оно не является мнением. Любому из нас, когда его спрашивали о его мнении, приходилось отвечать: «Я имею в отношении этого человека только определенное впечатление, но не мнение», хотя недостаточно критический ум может оказаться неспособным их различить. По-моему, мнение в любом случае отмечено определенным признаком, для которого мне трудно найти обозначение во французском языке, но который соответствует подразумеваемому, по меньшей мере, компоненту фразы: я утверждаю, что... Вообще говоря, это остается невысказанным. Мнение выражается в предложениях, указывающих на ту реальность, корни которой остаются скрытыми. Рефлексия должна выявить эти корни. Она призвана разъяснить это «яутверждаю, что...». Лучшее средство во время дискуссии вывести собеседника из себя состоит в том, чтобы такое разъяснение осуществить, как это делается, когда замечают, что сказанное им принадлежит именно ему. И вообще, когда мы просто говорим о своем мнении: «Это мое мнение, узнай его таким, каким оно есть», то это служит доказательством того, что мы им не слишком дорожим. В этом смысле французский язык удивительно выразителен: tenir а (дорожить чем-то), soutenir (утверждать что-то, поддерживать). Существует солидарность между способом разделять мнение и способом его защиты. Поддерживать какое-либо мнение – это значит защищать его перед кем-то, даже если это ты сам; и с другой стороны, мнение, которое не защищают и которое не может быть защищено, не является действительно мнением. Я убежден, что не существует мнения без ссылки на кого-либо. Между поддерживать и утверждать (pretendre*) существует незаметный переход; впрочем, я не беру последнее слово в его уничижительном смысле, хотя и здесь изменение смысла происходит непрерывным образом.
Мы подошли, таким образом, к следующему положению, которое станет определением: вообще говоря, мнение – это видимость, стремящаяся стать утверждением (un pretendre), и я добавил бы, что происходит это благодаря недостаточной рефлексии; другими словами,
98
первичная видимость не знает себя в качестве видимости, и именно это позволяет ей превратиться в мнение. Примеров тому множество. Возьмем мнения, касающиеся тех или иных народов, о которых, впрочем, каждый из нас знает ничтожно мало. «Англичане – лицемерны, русские – лживы». Вы тут же улавливаете здесь присутствие невысказанного: это я говорю вам, что англичане лицемерны и т. д. Если бы, когда нам случается высказать подобного типа мнение, мы потрудились бы спросить себя, каково его, так сказать, золотовалютное обеспечение, то мы бы ужаснулись. Предположим, что у меня имеются две или три констатации, которые, будучи взяты в отдельности, конечно, требуют подтверждения. Не будем говорить, что я вывел из них определенное заключение. Все произошло, по сути дела, в плане чувства, впечатления. И именно в это мгновение происходит «превращение» впечатления в мнение. Мое мнение составлено, и оно будет укрепляться по мере того как я буду его высказывать, подобно тому как мускулы укрепляются в работе. Но стоило бы спросить, какую жизнь оно приобретет в будущем. Оно стремится питать себя всем тем, что только способно его укрепить. Мы никогда не узнаем с достаточной ясностью, в какой степени можно говорить о ментальной биологии, особенно о биологии мнения. Мнение стремится вести себя как автономный организм, который принимает все, что способно укрепить его, и отталкивает все, что может его ослабить.
Но здесь мы коснулись лишь внешней стороны проблемы, поскольку я начал ее анализ с абстракций, как если бы каждый субъект был изолирован и не имел ничего, кроме собственного опыта. Но, к сожалению, это не так. Каждый из нас погружен в стихию, и мнение может быть понято только по отношению к такому погружению. Если размышление направить на признак мнения, то мы увидим, что он изменил свою природу. В реальности в подавляющем большинстве случаев это совсем не «я, кто утверждает, что...». Когда я, высказав какое-либо мнение, буду прижат к стенке, то в большинстве случаев я предпочту бегство и укроюсь за on («считается») и за слово «все». «Все знают, что англичане лицемерный народ». Здесь мы должны остановиться, поскольку это очень важный момент. Следует опасаться, как бы мнение не стало основой иллюзии. Я отношусь как к своему к тому, что моим не является, но что я, не сознавая того, вобрал в себя. И, однако, реальность оказывается более сложной. Чем в большей степени мнение представляется нам как оценка, тем более мы обнаруживаем в нем неразрывную связь двух стихий, одну из которых я только что определил, а другую, совсем иного порядка, еще нужно определить.
В этот роковой год*, когда общество оказалось столь трагически разобщенным, невозможно себе представить, как можно не быть, до навязчивости, озадаченным многоликой тайной, скрывающейся в слове «мнение». Я недавно выступал перед аудиторией, состоящей исключительно из коммунистов или по крайней мере из людей, стремящихся к коммунизму. Я сумел не произнести ни одного слова, которое столкнуло бы меня с аудиторией напрямую. Но я почувствовал
4'
99
по отношению к слушателям как глубокую симпатию, так и одновременно абсолютную невозможность сойтись с ними во мнениях. Здесь мы имеем действительно нечто вроде нерасторжимого комплекса, который мы должны, однако, проанализировать как можно более тщательно. Я полагаю, что если мы попытаемся понять, что думает приверженец Народного фронта (естественно, искренний), то обнаружим у него острое осознание некоторых несправедливостей вместе с теми фундаментальными оценками, которые оно предполагает. Но это выходит за сферу мнения; эти несправедливости признаны, очевидны, даже если тот, кто их разоблачает, не является лично их жертвой, и, может быть, как раз особенно в этом случае. Любое утверждение типа «неприемлемо, чтобы...», на мой взгляд, трансцендирует сферу мнения. Напротив, как только высказано суждение относительно тех, кто «действительно ответствен» за этот порядок вещей, все замечания, которые я высказал, с полной очевидностью вступают в силу. Действительно, что дает мне основание утверждать, что эта личность или такая-то организация ответственны за это? Здесь я довольствуюсь тем, что мне подсказывают. Речь идет о переходе от «я утверждаю, что» к «все знают», означающему здесь «моя газета утверждает», причем для меня остается невозможным понять корни такого утверждения. Можно вообще сказать, что для обывателя «моя газета» есть нечто такое, что нельзя трансцендировать, подобно тому как для идеалиста невозможно трансцендировать «мое сознание». Мы не преувеличим, сказав, что с определенной точки зрения «мое сознание» – это «моя газета». И все же это было бы в какой-то степени незаконным упрощением – прежде всего потому, что мою газету выбрал я. Можно было бы многое сказать относительно значения и важности этого выбора, но необходимо, чтобы «моя газета» находилась в согласии с некоторым глухо звучащим запросом, который находит в ней свое удовлетворение и в силу этого одобряет ее утверждения. И подобный запрос – наиболее существенное, не подлежащее упрощению в моем способе оценки. Но мы должны остерегаться недолжного упрощения. Мы здесь имеем не один запрос или требование, а целый их пучок. Только строгое исследование сознания может привести нас к ясности в этом отношении. Действительно, мы должны исходить из самих себя, чтобы выявить и различить то, что может иметь значение для нас лично, и эмоциональное решение, принятое в пользу одних людей и против других. И здесь мы снова оказываемся в области изменчивого. На одном полюсе диапазона изменений мнение будет выражением желания или неприятия, или же комплексом, где они неразрывно слиты. На другом – мнение, напротив, будет своего рода самодостаточным идеальным требованием без учета интересов того эмпирического субъекта, который его высказывает. Важно, однако, то, что слишком часто в этом случае вмешивается лицемерие, позволяющее мне на языке идеального и безличного требования выразить то, что на самом деле является не чем иным, как эгоистическим желанием, не осмеливающимся обнаружить себя при полном свете. Таким образом, нужно отдать себе








