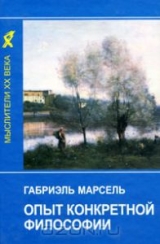
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Я знаю по опыту, что подобная позиция неблагодарна и противоречит склонностям человеческой природы. Более того, для католика более, чем для кого-либо другого, по-видимому, непреодолимо искушение систематизировать свои убеждения в стройное и по видимости непротиворечивое целое. И объясняется это двумя причинами. С од
145
ной стороны, это способ придать основательность самим по себе слабым позициям. С другой – потребность систематизации отвечает стремлению противопоставить противнику единство взглядов, которое, как считают, способно его обескуражить. И естественно поэтому, что конформизм во всех сферах представляется как простое и чистое продолжение ортодоксии. Но это лишь простая оптическая иллюзия, последствия которой могут быть пагубными. Возникает контаминация, в силу которой сама ортодоксия рассматривается как религиозный конформизм, становясь объектом всевозможных нападок, обрушивающихся на подчинение лозунгу вообще, каким бы он ни был. Легко показать, что это правомерно для всех сфер, в том числе и для науки. Когда говорят, что католик именно как католик должен выступать против закона эволюции или концепций Эйнштейна, то забывают при этом об абсолютной несоизмеримости между сферой трансцендентного, к которой он имеет отношение в качестве верующего, и той самостоятельной, хотя и ограниченной сферой, в пределах которой эволюционирует позитивное знание. Нет ничего ошибочнее, чем идея непрерывности, по праву и по факту, между инвариантами Веры и какой-либо по сути относительной и тем самым доступной пересмотру концепцией, воплощающей в данный момент позитивное знание. И, я добавлю, было бы крайне неосторожным пытаться использовать в апологетических целях открытия физики и биологии, неправомерно экстраполируя их результаты и рассматривая их в отрыве от их контекста.
Но не создается ли этим самым разрыв между миром Веры, с одной стороны, и мыслью и даже жизнью – с другой? Именно здесь я считаю необходимым развеять все двусмысленности.
Мы слышали как неверующие не раз заявляли нам не без презрения: «Вы, христиане, исходите из уже готовой истины, избегая нетореных троп. Это значит, что в игре знания и жизни вы пользуетесь краплеными картами». Это обвинение было бы мотивировано только в том случае, если обосновано утверждение, что ортодоксальность неизбежно уступает место конформизму. А это-то я как раз и оспариваю без всякого колебания. Таким образом, здесь требуется определенная дисконтинуальность (прерывистость), для того чтобы мы могли проявить свободу, делающую нас людьми. Кроме того, мы должны прояснить природу этой дисконтинуальности.
Всем известно глубокое различение, которое Бергсон в своей книге «Два источника морали и религии» провел между моралью закрытой и моралью открытой. Закрытая мораль есть мораль существа, составляющего одно целое с тем обществом, которому оно принадлежит. И то и другое объединяются для решения задачи индивидуальной и социальной охранительности. Такая мораль считается поэтому неизменной. Открытая же мораль есть импульс, требование движения. Мораль Евангелия есть по сути своей мораль открытой души. «Поступок, посредством которого открывается душа, имеет своим результатом расширение и возвышение к чистой духовности морали, замкнутой и
146
материализованной в формулы»*. Открытая мораль выражается в обращениях к нашему сознанию со стороны лучших представителей человечества. Я считаю, что философия Бергсона должна здесь быть продолжена за рамки этики: открытой мыслью по преимуществу является не только подлинно христианская мысль, можно сказать, что она отрицает саму себя в той мере, в какой закрывает себя, но можно считать, что ортодоксия, понимаемая в своем истинном смысле, определяет условия, укорененные в сверхъестественном и позволяющие раскрыть для знания и деятельности человека самые безграничные возможности.
Если это обстоит таким образом, то все, что я говорил только что о дисконтинуальности между миром веры и миром опыта, нуждается в дополнении или, точнее, в уравновешивании. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы каким бы то ни было образом выделить из содержания откровения следствия, столь же достоверные, как и оно, и интересные, например, для политики или науки, взятые в их мирских исторических формах. Но невозможно отрицать, что живущий в свете Христа и его обета тем самым занимает позицию, способствующую лучшему пониманию условий истины и справедливого действия, не абстрактно и теоретически, a hie et nunc. Но это справедливо лишь постольку, поскольку его верность не вырождается в самодовольство и снисходительность к себе, свойственные фарисею, тому фарисею, черты которого каждый из нас, присмотревшись, может обнаружить в глубине себя самого.
Идея, что открытая мысль обязана перед самой собой пребывать в неопределенности относительно последних инстанций человеческой судьбы, может перевернуть все у неверующего или еретика, по крайней мере у того, кто гордится своей ересью. Нерешительность в главном оказывается признаком и привилегией просвещенного ума. Иногда идут еще дальше, допуская более или менее явно, что лишь отрицание отвечает глубочайшим чаяниям свободного человека и что утверждение есть рабство. Эти постулаты, по меньшей мере несостоятельные в свете выявляющего их анализа, неявно присущи тому, что принято называть свободомыслием. Необходимы кропотливые анализы, чтобы показать, как они смогли я не скажу навязать себя ясному сознанию, но изнутри и как бы украдкой пропитать саму ментальную ткань у многих наших современников. Однако очевидно, что, если ортодоксия мыслится и утверждается без извращения ее истинной природы, она создает такую духовную атмосферу, благодаря которой утверждение может расцвести самым свободным образом. «Если мы хотим реформ, – говорит Честертон, – нам надо примкнуть к ортодоксии, так как те, кто начинают с отрицания Церкви во имя свободы и человечности, кончают тем, что выкидывают за борт и то и другое ради продолжения борьбы, целью которой они считались». События последнего времени бросают свет на эту связь, соединяющую подлинную ортодоксию с сохранением того, что я охотно назвал бы позитивным началом в человеке, против которого яростно ополчаются новые
147
хозяева нашей разделенной Европы. И нужно добавить, что если в сегодняшней Германии часть протестантов героически, вызывая восхищение, выступает против официальной религии, зараженной неоязычеством, то происходит это в той мере, в какой она остается верной Слову Христа, то есть в той мере, в какой она, несмотря ни на что, остается своими живыми корнями связанной с той ортодоксией, которую она, казалось, отвергает.
В заключение я хотел бы подчеркнуть тот момент, что, быть может, в межконфессиональных отношениях следовало бы особенно тщательно остерегаться того скрытого фарисейства, опасности которого мы постоянно подвергаемся, интерпретируя ортодоксию не как верность, а как высшую форму конформизма.
Я не знаю более бессмысленных и, в конце концов, более возмущающих наш дух споров, чем те, в которых периодически сталкиваются между собой католики и протестанты, будучи, впрочем, одинаково добросовестными и полными желания достичь взаимопонимания, и в которых они стараются выяснить моменты своего согласия и несогласия. Как только католик объявляет протестанту, что он, католик, а вернее Церковь, обладает монополией на глобальную истину, только искаженные заблуждением обрывки которой даны протестанту, как только он начинает радикальным образом отрицать за своим оппонентом способность находиться на том же уровне, что и он сам, отвергая тем самым возможность спора, так сразу же вопреки самым благоприятным предзнаменованиям начавшаяся встреча приносит горькое и разочаровывающее впечатление непоправимого недоразумения. Совершенно избежать этого, очевидно, нельзя, по крайней мере по факту, если не по праву. Однако в то же время подобная невозможность взаимного понимания христиан настолько обескураживает и озадачивает, если иметь в виду свет евангельского учения, что мы обязаны противиться ей всеми нашими силами, чтобы вырвать из нас это зло во всех его разновидностях. Исследуя суть различия между ортодоксией и конформизмом, которое я пытался установить, мы можем, как мне кажется, найти тот путь, по которому следует здесь идти.
В замечательной во многих отношениях книге преподобного отца Конгара, посвященной экуменизму, мы нашли смелое и исполненное героического евангелизма высказывание: «Поскольку мы предпринимаем что-то против кого-то, даже против заблуждения, то мы ведем себя не совсем как католики». Конечно, это утверждение может вызвать возражения. Но мне кажется неоспоримым, что католик может – и по правде говоря, должен – выступать самым категорическим образом против претензий. Он может осуждать ересь только в той степени, в которой она претендует быть истиной. Но в таком случае – ив этом вся проблема – против подобной претензии следует выдвигать нечто иное, чем обратную претензию или утверждение, которое другим может отождествляться с противоположной претензией. И мне кажется, что нечто требуемое здесь есть Милосердие
148
и только оно одно, которое выше и сильнее всего. И как раз в этом заключается основополагающий урок Нового Завета. Если это так, то ортодоксия может быть признана этим другим, этим чужим, к которому мы в тревоге обращаемся только в свете полного Милосердия, которое она должна распространять, – в противном случае она не есть Абсолютная Верность, являющаяся ее сутью. И поэтому нельзя ли сказать, что всякое ущемление Милосердия со стороны тех, кто взял на себя трудную задачу действовать от имени Церкви, есть посягательство на саму ортодоксию в том совершенно четком смысле, что такое ущемление ведет к тому, что в глазах другого ортодоксия предстает как претензия, вместо того чтобы быть вечным свидетельством, и что постольку оно предает и ее и Христа, о котором она свидетельствует? Для меня тем самым оказывается отвергнутым, во имя самого католицизма, тот род вздыхающего и презрительного снисхождения, которое многие из нас обнаруживают перед своими отделенными братьями и которое выражается в «мы, католики», противопоставляемом «вы, бедные слепцы». Диалектика, которую я пытался обнаружить в отношении «благонамеренных», оказывается правомерной и здесь. Избранничество, в христианском смысле слова, измеряется прежде всего дополнительной ответственностью, которую берет на себя избранник. Это правомерно и в отношении католика. Если верно, что ему дано думать о еретике иначе, чем дано еретику думать о католике, то только при условии освобождения его от всего, что сколько-нибудь могло бы напоминать чувство превосходства или привилегии, и при условии обострения в нем самом сознания своей личной ущербности. Это возможно лишь в том случае, если он берет на себя груз его заблуждений, не обвиняя его в них и по-фарисейски не радуясь тому, что он сам чудесным образом свободен от них. Как можно, в самом деле, не напомнить нам о том, что наше христианское призвание делает нас свидетелями? Мы свидетельствуем в пользу ортодоксии, то есть в пользу Христа, только тем смирением, которое должно быть не установкой, а признанием реальной и неизбежной ситуации. Не следует забывать также, что если не в нашей власти совсем отказываться от свидетельствования, то мы в состоянии, к сожалению, свидетельствовать против нашего Господа и увеличить тем самым число тех, кто каждый день вновь Его распинает. Ошибка любого конформизма в том, чтобы считать, что между этими двумя свидетельствами, между этим «Да» и этим «Нет», в которых кристаллизуется вся судьба духа и вне которых есть место лишь для хаоса мнений, может быть среднее звено. Но если этот хаос, этот туман не рассеивается с восходом солнца, то он исчезает во мраке ночи.
1939
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭКУМЕНИЗМА
Я никоим образом не располагаю необходимыми качествами для оценки с точки зрения истории или теологии труда преподобного отца Конгара «Разобщенные христиане: Принципы католического экуменизма» (изд. du Cerf, 1937), посвященного проблеме экуменизма. Поэтому на следующих страницах буду воздерживаться от высказываний по этим дисциплинам, являющимся для меня чужими, оставляя возможность более компетентным лицам писать соответствующие комментарии или проявлять сдержанность. Отметив наиболее важное у данного автора, я бы хотел сделать здесь несколько замечаний философского порядка, способных облегчить понимание его позиции.
Отец Конгар начинает свою работу со сжатого перечня основных расхождений, возникших в лоне христианства, начиная с его возникновения. Он весомо замечает, что длительность наших расколов стала как бы «тяжким камнем, преграждающим путь в усыпальницу, в которой первыми разногласиями погребено единство». Что касается меня, то я ему глубоко благодарен за то, что он настаивает на двух существенных моментах.
Во-первых, вопреки тенденциозным или поверхностным толкованиям он напомнил, что «Реформация, в данных исторических условиях направленная против части этих условий и при содействии остальных, была существенным образом истинно религиозным движением, попыткой обновить религиозную жизнь благодаря возвращению к истокам». В начале этого движения речь шла о том, «чтобы по ту сторону понятий обрести нерушимую тайну, по ту сторону литературы наставлений – живое и текущее прямо из источника Евангелие, по ту сторону ханжеской практики, нередко сопровождаемой обманом и кривляньем (индульгенции), – простую, чистую, мужественную религию, а по ту сторону сословного духовенства со всей его иерархической лестницей остаться один на один с Богом в тайнике сознания». Вообще говоря, можно сказать, что у истоков больших расколов – тех, что наделены положительной духовной значимостью, – стоит обычно подлинное духовное чувство, а в том, что в нем имеется положительного и чистого, – подлинно католическое чувство. И если хотят беспристрастно оценить реформационные церкви, не прибегая к фальсифицирующей односторонности, то следует все это в полной мере признать.
Во-вторых, отец Конгар очень мужественно заметил, что если ересь для ортодоксальной теологии представляет собой возможность для прогресса в том смысле, что она вынуждает ее подчеркнуть и даже значительно углубить истину, то эта же самая ересь у тех, кто ее критикует,
150
рискует вызвать чересчур уж однобокий ход мысли. «Каждый раз, – говорит он, – как случается ошибка по тому или иному вопросу, организм Церкви напрягается, силы поляризуются, с тем чтобы оказать сопротивление злу. Перед лицом ложного утверждения, являющегося... преувеличением истины, укрепляется, уточняется верное утверждение: в большинстве случаев при этом догма не берется как целое, довольствуются лишь ее общим контуром, более точным выражением неузнанной или отрицаемой в заблуждении истины, так что сама ошибка, будучи всегда частичной, ведет к риску сделать частичной и саму противоположную ей догматическую истину». И вот один пример среди многих: «Разве консолидация сакраментальных реальностей, – говорит отец Конгар, – вокруг семи таинств, благоприятствующая предельному уточнению теолого-канонического порядка, не влечет к забвению священного характера всей Церкви, всей христианской жизни, угрожая символическому и литургическому ее измерению?» Речь здесь идет не о логическом следствии, но о психологическом эффекте, связанном, как это мне представляется, с самими условиями внимания, чрезмерно направляемого к угрожаемым зонам, – наподобие того, как концентрируется армия на особенно угрожаемом направлении.
Я охотно продолжу это важное замечание, сказав, что отделываются пустыми словами, когда считают, что ересь оставляет нетронутым тот организм, от которого она отделяется (несомненно, именно биомедицинские метафоры здесь наименее обманчивы). Это отделение провоцирует со стороны организма защитную реакцию, сравнимую с лихорадкой, которая, пусть и необходимая, и целительная сама по себе, является состоянием противоположным здоровью в собственном смысле слова. Я пойду еще дальше, не зная, последовал бы отец Конгар за мной по этому пути. Я бы не удовлетворился, сказав, что ересь—это повод для теолога признать необходимость сосредоточения внимания на истине веры, до сих пор недостаточно выявленной. Мне представляется, что ересь должна подвигнуть нас на размышление, в чем-то сходное с раскаянием. Действительно, если наше поведение в качестве христиан всегда было бы на высоте исповедуемого нами учения, то ересь как заблуждение и не возникала бы. Следовательно, когда мы ополчаемся против нее, мы не должны обвинять исключительно еретика и проецировать ошибку всецело на его греховную гордость, но мы должны также, по крайней мере частично, признать и свое участие в той ошибке, в которую он впал. С философской точки зрения (я достаточно уже предупредил читателя, что я здесь не выступаю как теолог) мне представляется несомненным, что ересь, даже с точки зрения Церкви, нельзя рассматривать как своего рода внешнее стихийное бедствие, которое требуется лишь констатировать. Ересь присуща Церкви некоторым образом изнутри, хотя в другом, высшем смысле она, Церковь, как Тело Христово, со всей определенностью и от вечности свободна от нее, и идея греха Церкви, как ее понимает Бердяев, должна быть решительно отвергнута с католической точки зрения. Именно здесь мы касаемся того парадокса, который выступает как настоящая тайна и лежит в самом центре нашего анализа.
151
Отец Конгар в нескольких простых высказываниях резюмирует то, что мы знаем о единстве Церкви. Они столь ясны, что я их процитирую: «Церковь – семья Бога, образованная передачей людям жизни Святой Троицы в благодати, вере и милосердии. Она едина так же, как един сам Бог. Приобщение к жизни Святой Троицы свершается во Христе, и только в Нем. Церковь – Тело Христа, она соединена с жизнью Того, кто единственно может возвратиться в лоно Отца, из которого Он вышел. Мы соединены с жизнью Христа в таинствах, в которых выражается и живет наша вера. Крещение и причастие – вот последнее основание, по которому мы образуем едину плоть, являющуюся Телом Христовым».
Впрочем, в соответствии со всем, что мы знаем о нашем уделе, «уделе людей, наделенных плотью, принадлежащих к одному роду, предназначенных самой природой жить человеческой жизнью в обществе, сообщаясь между собой и питая свой дух исключительно при помощи чувственно воспринимаемых вещей», вполне понятно, что «общество Святой Троицы, начинающееся здесь, в этом мире, предуготовляется сродственным самому человечеству образом, то есть с помощью наставляющей, правящей, активной и воинствующей Церкви, с ее формой общения, воплощенной в чувственных реальностях». В частности, к сущности таинств принадлежит быть чувственно воспринимаемыми символическими коллективными жестами, динамически обращенными к небесным реальностям. Напомним здесь показательные слова Гуго Сен-Викторского*: «Usque hodie Christus amicos suos in Scriptura sacra et sacramentis Ecclesiae atque aliis visibilibus virtutum exercitiis quasi quadam corporali praesentia consolatur»'. Земная Церковь, вершительница судьбы Израиля, в соответствии с самой логикой Воплощения является целиком и полностью чувственной и человеческой реальностью и в то же время насквозь божественной, богочеловече-ской, как сам Христос. «Вера, – пишет отец Конгар, – инвестированная в Церковь человеческими средствами и под руководством людей, отложится в ней затем как догма и как суд. Жизнь Христа, сообщенная ей в чувственно воспринимаемых таинствах и посредством человеческого управления, станет в ней таинством и священством».
Отсюда следует, что с католической точки зрения различаются две Церкви: Церковь мистическая, являющаяся вечной, главой которой является единственно лишь Христос и в которой существует одна лишь иерархия, иерархия святости и истины, так что на этом уровне папа римский может быть дальше от Христа, чем невежественная бедная женщина, и Церковь как общественный институт, в которой наличествуют власть и подданные, представляющая единство в социологическом и юридическом смысле слова, то есть Церковь как мирская сущность, части которой отличны друг от друга. Но нужно также понимать, что меж
152
ду ними существует единство, «органическая связь, подобная той, что связывает тело и душу, или, скорее, той, что существует во Христе между божественной и человеческой природами, причем эта связь осуществляется на уровне таинств и посредством их, так что Церковь сама выступает как таинство, где все полно чувственно данной значимости и пронизано внутренним единством благодати». «В равной мере правильным будет сказать: Ubi Christus, ibi Ecclesia1, так как, как только возникает приобщение к Духу Христову, так возникает и церковь. И столь же верно будет сказать: Ubi Petrus ibi Ecclesia2, так как внутренняя соборность жизни осуществлена человеческими средствами, апостольским руководством, которое само имеет в Петре свой видимый критерий единства».
Существенно подчеркнуть, что основные расколы в ходе истории происходили не просто по вопросу о природе Церкви. Но в противовес тому, что могут сказать о том некоторые протестанты, они касались не только внешнего элемента христианства, но, напротив, задевали его существенные стороны, поскольку Церковь в целом есть продолжение Воплощения. И более того, мне бы хотелось знать, не была ли та гетеродоксия, которая вспыхнула на почве экклезиологи-ческой, гетеродоксией сначала на почве понимания Воплощения и самого Христа, хотя, быть может, это и трудно было определить по причине двусмысленностей в нашем языке. Во всяком случае, именно таково чувство, которому аудитория не могла сопротивляться, когда пастор Бёгнер* и г-н Флоровский** встретились с католическими священниками в «Союзе в защиту Истины» (причем отец Конгар находился среди них), чтобы обсудить результаты, полученные в ходе экуменической конференции, происходившей летом 1937 г. в Оксфорде. В ходе этой встречи ясно выявилось, что именно вокруг самой идеи католичества вспыхивают недоразумения.
Отец Конгар в своей книге замечает, что под католичеством надо понимать универсальность истины, искупления, благ и даров духовных, а также универсальность во времени. Динамическая универсальность, которую образует католичество, понимаемое в своем единстве, прямо следует из единства и единственности Церкви как неразрывной связи двух своих ипостасей – Церкви как мистического целого и Церкви как общественного института. Эта универсальность не просто совместима с крайне разнообразной палитрой религиозного опыта и способов приближения к Богу – она их требует. Все эти элементы, которые ею собираются, очищаются, то есть освобождаются от их партикуляристских притязаний, от их претензий на исключительность. Я ограничусь здесь лишь кратким резюме, использовать которое на практике для читателя-католика не представит труда. Кроме того, я хотел бы показать, как может быть поставлена эта проблема для христианина, не являющегося католиком, и косвенным образом для неверующего.
1 Где Христос, там и Церковь (лат.).
153
Христианину-некатолику трудно удержаться от протеста против того, что ему может показаться заносчивой претенциозностью. И действительно, я это остро почувствовал во время той встречи, о которой уже сказал выше. «Что касается универсальности католичества, понимаемого таким образом, – скажет протестант, – то как вы можете столь категорически провозглашать универсальность католичества как характеристику вашей Церкви, если она в исторической конфигурации мира есть не более чем одна Церковь среди ряда других? Как вы не можете понять содержащегося здесь ранящего и почти скандального для нас тона, когда вы декларируете, что вы – хранители Истины в ее целостности, в то время как мы обладаем только ее небольшим кусочком?»
Со своей стороны я замечу, что если речь идет об «имении», или «владении», если глагол «обладать» берется в своем буквальном смысле, то у христианина, не являющегося католиком, это чувство скандала не только объясняется, но и в значительной мере оправдывается. Действительно, обладают только тем, что существует подобно вещи, не являясь при этом истиной в духовном смысле слова, но лишь формулой, рецептом. И почти неизбежно протестант приписывает католику, выражения которого лишены осторожности, претензию на обладание его Церковью истинных формул, суверенных, полноправных рецептов. И вместо того, чтобы желать их, он отваживается, напротив, отвернуться от них с тем чувством, что все они связаны с высокомерием, которое чуждо самому духу Евангелия.
Не стоит впадать в иллюзию относительно «успокаивающего» эффекта, который может дать для некатолика привычное различение между духовной силой такого-то еретика как личности и его учением, которое всецело отвергают (если даже соглашаются с тем, что оно верно в том, что оно утверждает, и ложно в том, что отрицает, хотя утверждение и отрицание здесь на самом деле неотделимы друг от друга). Дело в том, что, как мне представляется, речь здесь идет не столько об учении. Точнее, то, что мыслится и осуждается как еретическое учение со стороны католика, схвачено и переживается изнутри как традиция, как Церковь, причем имеющая мучеников в своем лоне. И это очень важно, хотя обычно, вероятно, недооценивается. И существования этих мучеников, скажу я, рискуя навлечь на себя возмущенные протесты, достаточно для того, чтобы сообщить определенной общине такую реальность, которая неким образом абсолютно превосходит суждения, по праву выдвигаемые в адрес учения, исповедуемого ее членами. Здесь мы сталкиваемся с тем замечанием, которое я выдвинул вслед за отцом Конгаром в начале этих заметок относительно невозможности для католика освободить себя от ответственности за ересь, взятую не только в ее истоках, но и в ее развитии.
В этом кроется одно из тех оснований, по которым любой спор в данной области, как мне кажется, должен рассматриваться не только как совершенно бесплодный, но и как внешний по отношению к тому, что здесь ищется, ускользая от слов. На самом деле было бы слишком про
154
сто, если бы можно было принять, что некто в силу своей принадлежности к римской церкви обладает Истиной, понимаемой в ее органической тотальности (если даже он ее улавливает лишь в меру своих ограниченных способностей), в то время как другой, еретик, горделиво и высокомерно держится за ее кусочки, которые его научили принимать в их изоляции от целого и которые он абсолютизирует. Не отрицая за представленной таким образом оппозицией некоторого значения, мы считаем, однако, что она не более чем ложная схема того, что следует рассматривать как скрытую в глубинах христианского сознания драму. Я бы сказал, что если католик в состоянии думать об еретике совсем иначе, чем еретик в состоянии думать о нем (и в некотором смысле это так, это должно быть так), то это возможно при условии его освобождения от всего того, что похоже на чувство превосходства, на чувство владения наследством, ему принадлежащим, при условии, напротив, обострения сознания своего личного несовершенства и своей ответственности перед этим еретиком, которого нужно обратить в истинную веру. Это возможно при условии принятия на себя некоторым образом груза его ошибок, не вменяя их ему в вину и не впадая по-фарисейски в самодовольство чудесной свободы от них. Я опасаюсь, что этот грех фарисейства – я говорю здесь не как теолог, но лишь как философ – искушает нас каждый раз, когда мы говорим перед лицом этих впавших в слепоту неудачников «мы, католики». В силу неумолимой диалектики нас самих при этом поражает та слепота, которую мы претендуем находить в других. Я ясно вижу, в каком смешении понятий меня здесь могут обвинить: мне укажут, что если в качестве христианина я должен практиковать по отношению к себе смирение, то дело обстоит иначе в том случае, когда речь идет о трансцендентной Истине, по отношению к которой я не более чем малый, незначительный свидетель. Совершенно верно. Но я прежде всего обращаю внимание на слово «свидетель», кажущееся мне существенным. Вся проблема как раз в том, при каких условиях я могу эффективно свидетельствовать в пользу этой Истины.
Во время встречи, на которую я уже много раз ссылался, я не мог не констатировать, что, несмотря на уместность аргументов, выдвигаемых католиками, эффект, производимый ими на их собеседников, был очевидным образом противоположным тому, который они намеревались получить. Я хочу сказать, что они лишь укрепляли у своих отколовшихся собратьев ранящее их чувство непреклонности церкви и ее непомерных претензий. Но, с другой стороны, как можно упрекнуть их в желании устранить двусмысленности, раз они являются докторами богословия и обязаны ставить точки над «i»?
Не сталкиваемся ли мы здесь с настоящей антиномией? И какой положительный вывод следует из этого противоречия? На мой взгляд, по крайней мере тот, что любой спор, вероятно, является вредоносным, так как не во власти того, кто исповедует какое-то учение, не обнаружить перед лицом другого некоторым образом своего чванства по поводу обладания им как своей привилегией. Я хочу сказать, что фактическое из
155
ложение истины не есть просто ее идеальное представление как бы посредством ее самой. Нет, это конкретный акт, совершаемый определенным лицом. Некоторым образом это своего рода агрессия, рискующая скомпрометировать саму эту истину, превращая ее в орудие давления. Но это особенно серьезно в том случае, где то, что подвергается риску, есть не просто истина, но Истина, то есть Христос.
Что касается меня, то я бы посчитал необходимым заключить отсюда, что свидетельство, располагающееся в плоскости дискурса и полемики, всегда в некоторой степени является нечистым и как бы по сути своей неадекватным тому делу, которое оно стремится привести к победе.
Эти замечания, могущие показаться разочаровывающими, представляются мне необходимыми для того, кто стремится глубоко осознать проблему, которую сегодня выдвигает экуменическое движение.
Отец Конгар ясно обозначил его этапы после Стокгольмской конференции 1925 г. и тот прогресс, которого удалось достичь, если сравнить эту конференцию с той, что состоялась летом 1937 г. в Оксфорде. Если конференция в Стокгольме была еще пронизана оптимистическим и эволюционистским пафосом, характерным для послевоенного либерализма как следствия кризиса, распространившегося на все стороны жизни, то теперь стало ясно, что «Церковь должна не столько улучшить человека, сколько сохранить веру, чего и хотел от нее Бог». Тогда с еще большей ясностью, чем в 1925 г., было признано, что «единство нельзя ни ввести декретом, ни сотворить человеческими усилиями, но что оно явится в свое время как творение Бога». Подлинный экуменизм начинается тогда, когда принимают (и это относится не только к индивидам, но и к церковным объединениям), что другие также правы, хотя и говорят не то, что говорим мы, что они также обладают истиной, святостью, божьими дарами, хотя и не принадлежат к нашей ветви христианства. «Экуменизм наличествует тогда, – говорит один активный участник экуменического движения, – когда верят, что другой является христианином не вопреки своей конфессии, но благодаря ей». Рассматривая различные способы обоснования этой установки, отец Конгар показывает, что речь идет не о том, чтобы обосновать ее на отказе рассматривать какую-либо Церковь как настоящую, дискриминируя ее. Но речь идет о том, чтобы призвать эту Церковь – поверх конфессиональной и экклезиоло-гической истины, являющейся, впрочем, неоспоримой, – к свободной активности, открытой для новых начинаний Духа Святого, несводимых к принятым рамкам и к логике теологов. Некоторые православные, например г-н Бердяев, в силу смелости его личных взглядов не могущий рассматриваться полномочным представителем той конфессии, к которой он себя относит*, оценят необходимость различать их Церковь, которая, будучи в их глазах более истинной, чем другие, несет тем не менее, согласно их собственному признанию, характеристики человеческой ограниченности, и Церковь экуменическую. В последней должна наличествовать полнота богопознания, и она призвана осуществлять себя как в своих рамках, так и за их пределами, по ту сторону своих суще








