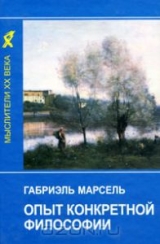
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Постоянство в его чистом виде, в плане отношений между людьми, рискует уступить место как бы борьбе, первоначально внутренней, а потом и внешней, которая может превратиться в ненависть и взаимное отвращение. Но, с другой стороны, как я могу требовать от себя в отношении другого или от Другого в отношении себя действительной верности, предполагающей, как я уже сказал, чистую спонтанность, к которой, по определению, я не могу себя принудить?
Теперь время отметить широту значимости предыдущих замечаний. Они приложимы не только к дружбе. Однако здесь следовало бы обратить внимание на некоторые нюансы. Чем более мы замыкаемся в той области, где господствует идеология, тем более осуществимым может казаться сведение верности к постоянству.
Представим, что я вступаю в какую-либо партию. Главное, что потребуют от меня партия или ее комитет, – это постоянное и неукоснительное подчинение определенной дисциплине. Может так случиться, что я подчиняюсь ей только против моей воли, что во мне что-то упорно протестует против подчинения, которого требует от меня моя партия, но это непосредственно не интересует комитет и других членов партии. Однако не интересует до тех пор, пока это тайное неповиновение не способно привести к предательству или последующему отступничеству. Только в предвидении этих возможных последствий мне могут посоветовать – если догадаются о моем умонастроении – выйти из партии.
Это очень важно. Принадлежность к какой-либо партии может действительно предполагать сохраняющийся разрыв между словами и действиями человека, с одной стороны, и его мыслями и истинными чувствами – с другой, или же может привести, и это также нехорошо, к вербовке самой души, поскольку дисциплина становится второй натурой человека и уничтожает всякую внутреннюю спонтанность. Чем лучше организована партия, тем сильнее она способствует распространению или лицемерия, или духовного порабощения. Современное состояние мира дает нам слишком многочисленные и слишком зловещие иллюстрации этой дилеммы, и потому нет необходимости на этом останавливаться.
Вместе с тем необходимо показать, каким образом эта проблема ставится в отношении, быть может, наиболее важных и наиболее тесных из всех личных связей – я имею в виду супружескую связь. Мы все знаем союзы, где один из супругов верен другому только из чувства долга, где верность сведена к постоянству. Предположим, что другой это замечает, и подобное открытие может стать для него му
123
чительной проблемой. Может ли он, имеет ли он право рассуждать, как тот человек, о котором мы только что говорили, и освободить своего партнера? Здесь невозможно руководствоваться утверждениями общего плана. Но нельзя полностью уподоблять эти два случая, поскольку здесь ясно проступают социальные причины, особенно если речь идет о семье, имеющей детей, поскольку в этом случае необходимо сохранить, даже ценой какой-то доли лицемерия, определенное семейное единение, которое, не будучи абсолютно внутренним, не является также и простой внешней формой. Но особенно – и здесь мы выходим за рамки социального – нужно отметить то, что решающую роль здесь играют те основания, на которых был заключен этот брак и как он воспринимался обеими сторонами в момент заключения, и здесь мы подходим к проблеме освящения, к которой я должен буду вернуться, заключая эти размышления. Уместно было бы спросить себя, не может ли в данном случае постоянство быть интерпретировано как более глубокая и укорененная в Боге верность, даже если какого-либо чувства больше нет.
Но это может быть выяснено только в результате более глубокого анализа, касающегося самих условий клятвы. Что значит поклясться в верности? И каким образом возможна подобная клятва?
Мы не можем поставить перед собой этот вопрос, не обнаружив тотчас подлинной антиномии. Действительно, эта клятва дана в определенном, существующем в данный момент, внутреннем расположении духа. Но могу ли я утверждать, что это настроение, которое полностью владеет мной в момент принятия на себя обязательства, не изменится со временем? Без сомнения, нами могут овладевать определенные состояния экзальтации, которые сопровождаются сознанием их неизменности. Но не говорят ли нам опыт и размышление, что мы должны поставить под вопрос ценность этого сознания и этого утверждения? Единственно, что я имею право заявить, – это то, что мне кажется, будто мое чувство и мое расположение духа не могут измениться. Мне кажется... Достаточно лишь сказать мне кажется, и я уже должен прибавить как бы sottovoce1: но я не могу быть в этом уверен. С этого момента я уже не могу провозгласить: «Я клянусь, что мое внутреннее расположение духа не может измениться». Эта неизменность больше не является объектом моей клятвы. Впрочем, отметим, что существо, которому я клянусь в верности, тоже может со своей стороны измениться. Оно может стать таким, что я буду вправе сказать: «Не этому человеку я клялся в верности, он изменился до такой степени, что моя клятва потеряла силу».
Но в таком случае, если мое внутреннее состояние может измениться, потому что изменюсь я или мой друг, могу ли я начать действовать так, как будто оно вообще не способно изменяться? Здесь нужно быть очень осторожным в отношении смысла слов «могу ли я». Они весьма двусмысленны. Рассмотрим первый смысл.
124
Могу ли я утверждать, что, если мое внутреннее состояние изменилось, я тем не менее буду способен действовать так, как если бы оно оставалось неизменным? Уточним: между тем, что я чувствую, и тем, что я могу, существует определенная связь, которую я назвал бы объективной, хотя природу ее точно определить я не в состоянии. Законно ли утверждение, что, чувствуя по-другому, я тем не менее мог бы действовать так, как если бы чувствовал по-прежнему? Иначе говоря, утверждая это, не выхожу ли я за границы того, что я имею право утверждать?
Но существует и второй, отличный от первого смысл, может быть, более глубокий, более важный, по крайней мере с точки зрения духовной перспективы: вправе ли я желать, чтобы мое поведение ввиду этой возможности оставалось таким же, как если бы мои чувства не изменились?
Существует, и в этом мы сейчас убедимся, большая разница между этой и предшествующей точкой зрения. Предположим, что для меня еще возможно действовать в отношении X в будущем так, как если бы я его еще любил, даже тогда, когда я его больше не люблю. Имею ли я на это право? Другими словами, могу ли я согласиться пообещать что-то, что будет ложью? И не отразится ли через предвосхищение эта, будущая, ложь на настоящем, так как я веду речь таким образом, как если бы я должен был оставаться в том внутреннем состоянии, которое, как я знаю или должен знать, не может существовать вечно. Поэтому не должен ли я ограничить рядом условий мое обязательство, внеся в него уточнения, которые сильно ограничивают его значимость?
Не будем сразу брать самые серьезные примеры. Для начала я вновь обращусь к тому примеру, который я предлагал в книге «Быть и иметь» и который напрямую связан со всей первой частью моего изложения. Я нахожусь около больного, я пришел его навестить, быть может из простой вежливости, но я начинаю понимать, что мой визит доставляет ему огромное удовольствие, которое я не предвидел. С другой стороны, я лучше теперь понимаю его одиночество и его страдание. Уступая непреодолимому импульсу, я обещаю приходить навещать его регулярно. Очевидно, что, когда я даю ему это обещание, моя жизнь ни в коей мере не задерживается на том факте, что расположение духа, в котором я сейчас нахожусь, может измениться. Предположим, что эта мысль на минуту приходит все же мне в голову: я отстраняю ее, я чувствую, что я должен отстранить ее и что обращать на нее внимание было бы низостью.
Но с того момента, как я принял на себя это обязательство, ситуация меняется. Другой заметил мое обещание и рассчитывает на меня. И я это знаю... Может возникнуть какое-либо препятствие. Оставим в стороне чрезвычайные обстоятельства, которые не могут иметь решающего значения. Предположим, что я приглашен на интересующий меня спектакль, который начнется как раз в тот момент, когда меня ждет больной. Но я обещал, и я должен сдержать обещание. И в этой борьбе мне помогает мысль о том разочаровании, которое по
125
стигнет больного, если я не сдержу слово, и также о том, что я не смогу ему дать действительного объяснения, поскольку оно принесет ему огорчение. Тем не менее я вновь против своей воли у изголовья моего больного. И в то же время я думаю, что если бы он знал, с каким плохим настроением и с каким нежеланием я выполняю свои обязательства, то мой визит не доставил бы ему никакого удовольствия, а был бы для него даже тягостен. Однако нужно играть комедию. Отсюда тот парадокс, к которому мы уже подходили, состоящий в том, что верность – или, по крайней мере, видимость верности – в глазах другого и ложь в моих глазах здесь неотделимы друг от друга. И действительно, здесь обнаруживается нечто, что не зависит от меня. Не в моих силах не предпочитать спектакль, на который я приглашен, визиту, ставшему тяжкой обязанностью. Я размышляю над этой ситуацией, в которую я сам себя вовлек, непредусмотрительно взяв на себя обязательство. Я вынужден признать, что я был не прав, взяв на себя такое обязательство, относительно которого у меня нет уверенности, смогу ли я его сдержать. Я вынужден спросить у себя, не должен ли я, совершив эту первоначальную ошибку, найти в себе достаточно мужества отказаться от изображения чувств, которых я больше не испытываю, и не побояться показать себя таким, каков я есть.
Другими словами, не будет ли серьезной ошибкой распространять кредит на область чувств и действий? Не будет ли более честным жить на наличные, подражая тем хорошо нам всем известным вечно хворающим людям, которые никогда прямо не принимают приглашений и говорят: я ничего не могу обещать, я приду, если смогу, не рассчитывайте на меня...?
Можно сразу же предвидеть те последствия различного толка, которые породит подобная установка. Она сделает невозможным социальную жизнь, поскольку никто ни на кого не сможет полагаться. Вероятно, последовательный анархизм, который никогда никем не практиковался, должен прийти к этому. Но гораздо интереснее выяснить те постулаты, которые предполагаются такой установкой.
1. Наиболее фундаментальным будет следующее высказывание: в какой-то момент я идентифицирую себя с тем своим состоянием, которое я могу констатировать в этот конкретный момент. Все то, что выходит за его границы, кажется мне смутным, непостижимым и в любом случае не может служить объектом достоверного утверждения. Отметим, что с этой точки зрения любое утверждение, касающееся моего прошлого, оказывается сомнительным, за исключением утверждений о тех фактах, которые зафиксированы другими и, следовательно, могут рассматриваться как внешние по отношению ко мне, как объективные в собственном смысле этого слова. Но данный постулат связан с определенным представлением о внутренней жизни – представлением по сути кинематографическим. Предположим, что я хотел бы остановить в определенный момент фильм, который мне показывают. Очевидно, что в тот момент, когда произойдет эта
126
остановка, мы увидим кадр, который можно точно определить и обозначить. Вероятно, развитие любого живущего как просто живущего может быть уподоблено такому фильму, что дает мне возможность осуществлять подобные мгновенные срезы и мгновенные постижения. Напротив, чем в большей степени речь идет о личности, рассматриваемой одновременно во всей ее сложности и глубочайшем единстве, тем больше этот подход можно считать неприемлемым в самой его сути. Рассмотрим это более детально. В любой момент моя физическая жизнь может окончиться, и вскрытие моего тела может приблизительно показать, каково было состояние моих органов в момент остановки сердца. Но идея ментального вскрытия кажется нам абсурдной, тем более что речь идет о постижении самых важных форм личностного существования, об определении, например, того, каковы были чувства усопшего к кому-либо из своих близких или какой была его религиозная позиция в момент его смерти. Эти срезы могут дать нам представление о только что произошедшем, оценка которого будет зависеть от неопределимого, в сущности, контекста. Представим себе человека, который во время незначительной ссоры объявляет своей жене, что она ему надоела и он не может ее более выносить; и эти слова оказываются его последними словами, поскольку несколько мгновений спустя он попадает под автомобиль. Можно ли рассматривать неудержимый порыв раздражения, которому он поддался, как последнее состояние его чувств к жене? Я думаю, что это утверждение неприемлемо. Чтобы достаточно ясно высказаться на этот счет, необходимо привести множество ссылок и мотивировок. Некоторые случаи еще более сложны; я имею в виду ту полемику, которая развернулась после смерти Жака Ривьера*, по поводу того, пришел ли он к вере или нет, то есть по поводу слов, произнесенных им in extremis1. Все это может служить только иллюстрацией одной всеобщей истины: личность бесконечно превосходит все то, что можно назвать ее мгновенными и кинематографически остановленными состояниями. Это означает, что выдвинутый постулат соответствует не только поверхностному, но и грубому взгляду на развитие личности.
2. Другой постулат также может быть выведен из принятой нами феноменологической и ориентированной на мгновенность установки. Следует допустить, что мое будущее состояние – это что-то, что должно произойти (something that will happen to be) подобно внешнему событию, например погоде, которая установится в ближайшее время. Сейчас у меня хорошее настроение, но я не могу сказать, какое оно у меня будет завтра в это же время. Сейчас светит солнце, но я не могу быть уверенным, что вечером не пойдет дождь. Это значит отрицать всякую действенность и влияние за той установкой, которую я принимаю перед лицом этого «кино»; за мной отрицается всякая способность воздействовать на себя самого. Таким образом, в силу
127
априорных оснований, которые трудно оправдать, отрицаются некоторые, в общем-то очевидные данности внутреннего опыта.
В действительности, когда я беру на себя обязательство, я принимаю как само собой разумеющееся, что оно не будет поставлено под сомнение. Ясно, что эта активная воля не сомневаться входит как существенный фактор в определение того, что будет. Эта воля сразу же закрывает ряд возможностей; и благодаря этому я поставлен перед необходимостью изобретать определенный modus vivendi1, от чего иначе я был бы освобожден. Здесь проявляется в самой элементарной форме то, что я называю творческой верностью. Мое поведение будет полностью окрашено этим поступком, содержанием которого было решение, что обязательство, взятое мною на себя, не будет поставлено под сомнение. Зачеркнутая и отвергнутая возможность тем самым будет отброшена как искушение.
Остается, однако, понять, на какой основе может осуществляться этот отказ ставить под сомнение, являющийся самой сутью обязательства. Не может ли он осуществляться ошибочно? Что понимать под этим? Не могу ли я принять решение быть верным взятому на себя легкомысленно обязательству и тем самым строить свою жизнь на лжи, относясь как к чему-то главному к тому, что в действительности является чистой случайностью? Это будет только имитацией, подделкой истинной верности. Но, с другой стороны, могу ли я решиться на принятие обязательства со всем знанием дела? Не предполагает ли во всяком случае принятие обязательства известного риска, в котором я должен отдавать себе отчет?
В общем, как я могу реально проверить мою первоначальную уверенность, служащую основой верности? Мне кажется, что здесь я попадаю в порочный круг. Теоретически, чтобы взять на себя обязательство, я должен сначала себя узнать; но в действительности я реально могу познать самого себя, только взяв на себя обязательство. Установка на отсрочку и выжидание, состоящая в том, чтобы беречь себя и выжидать и в то же время внутренне растрачивать себя, несовместима с истинным знанием самого себя. Ребяческими выглядят попытки решить проблему путем компромисса: я имею в виду в данном случае идею добрачного опыта, при помощи которого будущие супруги, ни в чем не обязывая себя, хотят понять друг друга. Очевидно, что такой опыт сразу же оказывается ложным из-за самих условий, в которых он осуществляется.
Но этот порочный круг кажется таковым только стороннему взгляду, который рассматривает верность извне. Действительно, нужно признать, что, рассматриваемая извне, всякая верность покажется непостижимой, невозможной, немыслимой и даже возмутительной. Могут спросить, например, каким образом этот человек мог быть верен этой носатой толстушке, или этой бескровной кляче, или же
128
этому «синему чулку»? То, что извне кажется порочным кругом, изнутри воспринимается как возрастание, углубление или как возвышение. Мы пребываем здесь в области того, что не может стать спектаклем ни для других, ни для нас самих и, следовательно, не может быть, без большого риска, выражено. Здесь нужно быть осторожным: я могу стать зрителем самого себя; то, что я пережил, может стать из-за слов другого человека или какого-то пустяка причиной моего удивления и возмущения. Вследствие этого внутреннего шока отношения могут совершенно измениться; например, я могу прийти к тому, что буду рассматривать как искушение то, что я называл долгом, и как долг то, что называл искушением. Я только что* упоминал Жака Ривьера. Подобная полная перемена его взглядов произошла в определенный момент его жизни и легла в основу написания его последней книги («Флоренция»), которую вряд ли следует оценивать как его завещание, поскольку хронология не играет решающей роли.
Эта возможность подрыва или даже разрушения, осуществляемых рефлексией, заключается в самой сущности свободного действия. Именно в той мере, в какой мы свободны, мы склонны предавать себя и усматривать в предательстве спасение: в этом истинный трагизм нашей судьбы. Подобная ситуация, вместе со всем, что она несет с собой, является, несомненно, не менее основополагающей, чем ситуация, заключающаяся в том, чтобы быть мне или не быть моим телом. Мы сейчас постараемся показать, как та и другая развертываются в метафизическом плане.
Прежде всего мы замечаем, что всякая верность основывается на определенном отношении, воспринимаемом как нерушимое, следовательно, на уверенности, которая, впрочем, может и не быть вспышко-образной. Озарение, любовь с первого взгляда – предельные примеры возникновения верности, по сути не намного более таинственны, чем другие. Тайну захватывающего обязательства как акта они сосредоточивают в один решающий, избранный момент времени – в этом и вся разница. Но тайны этой нельзя избежать, пытаясь свести верность к привычке или механическому действию социального принуждения. Философия конца XIX в. широко практиковала подобные опыты минимизации и обесценивания верности, и вполне можно задать себе вопрос, не способствовала ли она тем самым в известной мере тому, что мир в настоящее время ввергнут в хаотическое состояние.
Другой способ обесценивания верности состоит в интерпретации ее как формы привязанности к самому себе, человеческого уважения, гордости. Такое предприятие подобно субъективной интерпретации знания, отрицающей для меня возможность постичь что-либо другое, чем состояния моего собственного сознания. Привожу здесь текст из книги «Быть и иметь», точно выражающий мои мысли на этот счет:
«Подобно тому как философия, отрицающая для меня возможность постижения чего-либо другого, кроме моих «состояний созна
5 – 10982
129
ния», противоречит спонтанному и непреодолимому ее утверждению, являющемуся постоянной основой человеческого познания, подобно этому настаивать на том, что, несмотря на видимость, верность есть только разновидность гордости и привязанности к себе, – значит со всей очевидностью лишать наиболее высокие формы человеческого опыта их отличительных черт. Связь между этими ходами мысли самая тесная...
Когда я заявляю, что для меня невозможно ничего постичь, кроме состояний моего сознания, то не противопоставляю ли я в лености своего сознания разочаровывающее и даже обманчивое знание – поскольку оно скрывает необоснованную претензию – тому знанию, которое, действительно, не есть данность, но постигается идеально и достигало бы в противоположность первому реальности, независимой от субъекта, который его развивает? Ясно, что лишенное подобного центра в системе отсчета, каким бы воображаемым он ни был, выражение «состояния моего сознания» теряет смысл, так как последний определяется только при условии, если он остается ограниченным. «Во мне то, что только во мне». Все дело, стало быть, состоит в том, чтобы узнать, как возможно, чтобы я стал обладателем идеи знания, несводимого к тому, которое мне определено согласно этой гипотезе, или, если сказать глубже, как возможно знать, находится ли эта идея действительно во мне. Достаточно мне согласиться с тем, что ее там нет, как мое смелое утверждение сразу же рушится. Невозможно понять, как идея действительного знания, то есть в его отнесенности к бытию, могла родиться внутри мира простых состояний сознания. Тем самым как бы в высокой и отрезанной от всего мира крепости, куда я заточил себя, отыскивается путь к спасению. Не вынужден ли я признать поэтому, что сама эта идея есть неизгладимое свидетельство присутствия во мне иного мира?
Так же обстоит дело и с верностью. Над горделивой привязанностью меня к самому себе встает образ другой верности, существование которой я не могу отрицать единственно потому, что постиг ее раньше. Но если мне было дано познать ее вначале, то не для того ли, чтобы ее смутным образом испытать во мне или в других? И не строю ли я худо-бедно эту личную реальность, суть которой как раз в том, чтобы связываться воедино и поддерживать в себе внутреннее напряжение без конца возобновляющимся усилием, как раз на модели тех объектов, относительно которых я делаю вид, что я в них не верю?
Не должен ли мне показаться подозрительным сам ход мысли, который заставляет меня претендовать на локализацию во мне самом корней, или основ, верности? Каким образом я мог бы скрыть от себя, что столь определенное и устойчивое пренебрежение видимостями не может иметь свой источник в опыте, столь центральном и скрытом, каким его предполагают, а только в принятом решении, в радикальном отказе, посредством которого, отбрасывая реальность в бесконечность, я осмеливаюсь узурпировать ее место и наделить себя, правда огрубляя их, теми атрибутами, которые я у нее отбираю?
130
Не этой ли только ценой может быть спасена верность? В сто раз лучше, как мне кажется, решиться видеть в ней только пережиток, остаток невежества, которое целиком может развеять разум, чем водружать в центре своей жизни подобное идолопоклонничество или самопоклонение».
Эти размышления приводят нас к метафизическому парадоксу, имеющему две стороны.
С одной стороны, верность определенному существу, данному в опыте, для того, кто этот опыт переживает и не рассматривает его извне, предстает как не позволяющая себя свести к привязанности, соединяющей сознание с ним самим или с его собственными определениями.
Зато абсолютная верность, следовательно верность не конкретному лицу, не тварному существу, а самому Богу, с точки зрения смутной критической мысли, преломленной сквозь определенный род здравого смысла, часто рискует интерпретироваться как зависимая от эгоцентризма, не сознающего себя и в конце концов гипостазирующего ту или иную субъективную данность.
Иначе говоря, оставаясь в пределах первой стороны парадокса, легко допускается, что может существовать реальная верность в эмпирическом мире по отношению к «ты», идентифицируемому в плане объектов.
Но в действительности – и здесь мы переходим ко второй стороне парадокса, – не достигая собственно онтологического утверждения, я почти всегда смогу подвергнуть сомнению реальность моей привязанности к тому или иному конкретному существу. В этих пределах всегда возможно разочарование, то есть отрыв идеи от человека: я могу быть приведен к признанию, что был верным не какому-то конкретному созданию, а той идее, которую я о нем создал и которую не оправдал опыт.
И напротив, чем больше мое сознание сконцентрировано на самом Боге, к которому я взываю (я имею в виду Бога как противоположность какому-то идолу или сниженному Его подобию), тем менее возможно такое разочарование. Если же оно и наступает, то я могу винить в этом себя одного, усматривая в нем лишь знак моей собственной ущербности.
И тогда эта основа верности, которая не может не показаться нам по праву хрупкой, как только я беру на себя обязательство по отношению к тому, кого не знаю, оказывается неколебимой там, где она основывается не на отчетливом восприятии Бога как некоторого другого, но на определенном зове, обращенном из глубины моего ничтожества ad summam altitudinem1. Именно это я называл иногда абсолютным прибежищем. Этот призыв предполагает радикальное смирение субъекта, смирение, поляризованное самой трансценденци-ей того, кого оно призывает. Мы наблюдаем здесь как бы слияние самой строгой ангажированности и самого отчаянного ожидания. Что-
5*
131
бы выдержать подобную, превосходящую всякую меру ангажированность, невозможно рассчитывать на себя, на свои собственные силы. Но в том акте, посредством которого я беру на себя такое обязательство, я в то же время открываю бесконечный кредит доверия Тому, по отношению к кому я его беру, – и именно это и есть Надежда.
Теперь становится ясно, что порядок проблем, которые я последовательным образом рассматривал, переворачивается. Речь пойдет о том, чтобы узнать, каким образом на основании этой абсолютной Верности, которую мы называем просто Верой, становятся возможными другие верности и какую гарантию себе они находят в ней, и только в ней.
Таким образом мы приходим к признанию смысла и значения того, что следует называть посвящением и освящением.
Только теперь мы можем напрямую задать себе вопрос о том, при каких условиях верность может быть творческой. Прежде всего следует сказать – и это только предварительное замечание, – что она есть на самом деле верность только тогда, когда действительно является творческой. Есть все основания считать, что если она сводится к этой горделивой привязанности к самому себе, в которой нам казалось, что мы видим ее образ, то она по необходимости оказывается бесплодной. Это не означает, что в обратном случае, когда она плодотворна, ее реальность необходимо получит выражение в тех видимых эффектах, по которым мы смогли бы ее узнать. Но следует особенно остерегаться тех двусмысленностей, которые здесь представляет слово «вера», а также термин «абсолютная верность», хотя это и менее очевидно.
Имеете ли вы в виду под верой, спросите вы меня, какое-нибудь определенное религиозное верование, в частности католическую веру? В таком случае вы выходите за пределы собственно философской мысли, вы как бы контрабандой вводите в область чистой мысли совершенно случайные элементы, не имея возможности оправдать или признать тот акт, к которому вы для этого прибегаете. Если же, с другой стороны, вы желаете отвлечься от какой бы то ни было определенной религии, то не возникает ли опасность, что вы подменяете реальность веры, которая всегда конкретна, некоторой абстрактной схемой, лишенной той жизни, которую несет в себе всякая истинная вера?
Я отвечу на это, что для меня речь идет об определении места и смысла я верю в духовном и метафизическом организме в целом и что я при этом совсем не желаю абстрагироваться от всего богатства данных, предоставляемых существующими религиями. Верность, какой бы она ни была, определяется как раз исходя из я верю, и радикальная приверженность моменту, о которой мы только что упоминали, может быть понята только как абсолютное отвержение я верю.
Связь я верю с я существую мы должны признать сразу же, не выводя одно из другого. Я хочу сказать, что если я прихожу к я верю, то
132
прихожу к этому как существующий, а не как мысль вообще, то есть когда я примериваю к себе абстрактные различия, стараясь освободиться от того, что я назвал моей фундаментальной ситуацией – существованием.
Здесь, как вы видите, сходятся все существенные оси моей мысли. Мне кажется, что интеллектуализм, который утверждает, что я могу подняться до веры, только освобождаясь от своей чувственной природы, обречен упускать существенное из того именно, что он стремится схватить во всей его чистоте. Как раз это я имел в виду, когда писал 4 мая 1916 г., что вера должна входить в природу ощущения, так как метафизическая проблема заключается в том, чтобы поверх мысли и с помощью ее обрести новую непогрешимость, новое непосредственное. Я не скрываю, однако, что в пределах достигнутой нами позиции это может показаться еще достаточно неясным. Как ни решительно отвергаю я все, что хоть в чем-то похоже или близко к материализму, я не удивлюсь, если некоторым покажется, что мой радикальный отказ от дуализма должен настолько сильно связать человека с его земным окружением, что для него тем самым закроются двери в трансцендентное.
Я думаю, что это ошибка. Я мог бы позволить себе сослаться на убедительные исторические примеры: Биран*, католическая философия вообще, наши современники Пеги и Клодель. Однако с философской точки зрения это было бы способом уйти от решения проблемы. Мы намереваемся подойти к этому прямо и спросить: что такое верить?
Все, о чем я только что говорил, должно, на мой взгляд, подготовить читателя к тому, чтобы понять, что верить (не в смысле «допускать, что») – это всегда верить в ты, то есть в личную или сверхличную реальность, к которой можно обращаться с призывом и которая располагается по ту сторону всякого суждения, выносимого относительно какой-то объективной данности. Как только мы представляем себе веру, она предстает верой кого-то в кого-то, верой в него. Мы ее представляем, стало быть, как идею или мнение, которое у А складывается по отношению к Б. Следует добавить, что в каждую секунду я могу стать чужим самому себе и в силу этого потерять контакт со своей верой, понятой в ее сути. Я пойду даже еще дальше: обычно я отделен от этой веры, которая есть я сам и которая совершенно неотделима от того, что я должен называть моей душой. В этом смысле я могу сказать, что часто мы сами не знаем, во что мы верим.








