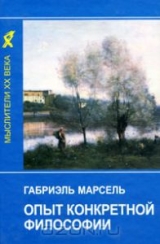
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Обращаясь к другому уровню анализа, я бы хотел отметить странное, не логического, а феноменологического порядка несоответствие, существующее между утверждением я принадлежу тебе и его репликой, или противоутверждением ты принадлежишь мне. Последнее утверждение несет с собой претензию, а первое – ангажированность, добровольное обязательство. Трактуя одно и другое как констатацию, упускают нечто существенное, хотя в конце концов оба утверждения могут быть к ней сведены. Но основной философский вопрос, встающий здесь, состоит в том, чтобы узнать, в каком смысле проблема достоверности или законности может быть поставлена как по отношению к этому обязательству, так и в связи с этой претензией. И на второй проблеме я бы хотел сосредоточить свое внимание.
Предположим, что имеется такая точка зрения, исходя из которой можно будет решить достоверным образом, является ли эта претензия относительно «ты» законной. Какова же эта точка зрения? Здесь должны быть рассмотрены три позиции:
a) точка зрения утверждающего субъекта;
b) точка зрения «ты»;
c) точка зрения третьего лица, выступающего арбитром.
a) Первая точка зрения, это непосредственно ясно, в любом случае не может быть всеобщим образом принята. Ведь субъект такого утверждения в этом случае был бы и заинтересованной стороной, и судьей одновременно. Это означало бы: именно я уполномочен решать, является ли моя претензия относительно тебя обоснованной. Размышление показывает, что чем в большей степени это «ты» мыслится в качестве внешнего по отношению к субъекту, тем больше эта новая претензия, на этот раз относящаяся уже к самому суждению, должна рассматриваться как неприемлемая. В самом деле, она означала бы радикальный деспотизм.
b) Вторая позиция на первый взгляд представляется более приемлемой. «Ты мне принадлежишь: тебе и только тебе решать, прав ли ты, соглашаясь со мной в этом». Тем не менее это решение не лишено двусмысленности: что означает, по правде говоря, это «тебе решать»? Означает ли это, что я позволяю тебе решать, прав ли я?.. Но не означает ли тогда это, что в конце концов ты как раз мне не принадлежишь? Точная формула была бы такой: решать, принадлежишь ли ты мне, принадлежит тебе. Это так, если только мы не берем крайний случай, когда сказать «ты мне принадлежишь» означало бы следующее: поскольку ты принимаешь это решение (мне
79
принадлежать или отказаться от меня), постольку ты мне принадлежишь. Другими словами, в той мере, в какой ты свободен, в той мере ты мне принадлежишь.
с) Третья позиция, позиция третейского судьи, приемлема лишь в том случае, если «я» и «ты» полагаются совершенно внешними друг другу. В этом случае можно спросить, не является ли немыслимой принадлежность одного к другому.
Все это можно было бы проиллюстрировать самым конкретным и разнообразным способом. В частности, можно разобрать, что происходит между двумя влюбленными. Женщина говорит мужчине: ты мне принадлежишь. Ясно, что это утверждение может располагаться как в области претензии, так и в области констатации. Но лишь первое нас сейчас интересует. Мужчина, относительно которого высказана эта претензия, снижен по отношению к женщине на уровень раба (Самсон), если только при этом не будет иметь места компенсация с ее стороны (она: «но, с моей стороны, я принадлежу тебе») в форме добровольного присоединения. Однако сама по себе эта претензия является деспотической. Ведь я могу тогда делать с тобой все, что я захочу, все, что мне понравится. Но если она внутри скомпенсирована, то ее масштаб, ее сила смягчены. Ведь поскольку я принадлежу тебе так, как ты мне принадлежишь, то я не могу хотеть сделать с тобой то, чего ты сам не хочешь. В этом случае мой каприз сам собой уничтожается в качестве каприза. И отсюда следует, что я не могу даже решить, а не лучше ли бы было для тебя же, если бы ты мне не принадлежал. И более глубоко: поскольку я прекращаю принадлежать сам себе, постольку уже неверно говорить, что ты мне принадлежишь. Мы вместе трансцендируем каждый себя в глубинах нашей любви. Тем самым сомнение, рискующее поселиться в каждом из нас, исчезает, уступая место высшей уверенности, которая нас превосходит. Отсюда сама мысль о третейском судье и посреднике отходит на задний план, становясь чистым абсурдом, так как отсылка к другому здесь исключается сама собой: другой может существовать по отношению ко мне, но не по отношению к нашей любви. И никто не наделен не только способностью судить любовь, но даже ее постичь: с чем бы он мог ее сравнить? Сам принцип сравнения или сопоставления, каким бы оно ни было, отрицается нашей любовью. Вероятно, здесь и только здесь, замечу мимоходом, становится возможным придать конкретный смысл понятию абсолюта, взятого в строгом смысле слова.
Итак, мы приходим к заключению, что, если взятое в изолированности утверждение «ты мне принадлежишь» подвержено риску быть истолкованным как двусмысленное или как оскорбительное для тебя, оно утрачивает этот риск, начиная с того момента, когда размышление касается некоторых его противовесов, не следующих из него, впрочем, с необходимостью. Мне бы хотелось указать на одно особенно важное следствие, вытекающее из вышеописанных наблюдений. Чи
80
тая некоторые духовные или даже действительно мистические сочинения, в которых, как известно, Христос обращается к адепту как раз для того, чтобы ему объявить, что Он обладает абсолютными правами по отношению к нему, что он Ему от вечности принадлежит, – так вот, читая такие сочинения, мне лично случалось испытывать своего рода скандальное замешательство, превращающееся во внутренний протест. В свете тех наблюдений, которые были сделаны выше, становится возможным частично оправдать этот жест неприятия и одновременно овладеть им, с тем чтобы противопоставить ему противоположный жест, реализуемый в иной плоскости.
Действительно, с одной стороны, тот факт, что Его слово является писаным, что оно адресуется ко мне посредством письма, рискует вызвать его падение до уровня тиранического предписания, адресуемого ко мне кем-то, такого предписания, против которого, как это вполне понятно, я восстаю: по какому праву некто другой претендует на то, чтобы я ему принадлежал? И каким образом эта претензия, будучи обнаруженной, не вызовет во мне протеста в духе Корнеля?
Но, с другой стороны, эти вводящие в заблуждение кажимости незамедлительно подлежат суду размышления. Именно потому, что Он на самом деле не есть некто, некто другой, Он наделен этим правом по отношению ко мне, но Он им владеет постольку, поскольку Он ближе ко мне, чем я сам. Это право может быть понятно лишь как функция любви, а вовсе не могущества. Есть глубочайшее метафизическое основание для того, чтобы в Христе осуществилось соединение бесконечной слабости и суверенной силы, причем эта бесконечная слабость является существенным моментом, утрата которого невозможна без того, чтобы христоцентризм не подвергся риску превратиться в гетерономию, несовместимую с радикальным требованием нашей свободы. На другом языке, более доступном для философов и в то же время более двусмысленном, можно также сказать, что абсолютный внутренний мир не остается здесь отделенным от той единственной конкретной всеобщности, которую нам я не скажу дано схватить, но – коснуться.
И начиная с этого момента я прекращаю составлять единое целое с мятежным, по сути дела, протестом, который выражение «ты мне принадлежишь» спровоцировало во мне. Нужно только понять, что не формальная возможность этого протеста, а его ценность поставлена для меня под вопрос. «И поистине, кто я такой, чтобы выступать с претензией, что я Тебе не принадлежу? Ведь на самом деле, если я Тебе принадлежу, то это не означает: я есть Твое владение. Ведь это таинственное отношение располагается не в плоскости «иметь», как это было бы, если бы Ты был конечной потенцией. Но Ты есть не только свобода, Ты любишь меня, Ты требуешь, чтобы я был свободным, Ты призываешь меня к тому, чтобы я созидал самого себя, Ты есть сам этот призыв. И если я от него отрекаюсь, то есть отрекаюсь от Тебя, если я упорствую в заявлениях, что я принадлежу
81
исключительно только самому себе, то это все равно, как если бы я замуровывал себя в стенах, это все равно, как если бы я своими руками душил эту реальность, во имя которой я считаю, что сопротивляюсь Тебе. И если это так, то признание того, что я Тебе принадлежу, означает, что я принадлежу себе лишь тогда, когда принадлежу Тебе. Более того, все это есть одно и то же и растворяется в единственной истинной и полнозначной свободе, о которой я могу утверждать, что она есть дар. И нужно, чтобы я принял его. Сила, которая меня определила ее принять или отвергнуть, неотделима от этого дара. Для меня есть только один способ требовать такой свободы, сводящийся к отказу, и такой отказ, являющийся отказом от того именно, что делает его самого возможным, имеет характерные черты предательства.
Все это влечет за собой следствия на всех уровнях. Некоторые наиболее важные из них касаются я не скажу моего тела, но отношения, связывающего меня с моим телом. И что бы об этом ни думало большинство философов всех школ, это отношение не является данностью, определимой объективным и однозначным образом, как это было бы, если бы оно сводилось к отношению причинности, или параллелизма, или к монистической гипотезе – материалистической или спиритуалистической. Сколь парадоксальным и даже противоречивым ни казалось, на первый взгляд, такое утверждение, тем не менее есть основание считать, что способ связи, соединяющей меня с моим телом, неким образом зависит от меня: если быть означает утверждаться, то я существую благодаря самому способу ответа на то, что мне изначально дано как вопрошание, или, говоря более строго, на то, что лишь может рассматриваться как вопрос в ретроспективной рефлексии, анализирующей сами условия моего развития.
Точно так же, как к моей сущности в качестве живого существа принадлежит бытие в ситуации, так и к сущности моего тела, поскольку оно мое, принадлежит быть субстанцией испытания, которое буквально конститутивно по отношению ко мне, так как в итоге я буду существовать или же нет. Тем не менее будем воздерживаться от некоторых огрубляющих дело упрощений. То, что я только что сказал, значимо в случае рефлексии на себя, и я должен всегда спрашивать себя, в каких пределах я вправе рассматривать другого как продолжение меня самого. И если я помещаю себя не в рефлексивную, а, напротив, в перспективную, высматривающую будущее позицию, интересуясь, например, судьбой новорожденного, то нет никакого смысла предполагать у него свободу, для которой его тело служило бы испытанием. Эта свобода должна быть в будущем и не может пониматься как данность. И усмотрение будущего станет эффективным (вместо того чтобы оставаться на уровне грезы) лишь постольку, поскольку оно выступает как активная любовь, превращаясь в непрерывную творческую акцию воспитателя. Здесь завя-
82
зывается новая диалектика, так как приходит момент, когда, для того чтобы пробудить свободу, требуется притвориться, что веришь в нее, то есть требуется ее заранее предположить.
И как тогда ответить на вопрос: это мое тело принадлежит мне или, напротив, я принадлежу своему телу? Мой удел таков, что эта проблема, как я и говорил, не имеет объективного решения, которое возникает сразу же, как только определены исходные данные. Я могу направить или сориентировать мою жизнь таким образом, что все более верным будет суждение: я принадлежу моему телу. Но это не все. Существует такой способ обращения со своим телом как со своей абсолютной собственностью; который, несмотря на видимость, приводит к тому, что я сам становлюсь решительнейшим образом его рабом. Не можем ли мы в этом случае сказать, что проституция так относится к любви, как самоубийство к смерти? То, что в ней воплощается, это вовсе не подлинная свобода, как можно было бы считать, выдвигая в качестве основания распоряжение самим собой, а подделка этой самой свободы. Когда Кириллов, герой «Бесов», полагает обрести в самоубийстве единственно возможный акт абсолютной свободы, возможный для человеческого создания, он выступает жертвой трагической иллюзии, смешивая свободу с ее искаженной имитацией. Есть веские основания считать, что метафизически удовлетворительное отношение между мной и моим телом, то есть отношение, сохраняющее свободу, рискующую всегда подвергнуться компрометации из-за того, как она понимается, может быть установлено исключительно на основе онтологической или творческой принадлежности, о чем речь шла выше. Говоря более конкретно, мое тело может по отношению ко мне выполнять функцию служителя лишь в том случае, если я не только теоретически, но и практически осознал свою не-принадлежность себе. В отсутствие же такого сознания, осуществляя самую обманчивую автаркию, я превращаю себя в род монументальной тюрьмы, принимаемой мной в силу игры внутренних, легко оркестрируемых миражей за незыблемый оплот моей личной суверенности.
1937
о понятиях ДЕЙСТВИЯ и личности
Вероятно, мы не сможем назвать другие понятия, которым бы в последние годы уделялось так мало внимания. В особенности это касается идеи действия. Одно из объяснений подобного пренебрежения заключается в том, что идея действия оказалась подчинена идее революции, о которой, если подходить к этому философски, я сказал бы, что она по сути своей порочна и передает свою ущербность любой смежной с нею идее. В целом я думаю, что с того момента, когда мы начинаем прибегать к прописным буквам, мы что-то неизбежно теряем; именно это в данном случае и произошло. Вместо того чтобы говорить о каком-либо конкретном действии, о конкретной революции, мы говорим о Действии, о Революции, не подозревая, что в данном случае мы склонны гипостазировать моменты и переходы диалектического порядка.
Размышляя в течение последних недель над понятиями действия и личности, я сделал определенное открытие, которому предшествовал ряд подобных наблюдений, заключающееся в том, что в сущности «здесь ничего не понято», что мы занимаемся только тем, что прикрываем словами бездну нашего незнания. Я хотел бы приступить к этому исследованию в манере как можно более конкретной и непритязательной, взяв эти понятия в их изначальном содержании, в их укорененности в живом опыте. Я совершенно отрицаю за философом любую диктаторскую власть над идеями. Например, сказать вслед за Дени де Ружмоном*, что личность – это творческое призвание, – значит совершить своего рода государственный переворот, а кроме того, исказить присущий словам смысл.
Чтобы попытаться дать определение понятию действия (что, может быть, и невозможно, и мы увидим почему) или по крайней мере приблизиться к этому определению, я хотел бы сослаться на конкретные случаи, когда мы употребляем слово «действие» в его наиболее точном, наиболее ясном смысле. Прежде всего мы противопоставляем действие поползновению к нему. О действии мы говорим тогда, когда поползновения кончаются. Когда же переходят к действию? «Переходить к действию» – запомним это выражение. В аналогичном смысле мы говорим, например, о государственном деятеле: достаточно слов, нам нужны действия.
Проанализируем эти исходные данные. Ясно, что поползновение к действию противопоставлено ему именно в таких своих качествах, как неопределенность и бессилие; с другой стороны, испытывающий такое поползновение не в состоянии решиться на что-либо сам, он ко
84
леблется, он нерешителен, он полон опасений и не способен активно вмешиваться в действительность, изменять ее. Все остается в прежнем состоянии. Так же обстоит дело, когда говорят, но слова остаются только словами. Мы сразу же должны допустить, что слова не являются частью реальности, что они даже не примыкают к ней, а скользят поверх нее как ветер, не задерживаясь, а следовательно, не имея действительного влияния на ход вещей. Впрочем, этот постулат требовал бы более тщательного изучения и в значительной мере пересмотра.
Мы видим уже сейчас, что сущность действия состоит в действительном изменении. Изменении чего? Некоторой ситуации, к которой это действие приложимо* и которую само действующее лицо не в состоянии целиком охватить взглядом. Но нужно, чтобы оно поняло эту ситуацию хотя бы частично. Очевидно, для действия недостаточно изменения. И здесь мы глубже проникаем в природу действия. Когда я, например, говорю о преступлении, что это выходка (le geste) сумасшедшего, то данное выражение предполагает негативное значение: выходка именно потому, что это не действие. Я предполагаю различие между данными понятиями. Однако акт, о котором идет речь, может изменить и даже неизбежно изменяет ситуацию, причем неопределенным и как бы недоступным оценке образом.
Этот акт, или жест, правы мы в этом или нет, кажется нам подобным несчастному случаю в прямом смысле этого слова (болезнь, катаклизм) – quod accidit1. Но действие – это нечто больше, чем просто происходящее.
Мне скажут: действие добровольно. Без сомнения, но, по-моему, это мало о чем говорит. Ведь, употребив слово «воля», мы рискуем увязнуть в бесконечных психологических анализах.
Результаты моих наблюдений я бы выразил следующим образом.
С одной стороны, действие по сути является тем или иным, оно четко очерчено (именно это сегодня склонны упускать из виду). Если нас спросят о нем, мы должны быть в состоянии ответить да или нет. Переход к действию – переход через порог, который отделяет область, находящуюся по ту сторону «да» и «нет» или там, где они переплетены друг с другом, от той области, где они разделены и противопоставлены. Приведем самый простой пример. Некто ухаживает за больным, которого он ненавидит; больной умирает; его спрашивают: желали ли вы смерти этому больному? Без сомнения, здесь нужно было бы ответить «да» и «нет» одновременно, что означает, что на этот вопрос нельзя ответить, он не содержит в себе ответа. Зато на вопрос «подлили ли вы в его стакан яд?» существует единственный, определенный и однозначный ответ. Отметим между тем, что в каких-то пределах здесь не все ясно. Предположим, что я плохо сосчитал капли лауданума*, который я дал больному; эта ошибка может послужить основанием для бесконечного ряда вопросов, и мы не можем сказать точно, есть ли на них одно-
' случившееся (лат.).
85
значный ответ. Здесь существует теряющаяся в неопределенности сложность, которую мы не имеем права в дальнейшем упускать из виду.
С другой стороны, очевидно, что реальность действия ни в коем случае не исчерпывается с видимым окончанием действования. Здесь появляется другой, дополнительный и в какой-то степени антиномичный аспект. Предварительно я сказал бы, что этот аспект состоит в том, что действие по сути своей вовлекает действующего в какие-то обязательства.
Но это понятие обязательства требует тщательнейшей разработки: хотим ли мы этим сказать, что действующий скрытым образом принимает последствия своего действия, какими бы они ни были? Нужно, однако, заметить, что здесь мы сталкиваемся с чистой абстракцией: бесконечные последствия действия нельзя предвидеть, и путаница причин такова, что я был бы вправе, ввиду подобных противоречащих моим желаниям последствий, приписать их какой-то дополнительной причине.
Когда я говорю, что мое действие связывает меня обязательством, это, как мне кажется, означает буквально следующее: моему действию присуще то, что оно может в дальнейшем быть затребовано мною, это по сути дела равнозначно тому, как если бы я заранее подписался под следующим признанием: в тот день, когда я другим человеком или самим собой – это различие здесь не играет никакой роли – буду обращен лицом к лицу к совершенному мной, я должен буду сказать: да, конечно, это сделал я, ego sum qui feci; и мы должны пойти еще далее: я признал бы заранее, что если я уклоняюсь от ответственности, то буду виновен в отречении. Проиллюстрируем нашу мысль. Наиболее ярким и сильным примером здесь, без сомнения, является обещание, поскольку оно есть действие, а не «теге words», не пустые слова. Я обещаю какому-либо человеку свою помощь, если он окажется в затруднительных обстоятельствах. Это равнозначно высказыванию: «Я признаю, что если будут иметь место подобные обстоятельства и я уклонюсь от выполнения обещания, то это равносильно отрицанию меня самого, допущению разрушающей мою собственную реальность двойственности». Это, очевидно, в равной степени приложимо к любому действию, даже предосудительному (например, к краже). Если я скажу, что такая-то кража является действием в отличие от выходки клептомана или лунатика, то это значит, что позднее, когда я буду поставлен перед фактом совершенного мною, я буду вынужден признать: да, это совершил я, а не некая пагубная сила, которая завладела и загипнотизировала меня. Другими словами, не существует действия без ответственности за него, отсюда сразу же можно сделать вывод, что слова «немотивированное, беспричинное действие» противоречивы по своей сути. Немотивированное действие не есть действие, либо оно само отрицает себя как действие; эта псевдоидея есть не что иное, как продукт смешения, может быть и сознательного, несоединимых между собой уровней реальности.
Если я, например, лгу, то ipso facto1 я обязываюсь в дальнейшем признать, что солгал именно я. За любое действие, предполагающее предва-
1 тем самым (лат.).
86
ряющую ретроспекцию, ответственность как бы заранее взята. В противном случае лгу уже не я и я сам аннулирую себя как субъекта, как личность. Используя несколько другой язык, можно было бы сказать, что я солидаризируюсь с моим действием, как если бы мое действие и я были бы членами одного внутреннего сообщества, одного клана. И нужно отметить, что принятие мной совершенного на мой счет невозможно без его оценки, без определения его ценности; впрочем, может случиться и так, что я хвалю себя за свое действие или, напротив, сожалею о нем или же не знаю, сожалеть ли о нем или поздравить себя с ним. Но в любом случае действие должно быть квалифицировано как хорошее или как плохое. Чем более оно приближается к нулевой оценке безразличия, тем менее может быть расценено как действие*.
Не дается ли нам тем самым основа для определения понятия «действие»? Если сказать правду, я так не считаю. Углубляя только что высказанное, отметим, что в сущности действия есть нечто, что не может быть констатировано или объективировано; действие не может быть осмыслено без соотнесенности с конкретным лицом, без ссылки на «это я, кто...». Это значит, что действие представляется действием только для действующего лица или же для того, кто идеально, в силу симпатии принимает на себя роль действующего. Поэтому нужно признать, что мыслить действие не значит объективировать его, поскольку, объективируя его, я склонен его рассматривать как не-действие.
Отсюда следует ряд важных следствий. Наша склонность объективировать выражена в нас до такой степени, что мы неизбежно стремимся представлять себе действие как результат, задаваясь вопросом, откуда оно проистекает и кто его совершил. В этом отношении наш анализ требует от нас раскрытия определенной двусмысленности в выражении ego sum qui feci1. Мы пытались дать ему, так сказать, локальную интерпретацию: «это я, кто...» означало бы вот именно эту руку, именно этот рот. Но в действительности указательная ценность этих точек отсчета является нулевой. Может так случиться, что я должен приписать себе действия и слова другого. Это уже будет не вот этот рот и не эта рука и, однако, это буду я. Итак, я – это не кто-то, имея в виду, что, по определению, кто-то – это кто-то другой. Я некоторым образом противоположен кому-то, здесь я занимаю позицию абсолюта. Однако это только один момент диалектики: для другого, для Пьера и Жана, я являюсь кем-то, мое действие есть действие определенного кого-то; с другой стороны, мне дано воспринимать Пьера и Жана как действующих лиц, то есть смотреть их глазами, видеть себя, как они меня видят, следовательно, видеть себя как кого-то, как кого-то другого. В этом случае я перестаю совпадать с самим собой, как если бы мое существо было расщеплено. Таков неизбежный и обманчивый результат интроспекции (самонаблюдения). Постараемся разъяснить это более конкретно. Предположим, что я вмешался, чтобы защитить ребенка от грубо обращающегося с ним взрослого, это
1 это сделал я (буквально: это я, кто сделал) (лат.).
87
действие, без всякого сомнения, я могу отделить от самого себя и рассматривать его не как мое, а как действие кого-то, на кого я смотрю, присутствуя при этом. С этого момента я могу его некоторым образом раздробить и исказить до неузнаваемости. Незаметным образом это действие перестает быть моим и даже вообще каким-либо действием, становясь чем-то вроде жестикуляции. Отметим, что чем больше действие было моим, то есть чем более оно включается в тотальность меня самого, тем менее я буду способен на подобное саморасщепление. Это очень важно, поскольку выявляет критерий, позволяющий установить иерархию действий как действий. Какое-либо действие является тем больше действием, чем меньше у меня возможности отречься от него, не отрицая при этом себя самого в целом; и это, кстати, показывает радикальную невозможность существования немотивированного действия. Можно было бы утверждать, что чем более жизнь разменивается на мелочи, то есть рассыпается на несвязные хлопоты, тем в меньшей степени она наполнена действием, тем менее может быть уподоблена действию. И наоборот, чем менее она подчиняется суетливой выгоде, тем более в ней будет, в глубоком смысле этого слова, жертвенной посвященности, тем более она будет стремиться к тому, чтобы уподобиться в своей целостности единственному, уникальному акту.
В свете именно таких размышлений я хотел бы рассмотреть идею личности. Здесь я хотел бы начать рассуждать таким же образом, как я это делал в отношении понятия «действие», то есть способом конкретных, как можно более точно определенных приближений.
Мне кажется, что нам не удастся поставить проблему личности исходя из понятия индивида и противопоставления ему (я не имею в виду дать определение личности, так как это предприятие влечет, видимо, непреодолимые трудности). Я не хотел бы говорить и о противопоставлении личности и вещи, хотя мы неизбежно встретимся с ним в дальнейшем и должны будем подтвердить его истинность. Я полагаю, что личность возникает прежде всего в противопоставлении к man, к on* (безличному некто). Впрочем, on может быть, строго говоря, неопределимым. И, однако, его характеристики бросаются в глаза. В первую очередь оно по определению анонимно, не имеет лица, некоторым образом непостижимо; оно мне неподвластно, скрывается, оно по сути своей безответственно. В определенном смысле это противоположность действующему лицу. Его природа—имеет ли оно какую-либо природу? – противоречива как природа фантома. Оно утверждает себя как абсолют – и оно есть сама противоположность абсолютному. Смешение его с безличностной мыслью является, по-моему, самым опасным моментом, и в то же время его труднее всего избежать1. В действительности on – это падшая мысль, не мысль вовсе, лишь тень мысли. Но я должен
1 Было бы нетрудно показать, что некий вид демократического рационализма базируется именно на таком смешении, как если бы мог существовать минимальный контакт между демократическим on, on всеобщего избирательного права и разумом, действующим в науке.
88
констатировать, что этот фантом существует на горизонте моего сознания и затемняет его; он окружает меня, грозя наступлением со всех сторон (я не буду долго останавливаться на этом, здесь все совершенно ясно, особенно в нашем мире, отравленном прессой).
Впрочем, размышляя, я понимаю, что on не только вокруг меня. Недостаточно сказать, что оно меня осаждает. Нет, оно проникает в меня, самовыражается во мне; я трачу свое время, чтобы выражать его. Мои мнения большей частью являются не чем иным, как воспроизведением on этим я, которое даже о том и не догадывается. В той мере, в какой я являюсь отражением моей газеты, даже не подозревая, что мои мнения ее зеркально отражают, я участвую в on, представляя его частицу, являясь его распространителем (это выражается в таких наивных фразах, как «каждый знает...», «без сомнения...» и т. д.).
И здесь перед нами возникает одна псевдопроблема, внушенная воображением. Между on вкладывающим и on вложенным как найти место для личности? Как ее локализовать? Проблема, представленная таким образом, не содержит в себе никакого решения, она лишена смысла. Любое стремление как-то локализовать личность основывается на некоторой путанице. Это очевидно, но влечет за собой серьезные трудности.
Какова сущность личности в противоположность анонимному, непостижимому, безответственному on! Мы можем начать с главного и сказать, что существенное свойство личности – смело идти навстречу, выступая против. Отсюда можно заключить, что мужество – основное достоинство личности, тогда как on кажется полюсом любого избегания, всяческого уклонения. Характерны в этом отношении интеллектуальные увертки того, кто, не осмеливаясь занять твердую позицию, прячется за щитом таких утверждений, как «говорят, что...», «уверяют, что...». Тот, кто так говорит, даже не отождествляет себя с этим on, а буквально прячется за него1.
Но недостаточно будет сказать, что личность бросает вызов on: самим фактом того, что она бросает ему вызов, она его разбивает. Действительно, тому, кто мне скажет: «Говорят, что король Бельгии покончил жизнь самоубийством», я отвечу или должен буду ответить: «Кто это говорит?» Вопрос, переведенный в план «кто?», располагается вне сферы on; бросая вызов противнику, я заставляю его покинуть поле боя; on по своей сути таково, что никогда не уходит. Но что значит здесь «уходить»? Это значит охарактеризовать, определить себя. В этом смысле личность – это активное отрицание on; я не могу признать on, то есть приписать ему какие-либо начатки позитивности без того, чтобы не стать его соучастником, введя его в себя самого.
Теперь мы должны проанализировать сам акт «выхода навстречу» и выявить его составляющие: среди них есть составляющие и интеллектуального порядка. В каком-то смысле «смело идти навстречу» – значит посмотреть прямо в лицо. Что же мы при этом видим?
1В то же время он обеспечивает себе алиби: это сказал не я; говорят, что... (примечание 1967 г.).








