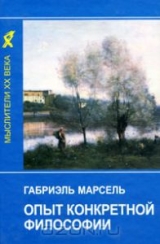
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
156
ствующих в настоящее время границ. И поскольку православные христиане, разделяя убеждение в превосходстве, можно даже сказать в трансцендентном статусе своей Церкви, согласились участвовать в экуменических конференциях, постольку можно спросить, почему католическая Церковь не сочла своим долгом принять такую установку. Отец Конгар следующим образом оправдывает такой отказ: помимо того что нелегко привести в движение, находящееся пока в своем начале и наделенное множеством преград, такое значительное и сложное образование, каковым является католическая Церковь, есть еще одно обстоятельство. Оно состоит в том, что католическая Церковь может опасаться законным образом того, что в случае ее участия в экуменических встречах чувство единства, которое для нее является самым главным, ослабнет при контакте с множеством разделенных конфессий. С другой стороны, она опасается невозможности определить саму себя в ходе этих дискуссий без смягчения той полноты, которую она носит в себе, и быть вынужденной принять на себя роль части, в то время как она на самом деле есть живая тотальность, превосходящая все ее возможные словесные выражения. Наконец, если она целиком и полностью признает (сверх церковного правления) руководство Святого Духа, которое она считает, в конце концов, данным ей и от которого единственно лишь зависит конечное единение всех христиан, если она, таким образом, склонна допустить существование предела, к которому только что обращались, и тем самым существование металогической области, то она в высшей степени готова встретить риск, могущий возникнуть при уповании на волю Бога, что впереди нас и обнаруживается в будущем. Это обусловлено, как я себе представляю, не лишенным опасностей гипотетическим характером тех предположений, которые положены в основание для этого достижения будущего, и поскольку в существе католической церкви как таковой лежит внимание к тем полным творческой силы словам и обетам, которые ее образуют, к тому смыслу, который предполагает, конечно, историю, но в то же время и превосходит ее.
Оставляя здесь в стороне рассуждения отца Конгара по поводу англиканства и православия, я хотел бы сейчас обратить внимание на две последние главы его книги, где он пытается уточнить ситуацию диссидентства по отношению к Церкви и набросать конкретную программу католического экуменизма.
Искренно верующий диссидент, если он по определению не находит в своей секте или церкви полноту принципов жизни во Христе, являющихся также и началами существования и единства Церкви, будет тем не менее членом Церкви в той несовершенной, неполной мере, в какой эти принципы имманентны его конфессии. Следовательно, Церковь имеет таких членов, которые ей принадлежат незримым образом, не полностью, но вполне реально. Проводя параллель между «хорошим еретиком» и «плохим католиком», отец Конгар замечает, что «если последний не столь хорош, то тем не менее его Церковь права, одаряя его всеми средствами стать святым, и что если первый из них лучше, зато его Церковь пребывает в заблуждении и
157
предоставляет ему лишь частичную или иллюзорную поддержку». Оставаясь в плоскости моего анализа, то есть в перспективе возможно более точного схватывания другого как другого, я считаю, что эти заявления, вполне естественные для католика, не могут не шокировать его «отколовшихся собратьев», для которых они, видимо, предназначаются. Как же они не отвергнут априори вердикт, который по определению не может не быть в их глазах ничем иным, как односторонним? На это отвечают: мы не сторона, мы не часть или партия, мы суть целое, а это вы и только вы суть одна сторона и часть. Но слишком ясно, что такой способ мысли совершенно чужд какому бы то ни было поиску истины. Подобным образом вообще отказываются от спора, если претендуют на то, что собственная позиция стоит выше самой возможности полемики.
В мои намерения не входит опровержение этой претензии, я лишь хочу подчеркнуть, что она по определению неприемлема для тех, перед лицом кого она провозглашается. И когда отец Конгар, несколько дальше в тексте, защищает Церковь от любого упрека в империализме, утверждая, что «то, чего мы хотим, это триумф не институционального аппарата, даже не совокупности истин как цельной системы, но триумф жизни», он утверждает то, что его собеседнику не может не показаться особенно высокомерным. Здесь следовало бы, как я полагаю, подвергнуть идеи относительно части и целого более строгому метафизическому анализу или, что сводится к тому же, глубже задуматься над смыслом идеи полноты. Отец Конгар подчеркивает невозможность того, чтобы собрание представителей разных конфессий имело место, если наша церковь предстанет для христиан, смотрящих на нее извне, не как полнота, а как частная конфессия, столь же частная и исключительная, как и другие «измы». Совершенно справедливо. Но, с другой стороны, поскольку такого рода теологи будут заявлять, что отколовшаяся церковь заблуждается и «не предоставляет своим членам ничего, кроме неполной и иллюзорной поддержки», постольку невозможно, чтобы католическая церковь не рассматривалась извне как наиболее исключительная, наиболее партикуляристская из всех возможных. Начиная с того момента, когда другой приводится к необходимости признать, что он не более чем часть, принимающая себя за целое перед лицом подлинного целого, с этого момента он обращается. Это – простой трюизм, на котором я тем не менее настаиваю, так как прежде всего следует подчеркнуть, что мы здесь кружимся не вокруг проблемы, понимая под ней трудность, могущую найти свое решение, спор, который может быть улажен в пользу некоторой возможной диалектики, столь же возвышенной, как и добрая воля, которая ее одушевляет. Иногда возникает искушение спросить, а не обращается ли всякая попытка выяснения ситуации, даже предпринятая в духе пламенной благорасположенности к другому, против своей цели и не рискует ли она, как я это показал выше, лишь усугубить конфликт, преодоления которого желали от всего сердца.
Вывод, который здесь напрашивается (это само собой разумеется и никто не может этого оспаривать), состоит в том, что объединение (сло
158
во «примирение» с католической точки зрения предстает неприемлемым) может быть осуществлено лишь относящимися к благодати, а не к разуму средствами, так как речь здесь идет не о проблеме, а о тайне. Тем не менее ничто не было бы столь неверным, как принятие вследствие этого пассивной установки или, если угодно, чисто выжидательной позиции... Отец Конгар сам выразил это незабываемой формулой, в которой сконцентрировано, по сути дела, все самое существенное из моих личных замечаний: «Все, что мы делаем против кого-то, будь то даже против ошибки, в силу этого не является вполне католическим делом». Это означает, что ошибка будет задета более прямым образом любым неполемическим действием, действием положительным, посредством которого католики стремятся не очистить свое учение, но воплотить его в жизнь и распространить более полным образом. Для католиков речь идет не о том, чтобы заявлять, что «наша Церковь есть универсальная Церковь, есть полнота», но о том, чтобы сделать эту истину явной не для противников (так как для них эти слова не имеют и не могут иметь никакого смысла), но для заблудших собратьев, страждущих и частично ослепленных, которых они приобщают к Жизни и Свету для того, чтобы они их сами распространяли в свою очередь.
Со своей стороны я добавлю – и не считаю, что здесь я расхожусь с отцом Конгаром, – что в настоящий момент истории любое сотрудничество между христианами-католиками и христианами-некатоликами во имя осуществления идеалов справедливости в определенной мере приготовляет путь к этому объединению, которое само по себе нелегко представить, и все это происходит в той мере, в какой такое сотрудничество преодолевает это фатальное противопоставление «нас» «им», являющееся само по себе началом взаимного возмущения друг другом, ведущего к войне.
Наконец, отец Конгар с впечатляющим мужеством заметил, что в конечном итоге в некотором смысле вполне католическая с точки зрения своих динамических возможностей Церковь «осуществляет эту католичность лишь несовершенным образом, что именно в плане несовершенства разделение христиан играет весомую роль», и то, что «наши отделенные братья отняли у Церкви и реализовали вне нас, выступает как ущерб, нанесенный нашей видимой и явной католичнос-ти». И мало сказать, что «поскольку Россия является православной, а Скандинавские страны – лютеранскими, постольку Церкви недостает своего славянского выражения, а также и северного проявления единой и многоцветной благодати Христовой. Можно также считать, что в той мере, в какой существование отколовшихся форм христианства в качестве религиозных единств нацелено на утверждение определенных ценностей, особенно острым восприятием которых они наделены, эти религиозные единства представляют собой также духовные семьи, имеющие свое собственное призвание и свою миссию». «В той мере, в какой у Лютера имеется удивительно острое переживание некоторых подлинных ценностей, – продолжает отец Конгар, – этот человек, возможно, имел своей миссией раскрыть их во благо всей
159
Церкви, став для этого избранной фигурой, но исключая эти ценности из содружества других и тем самым искажая их, примешивая к ним заблуждения, он тем самым стал центром раскола». Да, может быть, того, что является истинным в лютеровском религиозном опыте, недостает, конечно, не самой сути католической церкви, а ее воплощению, развертыванию ее жизненных начал. Со своей стороны я очень признателен отцу Конгару за то, что он с такой силой, решительностью и деликатностью указал на этот нюанс, который, будь он выражен с меньшей строгостью, грозил бы открыть путь для релятивистского толкования и тем самым по сути дела еретического. Мне вспоминается, как я однажды шокировал одного священнослужителя, резко заявив: «Нам вовсе неизвестно то, что Бог думает о Реформации». – «Я знаю, что Он думает», – возразил он. Я полагаю, что он строил иллюзии на этот счет. Ведь заблуждение, даже ошибка выполняет свою таинственную функцию в провиденциальном хозяйстве. И ни одному созданию не позволено, даже самым ученым богословам, истолковывать ее как то, «чего не должно было бы быть». Или, выражаясь более точно, по ту сторону этой перспективы существует другая, гораздо более глубокая и реальная перспектива, которая дана нам лишь как предвидение или предчувствие и которая раскроется перед нами лишь в случае исполнения времен. В свете притчи о блудном сыне можно спросить: не послужат ли в конце истории сами по себе скандальные расколы и разделения углублению содержания веры, которое без них не осуществилось бы с той же самой степенью внутренней силы?
Положительные заключения, которыми кончается книга отца Кон-гара, принадлежат к тем, под которыми подписываются не иначе как целиком и полностью, уже в силу широкого миротворческого духа, которым они окрашены. «Нам нужно обрести евангелическую, братскую, дружескую душу. Вместо того чтобы быть человеком системы, нужно стать существом причастия. И чтобы объединение показалось другим сначала возможным, затем желанным, нужно, чтобы церковь явилась им как всемирность всего Христова наследия, в которой они все хранят свои скудные сокровища, однако обогащенные и преображенные полнотой обладания и причастия. Нужно, чтобы мы явили им картину подлинной, полной, сияющей свободы, тем не менее не отвергающей авторитет глубокого смысла всемилосердного деяния Божия, авторитет веры, вписывающейся в ортодоксию Церкви посредством смирения и послушания, не утрачивая при этом реальности мистической, целиком внутренней и спонтанной...»1
1938
II Ватиканского собора? (Примечание 1966 г.)
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ДИАЛЕКТИКА ТЕРПИМОСТИ
Размышления о соотношении мнения и веры привели меня к постановке той проблемы, которой пЪсвящены нижеследующие заметки. Это, конечно, не случайно, что я использовал термин «феноменология» вместо «психология». Дело в том, что в конечном счете я не считаю правильным причислять терпимость в какой бы то ни было степени к психологической реальности. Причина этого станет скоро понятной. Мы должны будем признать, что терпимость размещается в пограничной зоне, как бы на пересечении чувства и образа действия, или поведения. «Толерантность обнаруживают». Выражение это полно смысла. Действительно, я не знаю, можно ли быть толерантным. Я полагаю, что быть – значит быть посюсторонним или потусторонним. Все это прояснится, впрочем, в дальнейшем анализе.
Прежде всего спросим: по отношению к чему мыслится терпимость? Очевидно, что являются терпимыми по отношению к чему-либо. Нет уверенности в том, что, абсолютизируя идею терпимости, ее не уничтожают или, по меньшей мере, серьезно не искажают. В общем случае терпимость относится к проявлениям верования или мнения. Это значит, что она относится к такому-то верованию или мнению не как таковым, самим по себе, но к их феноменам. Мнения и верования сами по себе располагаются вне пределов досягаемости терпимости, вне связи с ней, если не считать определенных предельных случаев. Действительно, терпимость имеется только там, где чему-то могут помешать. Но помехи встают на пути лишь того, что выходит наружу, что продуцируется вовне (в противовес тому, что происходит только во внутреннем мире души). Нужно отметить, что осуществление терпимости – далее мы увидим, каким образом, – хотя и относится лишь к обнаружениям мнений, тем не менее задевает и их. Тем самым она есть отношение к другим или к другому как к другому.
Достаточно ли сказать, что терпимость – это невмешательство, снятие запретов? Нет, я так не считаю. Конечно, глагол «проявлять терпимость» (tolerer) может попросту означать «выносить», «выдерживать». Но речь здесь идет о чем-то большем. Слово «выдерживать», впрочем, двусмысленно, так как, в конце концов, оно может означать «претерпевать». Но дело совсем в другом. Если, как это ясно, имеется набор опытов, неразличимо сопоставимых со словом «выдерживать», то в данном случае мы должны поместить себя с другой стороны этого набора. Действительно, когда я говорю: я выдержал присутствие Л. в смежной с моей (в гостинице) комнате, то я этим
6 – 10982
161
хочу сказать, что я согласился – или смирился – сосуществовать с этим лицом, хотя я мог бы и удалить его из этой комнаты. Выдержать означает здесь почти что вытерпеть. Но толерантность значит гораздо больше. Существует признание не только факта как такового, но и права, и это признание и должно стать актом гарантии. Все это приводит нас к тому, чтобы признать, что терпимость – и это мне представляется главным, – по сути дела, есть отрицание отрицания, то есть антинетерпимость. Едва ли, как мне это представляется, толерантность обнаруживается прежде нетерпимости. Она не является первичной. В сфере действия она есть то, чем является рефлексия в мире мысли. Следовательно, она непостижима без определенной силы, ее поддерживающей, к которой она как бы привязана. И чем больше она связана с состоянием слабости, тем меньше является сама собой, тем меньше она есть терпимость.
Но эта сила также не кажется мне отделимой от определенной сферы, ей присущей, по отношению к которой проявляет она свою власть или, точнее, присваивает себе право проявлять ее. Можно сказать еще и так, что она предполагает сознание своего рода мандата. Все это сразу же проясняется, как только осознается различие между терпимостью и фактом ее проявления или между нетерпимостью и фактом не терпеть что-то. Впрочем, мы можем здесь с пользой для дела задержаться на том, что я назвал бы негативной стороной проблемы. Различие, которое я отметил, не абсолютно. Как и в других случаях, речь идет скорее о ряде нюансов. Так, если я говорю, что я не терплю, чтобы передо мною выступали с такими-то речами, то здесь глагол «проявлять терпимость» имеет почти смысл «выдерживать». Но тем не менее остается и возможность мыслить наличие упомянутого выше мандата. Действительно, примем, что я заявляю: я не могу проявить терпимость, когда передо мной защищают педерастию. Это означает, что такая защита не только в высшей степени неприятна для меня как конкретного, частного лица. Я еще не могу ее принять и в силу того, что представляю в своем лице порядочных людей. Английское выражение «to stand for» в данном случае лучше бы подошло, чем слово «представлять». Здесь как бы имеется образ множества тех честных людей, отсутствие которых используется для защиты педерастии. Но при этом не говорится, что в моем присутствии (а я выступаю как бы делегированным этими людьми) такие шокирующие речи останутся безнаказанными. Дело прояснится тогда, когда возникнет некий знак у меня, а не просто передо мной, вовне. Предмет, о котором идет речь, обнаружится здесь как действительно сопоставимый со своего рода святилищем, внутри которого определенного рода слова или действия богохульного свойства не могут быть приняты. При этом существенной является спецификация в качестве такого-то. Например, отец семейства, который не потерпит, чтобы за его столом, в присутствии его детей, чужаком говорились бы некие провокационные, подрывные слова, скажет сразу же этому незнакомцу: «Вы понимаете, что когда мы с вами останем-
162
ся наедине, то вы можете говорить все, что вам угодно. Но в присутствии моей жены и моих детей это – совсем другое дело. В качестве отца и главы семьи я не могу терпеть...» Будем говорить здесь не о нетерпимости (intolerance), но о не-терпимости (non-tolerance), так как, размышляя, я вижу, что нетерпимость в собственном смысле слова во многих случаях является скорее противо-терпимостью. Отказ проявить терпимость, следовательно, оправдывается обязанностью хранить нечто. «Речь не идет обо мне, речь не идет о том, что я чувствую. Но речь идет об определенном достоянии, мне доверенном, и по отношению к которому я не могу – не имею права – допустить, чтобы оно было задето». Скажем еще раз: моя личность здесь не обсуждается, но во имя священных интересов, которые я представляю и защищаю, я должен вам запретить... Я выступаю как бы часовым на передовом рубеже. «Я не могу вам позволить вклиниться в ту зону, которая находится под моей защитой. Это было бы предательством по отношению к моим мандатам. И именно ради них я обнаруживаю свою нетерпимость».
Здесь, конечно, открывается широчайшее поле для исследований. Я не имею в виду лишь внутреннюю искренность того, кто говорит так, ту искренность, которая всегда может быть оспорена. Более существенно то, что нужно спросить о природе или о правомочности мандата самого по себе. Кто дал мне право представлять такие высшие интересы, относительно которых я заявляю, что они не являются моими в узком смысле слова? Несомненно, нужно будет вернуться к этому вопросу в дальнейшем.
Если теперь мы перейдем к самой терпимости, то увидим, как проблема значительным образом усложняется. Действительно, терпимость имеет то общее с нетерпимостью, что она также осуществляется во имя чего-то, ради какого-то высшего интереса. И в высшей степени интересно заметить, что в обоих случаях, под покровом утверждения, лицемерие или ханжество всегда могут быть пущены в игру.
Но мне представляется необходимым сразу же различить два случая: или я лично принимаю позицию, противоположную той, которая выражается в проявлениях, требующих обнаружения терпимости по отношению к ним, или же я, напротив, придерживаюсь нейтралитета, то есть индифферентен перед лицом одной позиции и другой, ей противоположной.
Возьмем первый случай. У меня есть определенные мнения, но я показываю себя терпимым по отношению к тем, кто придерживается противоположных мнений. И это означает не только то, что я воздерживаюсь от борьбы с ними. Я им гарантирую полную свободу в той мере, в какой это зависит от меня, я препятствую тому, чтобы мешали собраниям тех, кто разделяет их позицию, чтобы срывали их церемонии и т. п. Все это—противо-нетерпимость, о которой я говорил выше. Но как возможна такая установка? Включает ли она и возражение в свой адрес или оппонирование? Нам нужно теперь спросить, какая связь соединяет меня с моим мнением и каким образом я формирую
б*
163
изнутри позицию по отношению к мнению другого. Вопрос, который здесь встает, касается условия терпимости, а именно не под прикрытием ли некоторого ослабления связи, которая соединяет меня с моим мнением, я могу соблюдать толерантную установку по отношению к противнику (который, следовательно, перестает быть противником и становится соседом). В итоге не в той ли мере, в какой я придаю меньше значимости моему собственному мнению (и в какой я тем самым менее в нем уверен), я склоняюсь к тому, чтобы свидетельствовать по отношению к другому более широкую терпимость? Терпимость в таком случае оказывается в конце концов плодом определенного скепсиса, который, впрочем, может осознаваться в очень слабой мере. Таково вступительное замечание, на которое я сослался в начале этого очерка: не в том ли дело, что, поскольку верование стало мнением или, точнее, устремилось к тому, чтобы так себя квалифицировать, оно и смогло войти в мир? Конечно, я не считаю, что эта гипотеза должна быть просто и безоговорочно отвергнута. Но истина мне представляется куда более сложной. Можно себе представить в точности противоположную диалектику, и это как раз то, что мне теперь необходимо подчеркнуть. Поскольку я дорожу своим мнением и сознаю это, постольку возможно (при условии, что я хорошо представляю себе другого и ту связь, которая соединяет его с его мнением), чтобы я поставил себя на место другого и тем самым представил бы это мнение как достойное уважения именно в силу глубокой убежденности, с которой оно разделяется. Очевидно, что сознание моей убежденности в моих мнениях подтверждает для меня его, другого, убежденность в его мнениях. Напротив, если я настроен скептически, то не склонен относиться всерьез к любым убеждениям (с этой точки зрения если здесь и есть терпимость, то это терпимость с деградированным смыслом, в той мере, в какой терпимость есть равнодушие и ничего другого). Я подчеркиваю, что все это возможно, но здесь нет фатальности, и мы увидим почему.
Что же акцентируется в том случае, к которому я только что привлек внимание? Единственно сам субъект, его собственная определенность или же то движение, посредством которого он устремлен к некоторому утверждению. Я бы это пояснил так: я признаю относительно себя самого, что ценность верования состоит в том, что оно выражает саму суть моего существа, мою реальность как субъекта. Отталкиваясь от этого сознания, я признаю, что чужое верование предстает передо мной тоже как выражение – пусть и другое, отличное – личной реальности, другой личной реальности, которая также должна быть защищена. И любая персоналистская попытка (в широком смысле слова «персонализм») обосновать, узаконить терпимость, как мне представляется, будет опираться на такую предпосылку.
С другой стороны, есть трудность, которой мы не можем избежать. Рассматривая верование как способ осуществления личности, не пытаюсь ли я отвлечься от объекта, с которым оно связано, или, другими словами, от его направленности? Если считать мое собственное верование выражением меня самого, то не означает ли это неким
164
образом предать его, сдвинув центр его тяжести от объекта к субъекту? Не правда ли, что в самом этом предательстве кроется исток терпимости, его корень? Действительно, продумаем вновь всю проблему, фокусируя на этот раз значение понятия верования на объекте. И что же мы тогда обнаружим? Я верю в некоторую реальность, иначе говоря, в то, что эта реальность действует на меня как своего рода магнит и что характеристики моего верования диктуются мне самой этой реальностью, причем я сам способностью выбора в данном случае вряд ли обладаю. Но эта реальность, поскольку я верю в нее, не может не представляться мне долженствующей привлечь к себе внимание всех, как если бы она наделила мое верование в нее неопределенной силой распространения, в ходе которого оно встречает противоположные верования, на которые оно натыкается, как на преграды. Заметим мимоходом, что как верующий, стремящийся к обращению других, я проверяю то, что мы выше говорили о роли представления, мандата или наделения правом в акте терпимости или нетерпимости (я выступаю в качестве распространителя веры, и мне кажется, что отказ от обращения тех, кто не верит в то, во что верю я, послужил бы к обвинению меня в вялости). И чем сильнее моя мысль сосредоточивается на объекте моей веры, тем с большей необходимостью я буду расположен списывать на счет заблуждения ту оппозицию, которую встречает моя приверженность этой вере. Так как, действительно, если я, принимая во внимание исключительно субъекта, мог легко установить своего рода равноправие или равноценность верований, понимаемых как способы выражения личности, то теперь это уже не так. Как в этом случае я мог бы признать за объектом ложного верования что-либо подобное той абсолютной привилегии, которой пользуется объект моего собственного верования? Это невозможно без впадения в противоречия агностицизма, без того, чтобы моя вера подвергала отрицанию саму себя.
Скажут, что подобная приверженность еще не есть сама по себе нетерпимость. Во всяком случае, если мы вспомним, как я охарактеризовал проявляемую в действии терпимость – как признание и гарантию, данную другому, – то ясно увидим возникающую здесь трудность. В той мере, в какой я объект моей веры рассматриваю как священный, разве мне не воспрещается допускать в себе склонность поддерживать неверующего в его неверии? И более того, разве мне не предписано или, по меньшей мере, рекомендовано бороться против печального использования его, неверующего, собственной свободы (в том смысле, в каком я должен помешать ребенку или неуравновешенному человеку посягать на свою собственную безопасность или безопасность окружающих)?
Сколь ни кажется правдоподобной аргументация такого рода, мы чувствуем, однако, что она не является и не может являться определяющей, что в ней содержится ошибка, более того, мы чувствуем, что само дело дискредитируется в той мере, в какой оно использует диалектику подобного толка. Мы принимаем положение (но это убеждение недостаточно и требует своего обоснования), что пущенные в
165
действие средства в конце концов компрометируют саму цель и ведут к ее деградации, хотя они и должны ей подчиняться. «Ужасное в преступлениях против духа в том, – писала Генриетта Вальц, – что, как только хотят их разоблачить или наказать, сразу же вовлекаются в такие же насилия, в те же злоупотребления и эксцессы, против которых только что восстали». Но основной вопрос в том, чтобы узнать, на каком принципе можно основать терпимость, которая в действительности была бы противо-нетерпимостью и тем не менее являлась бы не выражением или свидетельством радикального скептицизма, но, напротив, живым воплощением веры.
Прежде всего нужно на самом деле подвергнуть тщательному анализу совокупность предпосылок, прикрывающих нетерпимость там, где она вполне сознает себя и пытается самооправдаться, тех предпосылок, о которых нельзя точно сказать, принадлежат ли они миру интеллекта или же миру аффектов, но которые тем не менее отвечают состоянию недоверия или опасения. «Если я не наведу порядок, то есть если я не найду средства, чтобы приостановить развитие подрывного мнения и воспрепятствовать его проявлениям, то ряд губительных последствий неминуемо возникнет». Другими словами, я признаю, что несу ответственность аналогичную той, которая выпала бы на мою долю, если бы я, врач, должен был остановить распространение эпидемии. В таком случае я не только должен был бы принять определенные профилактические меры, но и обнаружить причину бедствия и попытаться непосредственно воздействовать на нее. Я не мог бы в любом случае допустить, чтобы мне противопоставляли право людей подвергаться заразе и при случае заражать других. Такого права не существует, его нет, оно должно быть целиком и полностью отвергнуто. Могут заметить, что этот случай совершенно особый, так как врач опирается на объективную достоверность, не имеющую ничего общего с религиозным или моральным верованием, по необходимости наделенным некоторой минимальной неопределенностью, причем во имя этого верования не имеют права препятствовать другому верованию, имеющему некоторый шанс соответствовать истине. Я считаю, что вопрос стоит не так. Напротив, мы обязаны (чтобы по возможности ухватить эту трудность) поставить себя на место того, чья вера предстает абсолютной и чья возможность заблуждения не учитывается. И настоящий вопрос состоит в том, чтобы узнать, исключает ли уверенность, которую считают полной и посредством которой эта душа вступает в истину, любую возможность для себя свидетельствовать о реальной терпимости по отношению к тем, кто думает иначе.
Прежде всего следует спросить, о ком мы говорим, кого конкретно имеем в виду. Я только что употребил такое выражение, как если бы речь шла об индивидуальной душе: размышление показывает, однако, что это не так. Если речь идет действительно о религиозном веровании в самом глубоком смысле слова, то субъект, который здесь имеется в виду, должен совмещать в себе мирскую силу с авторитетом в мире догматов, которым наделена исключительно церковь.
166
Очевидно, что такое совмещение сегодня трудно представить, так что его субъект отвечает лишь предельному случаю. Тем не менее мы должны от этой трудности в какой-то степени абстрагироваться и действовать так, как если бы проблема стояла перед верующим, наделенным силой действовать.
Возвращаясь к случаю с врачом, борющимся с эпидемией, мы скажем, что речь здесь шла о восстановлении естественного порядка, который на самом деле может быть восстановлен лишь при условии действия воль, нацеленных на объект во имя нормы, представляющейся безусловной. Неприемлемо, чтобы лечащий врач, как врач, был бы остановлен той идеей, что эпидемия, возможно, есть проявление небесного гнева, что в качестве таковой она должна уважаться и что при попытке ее остановить был бы нарушен высший закон. Мысля так и действуя соответствующим образом, врач поставил бы себя вне общества и был бы оценен как безумец. Случай разномыслия, или гетеро-доксии, рассматриваемый с позиций ортодоксии, очевидно, совершенно иной. Надо только точно установить, в чем же это отличие. Цель, которую ставит перед собой ортодоксально верующий, это – служение Богу, следование Божьей воле. Но мы должны будем спросить, а не ставит ли он вместо этой воли, которой он определенным образом служит, просто обыкновенного идола и не делается ли он в таком случае бессознательным виновником самого коварного предательства? Существенной данностью в этом плане является трансцендентность, я скажу даже, сам факт трансценденции, хотя такое выражение и может шокировать, поскольку то, что в одном смысле есть абсолютный факт, в другом – вовсе фактом не является и никоим образом не может быть данностью. Мы увидим, как значение слова «трансценденция» уточняется благодаря характеру отношения, которое может установиться между божественной волей и моей волей, более конкретно, благодаря характеру призыва, в котором божественная воля может представляться как обращающаяся к моей собственной воле на том уровне, где моя свобода должна проявиться по отношению к другим свободам. Речь здесь идет о тройственном соотношении. И как при этом не видеть, что служить этой божественной воле означает здесь быть посредником между нею и другим сознанием, которое в случае, нас занимающем, я предполагаю ослепленным? Это означает поступать так, чтобы подобное ослепленное сознание обратилось к воле, которой я служу, чтобы оно открылось свету, который, как я считаю, меня освещает и ведет. Прежде всего для этого нужно, чтобы у этого другого сознания не возникло чувства, что я действую от себя лично, и чтобы оно не усматривало в том, что я называю божественной волей, которую оно еще не признает, – просто маску, которой я прикрываю мнения, будучи к ним привязан, как бывают привязаны к самому себе. У другого сознания не должно также сложиться мнения, что моя позиция обнаруживает желание проявить свою силу, заставив другого войти в тот мир, где я являюсь центром или, как считают, его гарантом. Совершенно очевидно, что только любовью, проявляемой по отношению к этой








