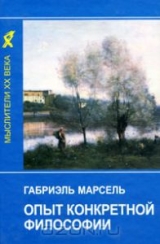
Текст книги "Опыт конкретной философии"
Автор книги: Габриэль Марсель
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Но как в таком случае я смог написать: «Доступное инвентаризации открывает простор для отчаяния»? Это – очень важное для меня наблюдение, так как в нем я вижу корень того, что я склонен назвать трагедией владения, или имения (de Г avoir). Как мне представляет
1 в действительности, конкретным образом (лат.).
56
ся, объяснение данного парадокса кроется в том, что эта мощь, эта бесконечная власть, применена здесь к тому, что она превосходит во всех смыслах. Чтобы конкретизировать мысль, я бы указал на впечатление зависания в тревоге, как бы с балкона над пустотой. В данном месте следовало бы соотнестись с чрезвычайно точными переживаниями или опытами того порядка, которые на первый взгляд могут показаться элементарными.
Представим себе такую ситуацию. С некоторого времени я нахожусь в одном месте, возможности которого мне сначала показались неисчерпаемыми, но мало-помалу я обошел все тропинки, осмотрел все «достопримечательности». И «от я охвачен каким-то нетерпением, скукой, отвращением. Я чувствую себя как в тюрьме. Место, где я нахожусь, представляется мне лишь набором возможных опытов, причем эти опыты уже пережиты. Впрочем, я не могу добиться того, чтобы мое состояние было понято другим, кто живет в этом же самом месте в течение многих лет, участвуя в его жизни в том смысле, что оно, напротив, имеет в себе нечто не подлежащее счету и, следовательно, не могущее быть исчерпанным. Совершенно ясно, что между ним и этим местом или местностью образовалась определенная живая связь. Напротив, с моей стороны нет ничего подобного. Я пришел сюда только для того, чтобы обогатить мое «имение» некоторым числом пронумерованных «деталей» или «вещей».
Я знаю, что это все только некоторая схематизация, но ей я придаю тем большее значение, что в жизни, я это констатирую с сожалением, я сам слишком часто настроен вести себя как такой коллекционер. Почему так происходит? Откуда это нетерпение? В основе подобной жадности, конечно, лежит сознание времени, которое проходит, сознание необратимости. Жизнь коротка, и надо прибавить к ней то и это. Но в то же время, когда я размышляю о ценности, которую может представлять собой подобное накопление, она мне представляется смехотворной. И что значит то, что я смог бы узнать и присоединить к себе, по сравнению с тем, чего я не могу увидеть, что мне не удастся ассимилировать? И здесь меня поджидает отчаяние, я как бы попадаю в окружение. И чувствую: это – тюрьма.
Если бы мы углубились в анализ этого примера в большей степени, чем я могу в данный момент, то, как мне кажется, мы бы отдали себе отчет в том, что там, где вступает в игру творческий обмен, где имеет место реальное укоренение, там слово «данность» утрачивает свой смысл и вместе с тем преодолевается сфера проблематического. Быть может, эта связь между данностью и проблематическим выявится более ясно, если мы обратимся к другому примеру, касающемуся опыта других.
Конечно, я могу рассматривать такую-то личность как своего рода минерал, из которого я могу извлечь, так сказать, определенную долю полезного металла. Все остальное для меня в таком случае не более чем отходы, которые я отбрасываю. Определяющим здесь выступает
57
критерий интереса, причем слово это не обязательно брать в его узкоутилитарном смысле*. Распространение анкетирования и интервью, конечно, подкрепило несостоятельное мнение, согласно которому живое существо ценно в той мере, в какой оно «интересно».
Здесь также в центре стоит коллекционирование. Я учреждаю в себе некое подобие библиотеки или музея, в которое требуется внести интересные элементы, поставляемые моим общением с другим. Речь идет о таком общении, в котором я ничего не даю другому – кроме того, что требуется, чтобы развязать его способность давать мне такие ответы, какие мне хочется получить. Ясно, что мой собеседник при этом никоим образом не рассматривается как живое существо. Он, по правде говоря, не является даже другим, так как в таком отношении, фиктивном и безжизненном, я и сам не выступаю как реальное существо.
«Другой как другой существует для меня лишь постольку, поскольку я открыт по отношению к нему, но я открыт в той мере, в какой я больше не черчу своего рода круг, в рамки которого я загоняю другого или, скорее, его идею. Ведь по отношению к такому кругу или в его рамках другой становится идеей другого, а идея другого – это уже больше не другой в качестве другого, это другой, взятый в связи со мной, разобранный, расчлененный или же находящийся в процессе разборки»1.
Но начиная с того момента, когда между мной и другим устанавливается коммуникация, мы переходим из одного мира в другой, внедряясь в ту зону, где один из нас не находится лишь среди других и где трансценденция принимает вид блаженства любви. Категория данности здесь преодолевается. «Никогда достаточно, всегда – больше, всегда – еще ближе» – вот простые слова, выражающие со всей очевидностью изменение перспективы, впрочем, частичное изменение, которое я стараюсь выразить. Тем не менее имеется один смысл, в котором ты мне дан, оставляющий нас в сфере проблематического вместе со всем, что оно может принести с собой неопределенного, сомнительного, ревнивого. Это – деградированное состояние, состоящее в том, что «ты» не выдерживает себя в качестве «ты». Но в некотором смысле его может и не быть. (Надо прочесть, например, «Исчезнувшую Альбертину» Пруста, прочесть в свете этих связей между данностью и сферой проблематического. У Пруста «ты» моментально превращается в «он(а)». Имманентная структура опыта безжалостно направлена на то, чтобы содействовать такому превращению.) Здесь отсутствие и смерть играют существенную роль.
Некоторые читатели могут поразиться тому месту, которое в моих сочинениях занимают смерть, самоубийство, предательство. Я считаю, что это место никогда не является слишком значительным и что любая философия, стремящаяся их избежать или смазать, тем самым
'Etre et Avoir. P. 155.
58
становится виновной в худшем из возможных предательств. Она, впрочем, неизбежно оказывается наказанной в том смысле, что срывается с маршрута, если использовать язык альпинистов. Впрочем, это сравнение можно было бы продолжить и дальше. Но столь же нужно указать и на существенное различие. Если для альпиниста головокружение является препятствием, подлежащим устранению, то я не побоюсь сказать, что для всякой метафизической мысли головокружение образует ее позитивное условие. Действительно, определенное сознание, определенное очарование бездной, возможно, необходимо для утверждения бытия в его полноте.
Отсутствие, смерть – в «Быть и иметь», так же как в «Онтологической тайне», – истолковываются как испытания. Понятие испытания имеет здесь существенное значение – и именно это я бы хотел здесь уточнить, – тем более что определенного рода религиозная проповедь, возможно, склонна была его невольно затенять. Ле Сенн подхватил идею испытания в своей работе «Препятствие и ценность». В значительной мере я согласен с ним, но я не знаю, доходит ли это согласие до совпадения наших взглядов. Я не буду при этом исходить из дефиниции этого понятия, которая должна быть конечным пунктом исследования. Слову «испытание» я придаю здесь grosso modo1 тот смысл, который имеется в выражениях типа «подвергнуть произведение, чувство испытанию временем». В данном случае я буду действовать так, как я привык, то есть анализируя конкретный случай. Например, двое молодых людей любят друг друга, будучи сами неуверены в прочности испытываемых ими чувств. В общем случае, по правде говоря, подобная неуверенность предчувствуется скорее их окружением, но здесь это неважно. Они решают (или за них решают), что какое-то время они будут жить в разлуке. Если их любовь выдержит это испытание, то они отсюда заключат (или заключат другие за них), что им разумно пожениться. Время и разлука не являются здесь только преградой, сопротивлением. Скорее это сопротивление будет использовано и ему будет придано значение трамплина. Это значение состоит в том, чтобы сделать возможным то, что можно назвать перенесенным вовнутрь конфликтом, внутренней конфронтацией. Чувство этих людей приобретает характер абсолюта, но при этом вмешивается рефлексия (исходит ли она от них самих или от их родителей), с тем чтобы придать этому абсолюту известную гипотетичность: а не ошибаетесь ли вы? Не ошибаемся ли мы относительно качества, реальной силы этого чувства? Реальной – подчеркнем это слово. Вопрос о реальности, совпадающий здесь с вопросом о значении или подлинности, тем самым поставлен. И именно на этот вопрос испытание позволяет ответить. Не будем обманываться словами. Время само по себе или разлука не судят, не решают. Но они проясняют сознание, позволяя ему сориентироваться в нем самом. Год спустя молодые люди встречаются, они признают, что...
1 в общих чертах, приблизительно (шпал.).
59
Анализ этой ситуации, я полагаю, направлен на то, чтобы быстро продвинуть наше размышление. Испытание позволяет нам отвести непосредственный опыт. Речь идет об отводе, пусть гипотетическом, значимости непосредственного опыта. В таком опыте мне кажется, что я всецело погружен в то, что я чувствую в данный момент. Но это может быть обманчивой кажимостью, так как я не в состоянии при этом выносить решение о данном опыте. Тем самым я прихожу по крайней мере к тому, чтобы достаточным образом отделиться от моего непосредственного чувства для того, чтобы быть в состоянии поставить вопрос о нем. И собственная функция испытания как раз и состоит в том, чтобы сделать возможным обдуманное суждение, позволяющее оценивать с оглядкой на реальность непосредственное утверждение, возникшее вначале. Но то, что следует отметить и что, на мой взгляд, представляет первостепенную важность, – это зависимость всей ситуации от свободы, и только от нее. Существенным моментом для испытания является возможность непризнания его в качестве испытания. Может быть, охваченные упрямством, наши молодые люди откажутся признать, что их чувство не выдержало проверки, и объявят, что все остается на своих местах и что они поженятся во что бы то ни стало, что бы о том ни говорилось.
В этом случае мы имеем дело с относительно простыми исходными данными, так как мы можем отождествить длительность и реальность без какой-либо натяжки. Испытание временем позволит, таким образом, узнать, было ли чувство устойчивым или же нет.
Но возможно теряющееся в неопределенности углубление ситуации. Так, если мы пытаемся применить идею испытания к страданию и смерти, то в анализ привходят новые данности – и здесь необходимы все предосторожности, которыми некоторые нескромные апологеты иногда пренебрегают. Вот, например, больной человек, давно разбитый параличом. Он осознает, что смерть положит конец его мукам. К нему приходит священник и с наилучшими намерениями говорит ему: «Возблагодарите Господа за милость, которую Он вам оказал. Эти страдания посланы вам для того, чтобы вы имели случай заслужить небесное блаженство». С полным основанием следует опасаться того, что таким образом представленные уверения могут вызвать у больного лишь протест и отрицательную реакцию. Забудем на мгновение, что речь идет о «ком-то другом». Поставим себя на место больного: что это за Бог, который мучает меня в моих же собственных интересах? И по какому праву? А вы сами? Какими качествами вы обладаете, чтобы служить посредником у этого жестокого и лицемерного Бога? Вы не можете делать того, что вы делаете, так как вы не в состоянии даже представить себе моих страданий, ибо они не являются вашими, и вы имели бы право сказать мне эти слова лишь в том случае, если бы вы сами страдали, как я...
60
Теперь я хотел бы прояснить эту же самую ситуацию с точки зрения конкретной философии. Прежде всего нужно преодолеть позицию внешнего наблюдателя. В данном случае философ должен настолько глубоко проникнуться симпатией к больному, чтобы самому стать больным. Нужно, чтобы больной услышал те же самые слова, но так, как если бы они звучали в самых интимных глубинах его собственного сознания. Мысль может быть здесь только личной, сосредоточенно-медитативной. Конечно, я могу всецело отдаться моему страданию, раствориться в нем, и это – ужасный соблазн. Я могу встроиться в свое страдание, провозглашенное абсолютно бессмысленным. Но так как оно для меня выступает центром мира, то он, будучи центрирован на бессмыслице, сам становится абсолютным абсурдом. И такая позиция не просто абстрактная возможность, но порой почти неодолимое искушение. И сколь бы ограниченной ни была сфера моей деятельности, от меня зависит, буду ли я продолжать утверждать, что мир абсолютно лишен смысла, проверять это утверждение, распространять, способствовать тому, чтобы внушить его тем, кто с ходу и не согласился бы с ним. Ясно, что увеличение объема бессмыслицы в мире в моей власти. И нужно даже сказать больше: мы должны признать, что мир принимает это свое осуждение, он готов к тому, чтобы выслушать приговор, и в некотором смысле он его призывает, поскольку тот ему кажется оправданным. Но является ли это фатальным следствием той ситуации, в которую я попал? Вот это я не могу утверждать. Каким бы неопределенным ни казался мне выбор в этой ситуации, он мне, по-видимому, оставлен. Конечно, ничто не смогло бы обязать меня придать смысл моему страданию. Нельзя с помощью наставления научить меня тому, что оно имеет смысл. Как мы видели, это претенциозное наставление всегда будет грозить возбудить во мне дух противоречия, самый разрушительный из всех духов. Но из своей собственной глубины я могу сам попытаться признать этот смысл или же создать его. Я неразличимо употребляю эти слова, которые в данном случае совпадают. Однако здесь требуется, чтобы я сначала понял одну вещь: строго говоря, я не могу констатировать, что мое страдание не имеет смысла. Смысл есть не более чем его констатация. Точно так же, как и отсутствие смысла. Смысл творится духовным актом. Поэтому считать, что мое страдание не имеет смысла, – значит отказывать мне в принятии того, что оно им обладает. И если углубить анализ, то это означает отступить именно там, где во мне может начаться некое созидание. Это прояснится в некоторой степени, если подумать о той ситуации, в которую ставит меня страдание по отношению к другим людям. Оно может быть для меня поводом сосредоточиться на себе, погрузиться в самого себя, замкнуться или же, напротив, раскрыться по отношению к другим страданиям, чего раньше я и не мог себе вообразить. И именно здесь мы ясно видим, что же означает испы
61
тание. То, что при этом выявляется, это – его творческое истолкование, понимание его как творчества. Я могу отказаться рассматривать страдание как испытание, отказаться подвергнуть себя как реальность испытанию страданием – это я могу. Но какой ценой? Не будем обманываться словами. В таком отказе я утверждаю самого себя, но с какими качествами? Я утверждаю себя как чистый источник требований перед лицом абсурдного и жестокого мира. Но размышление мне говорит, что сама подобная ситуация абсурдна. Ведь всякое требование предполагает инстанцию, которой оно адресуется. Но в данном случае такая инстанция немыслима, и тем самым требование сразу же превращается в ничто, точно так же как кончается протест того, кто верил, что говорит с кем-то, а затем заметил, что стоит один.
Полагаю, что в этом пункте анализа мне попытаются возразить. Мне скажут, что таким образом понимаемое испытание отвечает лишь крайним случаям, которые если и не принуждают меня, то приглашают спросить у себя самого, кто же я такой. И здесь мы сталкиваемся с конкретной иллюстрацией той диалектики, которую я рассмотрел выше, в начале моего изложения. Но, скажут, разве наша жизнь не разворачивается в нормальных, усредненных обстоятельствах, не соседствующих с бездной?
Прежде всего надо сказать – но мы не должны ограничиться этим ответом, – что между нормальными обстоятельствами и обстоятельствами экстремальными, если поразмыслить об этом, строго говоря, нет противоположности. Образец экстремального обстоятельства – непосредственная близость смерти. Никто из нас не может быть уверен, что его смерть не является неизбежной. И если, как это можно принять, точка зрения философа совпадает с позицией вполне проснувшегося человека, то позволительно считать, что он должен рассматривать мир в свете этой угрозы, и тогда нормальное состояние и есть экстремальное. И тем не менее это всего лишь один аспект или часть истины. Не менее верно и то (и, возможно, еще более существенно), что нужно декларировать наш долг жить и работать каждое мгновение так, как если бы мы имели целую вечность перед собой. В этом скрывается антиномия, которую нетрудно выявить: антиномия таинственной связи между моим бытием и моей жизнью. И здесь я хотел бы сказать несколько слов об одном соотношении из числа тех самых важных и глубоко запрятанных, которые я пытался прояснить в моей книге.
Тот, кто отдает свою жизнь за торжество какого-то дела, сознает, что он все отдает и совершает полное самопожертвование. Но даже если он идет на верную гибель, то это не самоубийство, и, говоря метафизически, между самопожертвованием и самоубийством лежит пропасть. Почему? Здесь требуется ввести понятия ресурса свободы как открытости другому и соответственно его отсутствия. Тот, кто отдает свою жизнь, отдает, несомненно, все, но
62
отдает ради того, что утверждает рост его бытия, повышает его ценность. Он отдает свою жизнь в распоряжение этой высшей реальности, достигая пределов использования своей способности открываться навстречу другому, что и выражается в факте посвящения себя делу или какому-то существу. Тем самым он доказывает, что поставил, я осмелюсь даже сказать, разместил свое бытие по ту сторону своей жизни. Нет и не может существовать самопожертвования без надежды, размещаемой в утверждаемом онтологическом измерении. В основе самоубийства, напротив, лежит отрицание. И если существует восклицание, характерное для намеревающегося покончить с собой, то это: хватит! Покончить с собой означает если и не сознательное желание лишиться свободных ресурсов своего существа, то, во всяком случае, не заботиться о том, чтобы хранить их для других. Самоубийство есть существенным образом отказ, отставка. Самопожертвование же есть существенным образом принятие (все мирские критики аскетизма не распознали этого и тем самым промахнулись).
Все эти замечания носят, конечно, феноменологический характер, но открывают путь для сверхфеноменологической рефлексии, которая и есть метафизика. Верит ли человек или не верит в жизнь вечную, но на самом деле, если он жертвует собой, то действует тем самым так, как если бы верил. Тот же, кто кончает с собой в акте самоубийства, действует так, как если бы он не верил. Но философ здесь не может довольствоваться формой «как если бы». Что бы ни думал об этом Файхингер*, любая философия, основывающаяся на «как если бы», является противоречивой. Любая подлинная философия есть активное отрицание «как если бы». И здесь нам поможет некоторое предваряющее размышление. Ничто не может так мало помочь нам понять человека, его подлинную суть, его действительную ценность, как знание его мнений. Мнения ничего не стоят, и, если бы у меня было время, я бы с радостью доказал это во всех деталях и вывел бы из этих доказательств те заключения, которые значимы в мире политики. Проблема, которая здесь возникает, состоит в следующем: а не доказывает ли жертвующий собой неверующий (вопреки атеистическим и незначащим оправданиям, которые он дает, или как ему кажется дает, своему самопожертвованию) истину, которую он сам как неверующий отрицает? Напомним в этой связи текст Пруста в «Пленнице» (1, с. 256), который я процитирую в сокращении: «Все эти обязательства, не имеющие своей санкции в этом мире, кажутся принадлежащими другому миру,., совершенно отличному от этого мира, тому миру, из которого мы исходим с тем, чтобы родиться на этой земле прежде, чем, возможно, вернуться туда, чтобы снова жить под властью этих неведомых законов, которым мы подчинялись потому, что несли в себе их наставление, не зная, кто же его в нас вложил... Таким образом, идея, что Бергот никогда не умирал, не была неправдоподоб
63
ной». Здесь мы сталкиваемся с одной из платоновских интуиции, столь редких в творчестве Пруста, опровергающих его основное, неплатоновское, содержание*.
Но если такая сверхфеноменологическая рефлексия возможна, то это означает, что мы проникаем здесь в метафизическую область. Представленные в «Быть и иметь» толкования верности, веры, надежды совершенно непонятны, если не понято различие между проблемой и тайной. Один мой друг, философ, по поводу этой книги сказал: «Она сильнее волнует, сильнее захватывает, чем «Метафизический дневник», но зато эта книга мне кажется менее позитивной». Я оставляю в стороне эмоциональную сторону, так как не мне об этом судить. Но я могу сказать, что если не понимают, что эта книга является как раз в высшей степени позитивной по содержанию, то при этом упускают самое существенное в ней. Я понимаю, что мне на это могут возразить, и тогда для меня представится возможность объясниться, насколько это возможно, в данном деликатном вопросе. Мне скажут: «Да, это положительная, или позитивная, книга в той мере, в какой она написана католиком. Но не разделяющие вашу веру подведены вашим размышлением в ней к подножию неодолимой для них стены. И в этом смысле ваш друг был прав. В общем плане острой проблемой для читателя вашей книги является соотношение между конкретной философией и философией христианской. Не переходят ли незаметным образом, согласно вашей позиции, от одного к другому? Как же это возможно без софизма? Кроме того, рассуждая с христианской точки зрения, не означает ли это некоторую рационализацию или натурализацию сверхъестественного? Даже само употребление термина «тайна» по природе своей не может не приводить к блужданию мысли».
Здесь возникает один вопрос, который уже сам по себе достоин развернутого анализа. Я же смогу на него ответить лишь самым общим образом.
Сначала примем во внимание две очевидности. Конечно, приверженец конкретной философии, как я ее понимаю, не является необходимым образом христианином. Строго говоря, нельзя даже сказать, что, принимая эту философию, он вступает на путь, который должен привести его к христианству. Напротив, я думаю, что христианин, являющийся философом и могущий проникнуть за декорацию схоластических формул, которыми его угощали слишком часто, почти неизбежно пришел бы к основным положениям того, что я назвал конкретной философией (если он не присоединится только к идеализму Брюнсвика или даже Гамелена). Но все это еще только достаточно внешние ответы.
Прежде всего я бы сказал, что, по моему мнению, конкретная философия по крайней мере не может не быть намагниченной, хотя бы и без ее ведома, положениями христианства. Полагаю, это не будет скандалом. Для христианина очевидно существенное соответствие
64
между христианством и человеческой природой. И поэтому чем глубже проникают в природу человека, тем роль христианской ориентации возрастает. Я же только напомню о том, о чем уже сказал в начале: философ, упорно настаивающий на том, чтобы мыслить исключительно в качестве философа, тем самым помещает себя вне опыта, за пределы сферы человека, однако философия есть возвышение опыта, а не его кастрация.
Что же касается двусмысленности слова «тайна», то мне кажется неприемлемым для ума считать, что таинства веры накладываются на полностью доступный проблематизации мир и, следовательно, на мир, лишенный онтологической глубины, пронизываемый разумом, как лучом света, проходящего сквозь кристалл. Но столь же не то чтобы, может быть, нерационально, но неразумно считать, что мир этот укоренен в бытии и, следовательно, превосходит во всех смыслах локальные проблемы, само локализованное решение которых позволяет технически манипулировать вещами. О воплощении я говорил в чисто философском смысле, и это воплощение – мое, ваше – так относится к догмату о Воплощении, как философские тайны относятся к таинствам откровения.
«Признание онтологической тайны, рассматриваемой мною в качестве основы метафизики, несомненно, возможно лишь благодаря благотворному распространению самого откровения, которое превосходным образом может раскрываться в глубинах душ, чуждых какой бы то ни было положительной религии. Это признание, осуществляющееся в некоторых высших формах человеческого опыта, с другой стороны, никоим образом не влечет принятия определенной религии, тем не менее позволяет тому, кто поднялся до него, рассматривать возможность откровения совсем иначе, чем это мог бы сделать тот, кто, пребывая в границах проблематизируемого мира, не преодолевает того рубежа, за которым тайна бытия может быть замечена и провозглашена. Такая философия неодолимым движением влечется навстречу свету, предчувствуемому ею, чье стимулирующее воздействие она ощущает в своей глубине как упреждающий его приход ожог»1.
1938
1 Le Monde casse, P. 301*.
3 – 10982
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О БЫТИИ В СИТУАЦИИ
Г-н Минковский* во время своей недавней лекции1 был вынужден уточнить одно из самых традиционных понятий – понятие космоса. Отбрасывая все отсылки к Древней Греции, он истолковывает космос как изначальный динамизм или, если угодно, как дыхание, которое нас пронизывает и одушевляет. Очевидно, что понятый таким образом космос нельзя созерцать. Перед таким космосом мы не выступаем в качестве зрителей спектакля монументального порядка. С другой стороны, ясно, что в каждый момент мы не осознаем с равной силой и интенсивностью дление этого «изначального динамизма». Впрочем, философ должен будет спросить, от чего зависят эти разрывы в восприятии длительности. Но для Минковского не менее очевидно, что каждый может вдруг интуитивно постичь, что же такое космос, причем некоторые из нас, а именно поэты, гораздо более, чем другие, наделены этой способностью. С феноменологической точки зрения не нужно оправдывать ту установку, согласно которой интуиция, или поэтическое схватывание, имеет все права гражданства в мире познания.
Если признать человека не только частью природы, но и тем ее представителем, «каждое движение души которого имеет глубокий и естественный фундамент в мире, раскрывая нам тем самым первичную его структуру, то это выявляется с полной ясностью»2. Отсюда автор заключает, что «это структурное единство является одной из гарантий объективности поэтического измерения жизни». Признаюсь, что я бы покритиковал его за его терминологию, представляющуюся мне небрежной и открывающей возможность для недоразумений. На мой взгляд, нет никакого смысла говорить об объективности поэтического измерения жизни, так как сама идея связи человека и космоса может получить свое обоснование только по ту сторону оппозиции субъекта и объекта. При этом можно пойти еще дальше и спросить себя, а не является ли само выражение «структурное единство» вводящим в замешательство. И действительно, нужно было бы выяснить, что же влечет за собой идея структуры. Не думаю, чтобы эта идея могла найти свое применение, если сначала, по меньшей мере неявно,
1 Лекция, прочитанная 21 января 1937 г. в Учебном центре философских и научных исследований новых тенденций.
2 Minkowski. Vers une cosmologie. P. 169.
66
не установят взаимную внеположность между тем, кто рассматривает подлежащую рассмотрению вещь, и самой этой вещью, между субъектом и объектом. Однако именно этот дуализм хотели бы преодолеть, или трансцендировать. И пусть мне не говорят, что идеалистическая философия старалась распознать структуру субъекта. Разве не очевидно, что тем самым она сразу же превращала его в объект? Впрочем, нет почти никакой связи между теми ситуациями, которые Минковский старается выявить и описать, и категориями традиционной философии. Термин «ситуация» здесь вполне уместен и не оставляет места для двусмысленности. Не принимает ли антропология космологическую направленность, начиная с того момента, когда отдают себе отчет в том, что сущность человека – быть в ситуации, причем это определение вовсе не может рассматриваться как случайное или эпифеноменальное по отношению к некоторому содержанию, которое может быть схвачено и определено в самом себе?
Таким образом, с самого начала предприятия, подобного тому, которое осуществляет Минковский, предположена развитая рефлексия не то чтобы вполне непрозрачной, но как бы несколько просвечивающейся данности, которую представляет собой «факт быть в ситуации». И тут слова нас подводят. Было бы лучше не употреблять слова «факт». Следовало бы просто прибегнуть к нейтральному артиклю, предшествующему глаголу, как это делается в немецком и греческом языках, чего, к сожалению, не позволяет нам структура нашего языка.
В своей лекции, на которую я выше сослался, Минковский подчеркнул двусмысленность и даже в некоторой степени неловкость выражения «внутренняя жизнь», отмечая при этом, что смысл данного выражения если и не строго определен для нас, то, по крайней мере, вполне ясен. Я полагаю, что если углубить понимание выражения «бы-тие-в-ситуации», то следует в нем признать я не скажу синтез, но, по меньшей мере, сочетание внешнего и внутреннего. Определенное место располагается (se situe)1, фиксируясь внешними по отношению к нему точками отсчета, или реперами, но при этом надо добавить, что сами эти реперы входят в выражение, благодаря которому это местоположение уточняется. Использование возвратной формы глагола здесь достаточно для того, чтобы конституировалось то, что можно было бы назвать местом для рефлексии или как бы виртуальным внутренним. Я бы предложил в качестве примера предельный случай, когда ситуация определена исключительно как пространственная позиция. Ясно, что когда мы говорим, что сущность человека в том, чтобы быть в ситуации, то мы ни исключительным образом, ни в принципе не имеем в виду то, что он занимает место в пространстве. Но в данном случае, чтобы понять это бытие, следовало бы продвигаться постепенно, с тем чтобы показать, как по видимости чисто пространственные определе-
' se situer (фр.) – располагаться; отсюда термин «situation» («ситуация»). – Примеч. пер.
3*
67
ния способны ко все более и более внутренней определенности. В качестве примера возьму случай, когда язык использует союз «между»: просвет между деревьями, долина между горами. Жить в пространстве этого просвета, или в этой долине, несомненно, означает находиться в ситуации или даже на перекрестке ситуаций, по отношению к которым слово «между», несмотря на кажимости, уже дает нам схему если и не динамическую, то, по крайней мере, преддинамическую. Так, если я живу в долине, зажатой между двух горных хребтов, то в подсознании я могу ощущать себя так, будто бы я стиснут между створками футляра, и испытывать при этом инстинктивную потребность раздвинуть эти напирающие на меня массы, которые, сближаясь, могли бы меня раздавить. Но столь же может случиться, что эта промежуточная позиция, которую я занимаю, будет восприниматься мною как способная к посредничеству, что я сам предстану для себя как пересечение враждующих между собой сил, как инстанция их взаимной коммуникации. Все это влечет за собой множество следствий, причем пространственный характер носит лишь исходная точка отправления. Например, я воображаю себе сознание, которое может иметь о себе самом такое буферное государство, как, например, Бельгия в прошлом или Швейцария в настоящем, или же, снижая мифичность ситуации, просвещенный гражданин подобных наций. Можно было бы подвергнуть аналогичному анализу и такие ситуации, которые выражаются следующими словами: на краю того-то, на борту того-то, выше того-то и т. п. Во всех случаях такого типа следует быть методически осторожным и стоять на страже против стерилизующей абстракции, истолковывающей место как простое пространственное определение, признавая при этом его функционирование как качественно значимой ситуации.








