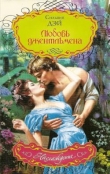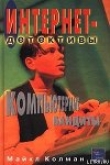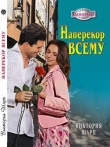Текст книги "Три времени ночи"
Автор книги: Франсуаза Малле-Жорис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)
– Если это был дьявол, почему после кощунственного поступка все в церкви осталось по-прежнему? – спросила тринадцатилетняя девочка.
Да, устами Жанны говорила девочка и ее жестокое и простодушное разочарование. Ребенок, которому было отказано даже в Божьем гневе. Этот ребенок теперь у них в руках. Жанна отдавала себе в этом отчет, ну что ж, тем хуже. У нее не было больше времени, она не могла больше ждать, она погибла окончательно. Так пусть ей подскажут хотя бы разок, как ей быть.
– Вы, что же, полагаете, что Бог должен откликаться на любой чих, да еще из-за такой девчонки, предрасположенной ко злу, какой вы тогда были? – не совсем уверенно возразил Боден. Ах, понимала ли она, что и сам Боден все бы отдал, лишь бы что-нибудь произошло?
– Тогда почему вы думаете, что Сатана…
Их взаимная агрессивность была чисто внешней. Тревога меж тем нарастала. Может, через минуту они объединятся.
– Но Сатану вы же видели! Ведь вы сказали, что видели! Зачем же надо было говорить, если…
– Зачем… Чтобы опровергнуть, разрушить нелепую веру палача, который только что покусился на очевидное, осмелился… И ведь он лгал, выставляя свою веру, свою любовь, лгал. Она тоже часто лгала, и ее ложь порождала смертоносные чудеса. Разве не может и ложь этого человека оказаться плодотворной? А тогда…
– Я так думала, – прерывисто дыша, ответила Жанна. – Я и сейчас так думаю. Но я не уверена, не совсем уверена… О, как больно!
Голова у Жанны раскалывалась, будто по ней били молотком. Ужасная боль пронизывала ее насквозь. На лбу проступали капельки пота.
– Глядите, как она мучается, – обрадовался секретарь суда. – Дьявол засел у нее в голове и не дает сознаться.
– Но вы ведь наводили порчу, Жанна? Делали из воска фигурки, а потом протыкали их булавкой?
Несмотря на крайнее напряжение, Боден говорил медленно, спокойно, как с не очень смышленым ребенком, и, словно загипнотизированная, Жанна и отвечала, как послушный ребенок, – чуть ли не с облегчением.
– Да.
– И те, на кого вы наводили порчу, заболевали? По крайней мере, в некоторых случаях?
– Иногда заболевали.
– И часто, не так ли? Ваши… ваши клиенты были довольны?
– Да, нередко… платили.
– Вы же понимаете, что вашими руками действовал дьявол. Это его вы призывали, лепя фигурки. Вы говорили заклинания?
– Мы все говорили заклинания, одни и те же. Но они не всегда помогали.
– Не всегда, но часто?
– Часто.
– И вы говорили: дьявол меня услышал?
– Я говорила: получилось.
– Благодаря дьяволу?
– Я не знала, понимаете, не знала. Чтобы удостовериться, надо было начинать сначала. Каждый раз начинать снова и снова.
– И вы начинали снова?
– И тогда вы удостоверились?
– Я никогда не была уверена до конца.
Жан Боден откинулся в своем кресле. В наступившей тишине было слышно, как тяжело и хрипло, словно животное, дышит Жанна. Запах ее пота заполнял комнату. Уже восемь дней ее держали в тюрьме и не давали мыться из опасения, что она использует воду для каких-нибудь магических операций. Ее и поили, поднося кувшин к губам.
Животное. Грязное вонючее животное, которое загнали, обложили собаки. Скоро она будет хотеть только одного – умереть. Все они этим кончали – колдуны и ведьмы; многие, громко крича, молили о смерти и, чтобы добиться ее поскорее, сознавались в несметном числе злодеяний – одно ужаснее другого, – которых порой и не совершали. И, однако, эти скоты, жалкие отребья, изъеденные сластолюбием, злокозненные недоноски присвоили себе самую драгоценную тайну на свете. Что же удивительного, что их пытают, без конца изыскивая все новые способы вырвать у них эту тайну? Сам Боден в эту минуту, располагай он каким-нибудь средством, пусть самым кровавым, самым жестоким, установить правду, не колеблясь к нему бы прибегнул. И ведь он читал о процессах, где все было так ясно, так убедительно. Однако он захотел убедиться сам, своими глазами, дотронуться рукой и понять, подобно святому Фоме, которому было позволено вложить персты в рану Иисуса Христа. Боден с тревогой спрашивал себя, не примет ли и это судебное дело такой же удобоваримый вид под пером столь недалекого человека, как секретарь суда, и в голове этих неповоротливых, невежественных судей. Если убрать окалину сомнений, вздохов, осторожного первоначального нащупывания, не останется ли образ отъявленной колдуньи, цыганки, насылательницы порчи, отравительницы, повинной в чужой смерти (а то и в нескольких смертях), участвовавшей в шабаше и видевшей дьявола в облике человека в черном? Разве усомнился бы он в подобных выводах, преподнеси ему весь процесс в таком виде?
Оставалось предположить, что ведьмы не желают, чтобы их судьи пребывали в уверенности и душевном покое. Возможно, разумнее всего не обращать внимания на недомолвки, к которым они прибегают из непременного стремления навредить. И потом, раз существуют христиане, лишенные благодати, несмотря на их молитвы и благие деяния, то почему не может быть ведьм, которых их собственные злодейства никогда до конца не защищают от сомнений? Тогда какая таинственная сила заставляет ведьм упорствовать, в то время как многие верующие устают от своей добродетели?
– Но вы продолжали снова и снова? Почему?
– Да за деньги, чтоб ей пусто было, – вступил секретарь суда. – Эти женщины сколачивают себе неплохой капитал. Честному человеку столько не собрать!
Как он был далек от них, этот человечек! Да, от них, потому что Жан Боден был весь внимание, весь направлен на эту женщину, почти так же, как она, растерянный, обреченный, страдающий. Жанна тоже недоумевала, тоже чувствовала пропасть, разверзшуюся у их ног, тоже не знала, за что ухватиться, как удержаться, и только слабая надежда сделать зло, лишить надежды другого была единственной нитью, соединявшей ее с жизнью, с людьми. Сделать зло ей предоставлялось в последний раз, и одержать верх она могла лишь над одним человеком: судьей – вот он сидел перед ней, взволнованный, связанный с Жанной узами тревоги и надежды, а она не знала, как взяться за дело, хотела излить на него свою злобу, но злобы не было.
– Итак, вы продолжили свои занятия.
– Да.
– Продавали любовное зелье, яды с целью навредить?
– Продавала яды, зелье. Но кому она хотела навредить? Другим? Себе? Даже в эту минуту Жанна отчаянно желала нанести ему удар, ранить – не потребность ли это в последний раз обрести связь с другим человеком, не способ ли зацепиться за него, полюбить? Ненавидела Жанна или, как сестру, любила Тьевенну, которую унизила, над которой возымела власть? Она ненавидела ее счастье, обманчивый покой Тьевенны, а не саму слабую добрую женщину, которую никто не любил и которой Жанна открыла на это глаза. Даже во Франсуа Жанна в первые дни ненавидела его самоуверенность, ненавидела в нем обладателя добродетелей, которые он, как стадо баранов, гнал перед собой с гордым видом. Но Франсуа страдающего, полубезумного, умирающего без причастия – ей тоже суждена такая смерть, – Франсуа высмеиваемого, осуждаемого, гибнущего Жанна любила. Ей хотелось положить его голову себе на колени и по-матерински сказать: «Видишь теперь? Видишь, куда это тебя завело? Видишь, что с нами всеми?» Те же слова она хотела сказать в церкви распятому Христу: «Видишь, куда приводит вера в любовь? Сидел бы смирно…»
Однако она и сама не сидела смирно, находя радость в отчаянии от своей пропащей жизни. Она делала все невпопад, проникала в мир гнева и снов, где нет ничего невозможного. Между смертью на костре и смертью в канаве, в риге, незаметной голодной смертью женщин-бродяжек она выбрала первую. И когда она глядела на Христа в зале допросов, ей иногда хотелось пожать плечами, как бы извиняясь, хотя и шутливо, за то, что сама не следовала тем хорошим советам, какие давала ему. А как же стремление навредить! Да, она стремилась к этому, когда они лгали, утверждали, подобно палачу, что счастье возможно! Но разве она не любила их, когда потом они приходили ночью, будь то в Компьене, Сен-Квентене или в любом другом городе, где она жила, чтобы вымолить иллюзию любви, деньги, от которых нет пользы, или смерть для других, которая на минуту позволит забыть о своей собственной?
Стремление навредить! Конечно, Жанна хотела, чтобы их с ней сблизили несчастье, несбывшиеся мечты, неутоленная жажда мести. И как бы награждая себя лакомым блюдом, небольшой суммой денег, кратким отдыхом посреди пустыни, которую надо преодолеть, Жанна давала им зелье, яд, фигурку, которую они клянчили. На миг они делились с ней, как делятся теплом очага с промокшим на улице, своей надеждой, недолговечной маленькой надеждой, будто на время ценой своих сбережений, душевного покоя, ценой своей жизни они смогут повлиять на свою судьбу. И она тоже верила (уверовала ли до конца?), да, верила, что от нее что-то зависит и она сможет что-то изменить. Но какая разница – будет одной смертью больше или меньше? Меняет ли что-нибудь в жизни обладание телом любимого человека? Не доверилась ли Жанна видимости, ведь теперь перед лицом смерти, перед лицом этого последнего собеседника она оказывалась, как в детстве, бедной и нагой? Стремление навредить. Другими словами, сделать зло. Она и делала его снова и снова, но зло тут же распадалось. Оно никогда не казалось окончательным, не принадлежало Жанне. Жанна сказала правду: она так и не убедилась.
– Я хотела им помочь – ее попытка быть искренней выглядела смехотворной.
– Помочь убить, околдовать, переспать с чужой женой, совершить преступление, сделать выкидыш?
– Да.
Одна беда на всех, один грех. Помочь им. Все обречены, все в союзе против Бога; некоторых Жанна ненавидела – тех, кто объединялся против нее. Но когда они к ней приходили, похожие друг на друга, жалкие, ее братья, она хотела им помочь. Она знала – о, она узнала это очень быстро, – что дело это безнадежное, что никогда нельзя быть уверенным до конца; самое жестокое, самое несомненное преступление оставляет привкус неудовлетворенности, и удивленно спрашиваешь себя: «Всего-то?» Однако на этом пути не останавливаются. Надо продвигаться вперед, пытаться снова и снова. С каждым разом черное пламя все больше утихает, надежда головокружительно сжимается до крошечной точки в ночи, а потом в безумии своем уже преследуешь саму ночь, ночной холод, и нет сил вернуться назад.
– Подведем итоги: вы сознаетесь, что убили Франсуа Прюдома?
– Да.
– Сознаетесь, что околдовали мэтра Юка?
– Да.
– Сознаетесь, что околдовали мадемуазель д’Оффэ? Что резали детей, были на шабаше, участвовали в оргиях, продавали яды и любовное зелье, видели дьявола в облике человека в черном?
– Да.
Голос ее звучал торжественно, как в церкви, когда крестят ребенка и спрашивают: «Отрекаешься ли ты от Сатаны, от его царства и его деяний?» Или как на шабаше, когда женщины (содрогаясь и трепеща, они вдруг ощущали себя равными священнику, обладающими властью над невидимым, и это они – униженные, битые, чья плоть и души страдают от самых разных невзгод) говорят: «Я отрекаюсь от Бога, отрекаюсь от спасения, отрекаюсь от своей души» – и верят, по крайней мере в эту минуту, в свое могущество и в свою способность изменить свою жизнь.
– Сознаетесь, что присутствовали на сатанинском крещении?
– Да.
– Что имели половые сношения с дьяволом, принявшим облик человека в черном?
– Да.
Да, да. Сознаваясь в своих преступлениях, обретает ли она уверенность? Или она обретет ее на костре, окруженная языками пламени? Но разве не возникнет перед ней тогда ограниченное, тупое существо вроде палача, лгун, который скажет ей, что все это было не в счет, что она была бессильна перед Богом, что ничего от нее не зависело, – и это будет ее пытка на веки вечные?
– Последний вопрос: вы делаете признание добровольно и без принуждения?
– Да.
– Теперь можно подвести черту, окончательную черту, – сказал секретарь суда.
Он любил это слово «окончательную». Дело можно закрыть, завязать тесемками, опечатать и присовокупить к другим таким же в шкафу: эти папки – его маленькое сокровище, он их хранитель.
Окончательно. Вопрос снят, ко всеобщему удовлетворению. «А в конце концов все они сознаются», – справедливость этой старой аксиомы еще раз подтвердилась. Он, Жан Боден, захотел в этом убедиться на месте – скрупулезность, обычная для человека науки, – составить себе мнение, исходя из деталей процесса над колдуньей. Получен классический результат, которого он желал. Теперь духовник скажет осужденной несколько утешительных слов, палач соорудит костер, будет дозволено ее удушить, ведь она созналась добровольно, и одной колдуньей станет меньше.
«Вот и все», – сказал секретарь суда. Он спешил уйти, забыть. Чего стоят речи женщины, осужденной за колдовство? Ничего, меньше, чем ничего. Пустословие. Такие женщины везде видят зло. Для них это естественно. Секретарь знал, что он был привязан к Корнелии, и маленькая желтая птичка, которую он принес в день ее смерти, – Корнелия улыбнулась – обеспечит ему прощение, спасение. Он спешил унести с собой эту уверенность, за которую он будет цепляться до конца своих дней. Секретарь поднялся, с шумом собрал бумаги, письменный прибор. Он хотел намекнуть судье, что пора расходиться. Занавес упал, и ничего больше не произойдет. Ничего никогда. Однако надо было спешить. Если она скажет еще хоть слово, одно-единственное…
В общем, много времени они не потратили. Была с ее стороны попытка сопротивления, но тюремное одиночество и один только вид палача сломили ведьму… Дело порешили быстро и легко. Быть может, слишком легко. Однако основное было сказано: шабаш, постыдный промысел. Другие заставили бы ее назвать сообщников. Но, может, на нее больше не напирать? Ведь все это происходило в других краях, других городах. Не лучше ли счесть, что этой казнью Рибемон заплатил свою десятину и очистился, омылся? Зачем напирать, ставить честных людей в затруднительное положение? Создан будет прецедент, который удовлетворит всех. Как и бывает в подобных случаях, дочь Жанны, Мариетта, про которую говорят, что она «очень милая», в бегах. Ее поймают. Здесь ли, в другом месте. Все они кончают одинаково. Все. Единственная деликатная проблема заключается в том, что зло все-таки не выкорчевано. Кажется, что оно возрождается из пепла, растет и множится. Это порождает страх, но и успокаивает. Разумеется, такое происходит, чтобы люди добра не теряли бдительность, чтобы они получили доказательство. (Но доказательство – Иисус Христос, а не дьявол, – говорит себе Жан Боден, немало поразмышлявший над Библией. – Хотя правду сказать, эти тексты… Столько противоречий, толкований, меж тем как тут, перед ним, живое существо, которое видело, прикасалось к человеку в черном…) Боден не мог решиться расстаться с Жанной, дать ей исчезнуть в небытии. Конечно, ему стоило лишь захотеть, и он примет участие в других таких процессах и столько раз, сколько ему заблагорассудится, но испытание оказалось слишком тяжелым для его здоровья. К тому же потерянное время, усталость… Что он может еще отсюда вытянуть? Что окончательно (как говорил секретарь суда) убедило бы его в реальном существовании дьявола, если признаний Жанны недостаточно? В свободном приятии некоторыми людьми зла, если и после ее торжественных заверений у него остались сомнения?
С отчаяния (он понимает, что все сказано, ничего не остается делать и нужно уходить) Боден спрашивает:
– Вы нарушили условия сделки?
– Сделки? – тупо повторяет Жанна. Сообразив в свою очередь, что все кончено, она погрузилась в полудрему, пришла в подавленное состояние.
– Сделки с дьяволом… с человеком в черном. Сделки, закрепленной кровью.
– Сделки не было, – также тупо произнесла Жанна, – не было…
– Вы хотите сказать, что не было письменного документа?
– Не было сделки.
«Ну и что это меняет?» – дрожа от нетерпения, возмущается про себя секретарь суда. Что с того, если не было сделки? Это как брак без венчания; люди-то все равно живут друг с другом. Чего ради эти двое упрямятся? Судья показался вдруг секретарю суда подозрительным. Может, он сам колдун? Такое терпение, такие непривычные вопросы. Теперь, когда дело сделано, он продолжает допрос, словно пытается выведать у осужденной тайну. Говорят, некоторые колдуньи умеют делать золото? Не эту ли таинственную формулу искал мэтр Боден? Это, разумеется, все поставило бы на свои места. Секретарь подходит поближе. Но как можно разобрать что-нибудь в этом лихорадочном шепоте?
– Но должно бы быть какое-то обещание, заклинание, какой-то момент, с которого вы поняли, почувствовали, что принадлежите дьяволу?
Он хватает ее за плечи, встряхивает; безжизненное, словно мешок, тело Жанны поддается; она глядит блуждающим взором, на губах, как у загнанного животного, выступает пена; вид у нее жалкий, но Бодену ее не жаль.
– С какой минуты вы взяли сторону зла?
Да понимает ли она? В ней, на первый взгляд беспомощной, поднимается волна неприятия – это последняя, чисто инстинктивная попытка неповиновения.
– Да поймите же, как только вы осознаете, с какого момента встали на путь зла, вы сможете все переиграть. Если вы свободно приняли зло, сегодня вы можете свободно от него отречься. До самого конца вы пользуетесь свободной волей. Вы еще можете спастись, отвергнуть свою жизнь, преобразиться в одно мгновение. Вы…
Понимает ли она его? Понимает ли она его? Жанна по-прежнему качает головой, как бы говоря «нет», но, возможно, причиной тому его чересчур ученые слова? В отчаянии он ищет более простые.
– Вы ведь завлекли человека в черном в церковь со злокозненными намерениями? Иначе почему именно в церковь? Вы хотели оскорбить, задеть Бога?
– Я хотела увидеть… – хрипло сказала она.
– Увидеть что?
– Увидеть, что будет, если… Но ничего не произошло. Ничего не происходило и когда мы топили в пруду детей. И когда мы ходили на шабаш и топтали ногами крест, тоже ничего! И когда отравленные мною умирали, ничего! Никаких угрызений совести, никакого чуда, ничего!
Она слегка возвысила голос, и секретарь суда в испуге попятился к двери.
– Неправда, – закричал Жан Боден.
С диким воем, в судороге как бы увлекая его за собой, она подступала к Бодену, в головокружении чувствуя, что сейчас сгинет, но не одна, а с ним вместе…
– Нет сделки с дьяволом и никогда не было! Ничего нет, ничего!
Жанна сейчас упадет на паркетный пол в страшных конвульсиях, с пеной у рта, и с ее губ сорвется что-то нечленораздельное. Секретарь суда жестом подзовет двух стражников и духовника, который беспрестанно крестится и шепчет: «Господи, Господи!» Жанну сожгут на следующий день. По настоянию мэтра Жана Бодена, королевского прокурора по Лаонскому судебному округу, в каком бы то ни было смягчении приговора ей будет отказано. Он воспротивится, когда более милосердные местные судьи выскажутся за предварительное удушение. Можно ли проявить излишнюю жестокость, имея дело с таким отвратительным существом? Позднее, в своей «Демономании», перечне ужасных злодеяний ведьм, он с охотой будет описывать пытки и способы морального воздействия, какие подобает использовать против этих чудовищ, которым он предрекает муки ада. К любому средству можно прибегнуть, чтобы подвести их к признанию в своих преступлениях. Его рвение не будет знать границ, но ни одно из сотен зарегистрированных признаний не заглушит тревоги, в которую повергла Бодена безвестная Жанна Арвилье, давно мертвая и позабытая.
Но все это потом, пока же осужденную выносят из залы и сооружают костер. Жан Боден, королевский прокурор по Лаонскому судебному округу, остается один, наедине со своим поражением.
© Перевод на русский язык В. Каспарова. 1991
Заметки о колдовстве

 Распространение такого явления, как колдовство, строго ограничено во времени. Оно зарождается в конце XV века и, развиваясь скачкообразно, зная периоды расцвета и периоды отката, завершается к 1680 г. Разумеется, можно привести значительно более ранние (первая колдунья, сожженная именно за колдовство, погибла в 1275 г.) и более поздние примеры (М. Гарсон сообщает о расправе над так называемым колдуном в 1915 г.; подобные случаи имеют место и по сей день). Однако как массовый феномен, проникающий в повседневную жизнь, колдовство имеет чуть более чем двухвековую историю, и три мои героини жили как раз в это время.
Распространение такого явления, как колдовство, строго ограничено во времени. Оно зарождается в конце XV века и, развиваясь скачкообразно, зная периоды расцвета и периоды отката, завершается к 1680 г. Разумеется, можно привести значительно более ранние (первая колдунья, сожженная именно за колдовство, погибла в 1275 г.) и более поздние примеры (М. Гарсон сообщает о расправе над так называемым колдуном в 1915 г.; подобные случаи имеют место и по сей день). Однако как массовый феномен, проникающий в повседневную жизнь, колдовство имеет чуть более чем двухвековую историю, и три мои героини жили как раз в это время.
Вопреки часто встречающемуся мнению, колдовство, эта созидаемая в течение двух веков настоящая церковь, поклоняющаяся Князю тьмы, вовсе не величественный обломок средневековья, не случайно уцелевшее мрачное строение, постепенно подтачиваемое Возрождением, а новое явление, навязчивая идея, оригинальное порождение именно этой эпохи, причем порождение, обусловленное множеством факторов.
Чтобы снять вину со средневековья (а ведь существуют данные, свидетельствующие о полном отсутствии каких бы то ни было протоколов подобного рода), достаточно бегло рассмотреть точки зрения на колдовство наиболее видных авторитетов того времени. Разве уже в VIII веке святой Бонифаций Английский не заявлял, что христианину не следует верить в ведьм и оборотней? В IX веке святой Агобар, епископ Лиона, также обличал нелепость веры в то, что колдуны способны воздействовать на время. В XII веке Иоанн Солсберийский говорил о шабаше как о расстройстве воображения, и, чтобы не ходить далеко, канонический закон «capitulum Episcopi» ясно высказывался о несовместимости веры в ведьм с христианством.
Однако в 1490 г. было создано и развито богословское учение о колдовстве. Между 1580 г. и 1630 г. (в эпоху Монтеня и Декарта) это учение постепенно принимается и, так сказать, упорядочивается. Причин тому немало. Торндайк вслед за Мишле и Жан Палу связывают это с бедствиями, которые обрушились на XIV век (эпидемия чумы, Столетняя война). Конечно, играют свою роль бедность крестьян, социальные диспропорции. Особенно следует отметить распространение колдовства в горных районах, где люди жили в крайне неблагоприятных условиях. Разумеется, неоднократно подчеркивалась и роль церкви. Известная булла «Summis desirantes affectibus» Иннокентия VIII в 1404 г. и последовавший за ней вскоре «Malleus maleficorum» инквизиторов-доминиканцев Шпренгера и Инститориса служили, вне всякого сомнения, первыми ласточками, придавая нарождающейся мифологии церковную окраску. Нельзя, однако, не принимать в расчет влияние часто искаженных и плохо усвоенных неоплатонических идей. Парацельс в своей вере в призраков, домовых и блуждающие огни опирался на жизненный опыт, который в качестве знамения прогресса противопоставлял систематичности отцов церкви. Возврат к античности не только в определенной мере порождал критический дух (Л. Валла, Эразм), но и означал возврат к басням и суевериям, которые такой любознательный и просвещенный ум, как Жан Боден, слепо принимал. Роль реформаторских церквей была порой столь же определяющей. К концу жизни Кальвин явственно продемонстрировал свою боязнь колдунов, хотя Цвингли остался к этому вопросу совершенно равнодушен. Лютеране, со всем усердием проявляя свою ненависть к колдовству, распространили преследование колдунов до Дании, так же как кальвинистские миссионеры боролись с ним в Трансильвании, а протестантское духовенство – в Шотландии. Конфликт между Реформацией и Контрреформацией прибавил остроты проблеме, и без того волновавшей весь народ.
Мы тут касаемся психологического аспекта, который объясняет подспудное единомыслие подавляющего числа современников. Было бы нелепо предполагать, будто несколько инквизиторов, пусть фанатичных, и несколько судей, пусть самых кровожадных, смогли бы заставить народ, настроенный решительно против, примириться с подобным истреблением. Необходимость перегруппировки сил играет свою роль в принятии упрощенных представлений о добре и зле, и в ярко выраженной в этот период необходимости найти козла отпущения чувствуется отдаленный отголосок «великой схизмы». Нужно еще сказать несколько слов о пытке, которая для иных все объясняет, хотя на самом деле она лишь составляющая, важная, но не решающая обширного комплекса дьявольских эпидемий. И тут речь не идет о средневековом пережитке – возрождение пытки последовало сразу за возрождением интереса к римским законам. Несомненно, что именно пытка – причина небывалой распространенности в некоторых местах процессов над колдунами и ведьмами (в Бамберге, например, пришлось построить тюрьму специально для ведьм), а также поразительной схожести сотен признаний и непомерного количества невыносимых в своей непристойности подробностей. Пытка сыграла свою роль также в политическом или корыстном использовании обвинений в колдовстве. Она стала наконец законным способом убийства. Пытка, однако, не позволяет усомниться в субъективной реальности некоторых покаяний (достаточно перенестись в Африку и услышать подобные же признания и рассказы, отмеченные теми же обманчивыми видениями, когда не было и намека на принуждение), и довод о схожести признаний можно интерпретировать как угодно. Таким образом, мы приходим к последнему аспекту данного явления, к его собственно патологической стороне. Для историков XIX века прекращение этого феномена знаменовало победу рационализма, «прогресса», хотя подобное утверждение игнорировало средневековое отношение к колдовству… Считалось, что все объясняется «истерией», причина которой тогда была еще слабо изучена. Последователи Шарко одним махом расправились с Лувье, Луденом, а виконт де Морей представлял Франсуа Фонтена, которого он сравнивал с пациентами больницы Сальпетриер, чем-то вроде истеричного эротомана. Патологический аспект здесь действительно имеет место; он особенно поражает при одержимости эротического характера, а также в тех удивительных случаях, когда одержимостью заражались, ведь немало инквизиторов, изгонявших дьявола, в свою очередь умирали бесноватыми. Это тоже дает пищу для самых различных толкований.
Святой Иоанн на вопрос святой Терезы о различии, которое следует установить между понятием «меланхолия» (болезни, приблизительно соответствующей теперешней неврастении) и понятием «душевная опустошенность» (хорошо известного мистикам этапа на духовном пути), ответил, что это, разумеется, разные вещи, но можно воспользоваться первым состоянием для достижения второго. Лучше сказать о значении патологии для области духа невозможно.
В том, что касается Анны де Шантрен, я воспользовалась подлинным судебным процессом, отрывочную информацию о котором можно почерпнуть в томе «Кармелитские исследования», посвященном сатане; кроме того, некоторые сведения были собраны Е. Брует в ее работах о колдовстве в графстве Намюр. Об Элизабет де Ранфен документов сохранилось больше, и основной из них – сделанное ею для отца д’Аргомба свое жизнеописание, оригинальное издание которого хранится в музее города Нанси вместе с портретом Элизабет. Отметим также медицинское заключение докторов Делькамбра и Лермита. В случае Жанны Арвилье кроме данных о процессе 1678 г. моим единственным источником была «Демономания» Жана Бодена, если не считать упоминания о ней К. Гомара в его «Истории города Рибемона». Работ о самом Жане Бодене множество, хотя в них редко встречаются подробности о собственно колдовстве. Упомяну лишь книги Кастоне де Фоссе «Жан Боден, его жизнь и произведения» (1890 г.), А. Бодриара «Жан Боден и его время» (1853 г.), Дроза «Кармелит Жан Боден». Не колеблясь я сблизила во времени или изменила отдельные факты, не ставя перед собой задачу писать исторический труд, однако я попыталась как можно точнее воссоздать дух времени. Я не привожу здесь список литературы о колдовстве вообще, но готова предоставить его в распоряжение читателя, который обратится ко мне с такой просьбой.
© Перевод на русский язык В. Каспарова. 1991