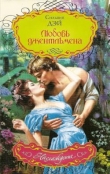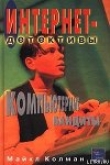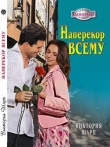Текст книги "Три времени ночи"
Автор книги: Франсуаза Малле-Жорис
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Что можно сказать о странной жизни, страдальческой и мечтательной в одно и то же время, которую вела Анна де Шантрэн до одиннадцати или двенадцати лет, вне времени и пространства, без всяких правил; без матери, часто без хлеба и всегда без сострадания? Жизни, в которой единственная связующая нить, единственное удовольствие – это пробудившаяся мечта бедняков, это феерия, рожденная голодом и неупорядоченным существованием, жизни в привычных лохмотьях, сквозь дыры которых проступало обветренное тело. Ощущение безграничности бытия никогда больше ее не покинет, и, так как она живет не столько умом, сколько чувством, она способна лишь громоздить тайну на тайну. Открывать воображаемое еще не значит познавать зло. Но это уже на самой его грани. Перейдет ли она эту грань? В этом – все.
Жизнь ее обретает иной смысл с момента поступления в сиротский дом Черных сестер в Льеже. Можно ли сказать, что все предопределено и заранее предписано? Безусловно: и то, и другое. Голый фасад с симметричными окнами: убежище или тюрьма? И то, и другое. Кротость, сострадание, усердная молитва – что это, наслаждение или наказание? И то, и другое. Прямоугольные бордюры, маленькие, густо посаженные гвоздики с запахом перца, строгая одежда, время, отмеряемое ударами колокола, струящийся поток прекрасных, спокойных молитв, полет голубей, выпускаемых в полдень, пение, прерываемое ударами колокола, в ясные и ненастные дни, натертые до блеска плитки пола, пустыня, которую нужно пройти… Наконец, место под крышей в ее короткой бродячей жизни. Вот она наконец в доме, за слабо освещенными стеклами, а снаружи тележки проезжают под дождем. От внезапно прерванного путешествия она сохранила какую-то ностальгию, может быть, даже легкое головокружение, непреодолимую тоску, к которой она привыкла на колесах, во время тяжелых поездок по дорогам, и вдруг, прервавшая свой путь, она мучается усталостью, проникающей во все ее существо, не поддерживаемое больше этой убогой колыбелью. Она остановилась. Колокольный звон, камень, брошенный в глубину колодца: остановилось время. Что делает она здесь, в этом саду, одетая в черный балахон?
И когда вещи оказываются опасно-неподвижными, лишенными роли образа, как будто погруженными в вечность, приходит первое искушение или, если угодно, первая благодать. Анна может идти до конца долгой жизни, полная желаний, достигшая своих целей, и даже более того: она может преображаться от полуденной летней тишины, от полного, всеобъемлющего счастья, от внезапного крушения, когда страдание и смерть прерывают течение дней; неважно отчего, но малейший прорыв ведет к безграничному его расширению. О! Конечно, более или менее быстро. Есть такие, кто жизнь готов положить за то, чтобы кровь вытекала из тела быстро, капля за каплей (этот маленький, покрытый пылью рубин сердца Христова в часовнях), другие будут медленно гнить, отравляя душу, – очень мало тех, кто откроет сердце в медленном поступательном движении души, – или быстро, и мне подсказывает память, что сердце есть у плода и у минерала, где оно – основа внутренней связи, главная пружина, о которой говорят, что она вечна. Анна не такая. Неподвижность монастыря, остановка перед этим стоячим водоемом, совершенно круглым, отражающим небо, это мгновение, укол розового шипа, совсем маленькая фальшивая нота… Но у Анны тонкий слух, бодрствующие инстинкты дикого зверя, странный шорох в лесу, катящийся камень, сломанная ветка останавливают его на бегу, он вибрирует всем телом, предчувствуя неизвестную опасность.
И вот она здесь, ребенок среди детей, здесь тишина или заучивание молитв, а параллельно другие молитвы и другая тишина. И она составляет часть прекрасной, меланхолической картины, которую монахини демонстрируют городу, это спокойная, немного увядающая аллегория. Анна исчезает, растворяется в этой аллегории; и она ощущает, будто ее засасывает трясина. Грубость крестьянок, различные рабские ухищрения, удивительная власть страха и пренебрежения постепенно стираются как призраки. Она точно камень, брошенный в пруд: несколько кругов на воде – и плотная поверхность вновь принимает прежний облик. Напрасно она сопротивляется: в этой ватной тишине все движения тщетны. Вся ее плоть подчиняется новой дисциплине; и вот она уже ест по часам и встает, когда приходит мать-настоятельница. Единственный живой островок – приемная.
Там на нее смотрят, ее видят. Из двух десятков девочек она среди самых бедных – так говорят. Следовательно, она самая интересная. История ее бродячей жизни вызывает восклицания у льежских дам, посещающих монастырь, проявления чувств, к которым Анна столь небезразлична. Как могла такая маленькая девочка выжить в подобных обстоятельствах? С двух лет – вечно пьяный отец и тележка! Анна рассказывает. Она рассказывает про волков, про то, как их никогда не пускали в крестьянские дома дальше порога; про то, как она всегда спала в хлеву вместе со скотиной; про голод, любовь отца к бутылке и ее тщетные просьбы не пить… Для этих сочувствующих дам она вновь разыгрывает сомнительную комедию пьянства. «Папа! Не пей, мне страшно!» Она описывает исхлестанную клячу, нагруженную тележку, безумные скачки по сырым лесам… Она не в состоянии описать свою тайную радость вновь переселиться в то время, описать свое острое любопытство, когда ее отец, этот маленький, бесцветный человечек, преображался, становился царственным безумцем, готовым рискнуть их жизнью, растратить и раздать все их достояние, хвастуном, метателем бисера перед свиньями, забавляющим девиц на постоялых дворах и цыган. Она предает его, слабого и ранимого человека, с его смешными мечтаниями. Но как она могла его не предавать? Она с удовольствием вспоминает это непонятное прошлое, и, отвечая на все вопросы, ей удается сохранить тайну своего королевства: тайна – это уже немного власти. Тайна – это убежище, это сокровище. Это внутренняя жизнь, двойная жизнь. В приемной Анна вновь оживает. Но тайна – это еще и опасность. Тайна Анны (неопределенная, смутная, однако находящаяся в ее безраздельной собственности) часто для нее тяжела. Тайна создает ощущение, будто она не живет здесь, окруженная сестрами, которые учат ее и кормят, будто она пробралась сюда хитростью. Часто она говорила себе, что здесь она по недоразумению, что она находится в таком месте, куда попала не по праву. И тогда она не слишком ловко пыталась снять камень с души. В приемной. «Понимаете, я все же любила своего отца», – говорит она. «Святая невинность!» – вздыхает сестра Мари-Клеманс. И недоразумение продолжается. Тогда она погружается с головой в нездоровое наслаждение обмана. Она описывает постоялые дворы, пивные, странные нравы, цыган, которые воровали кур, и один из закрытых для чужака домов, где однажды их укрыли от непогоды и где девочки дали ей гостинцев. Это еще не ложь, но уже подобие мифотворчества, очень утонченного, единственная радость, горькая и сладкая, которая тихо увлекает ее в воображаемый мир.
Продолжая эту двойную игру (так как она скоро становится лучшей воспитанницей монастыря, которая жадно поглощает отрывочные знания и сведения, преподносимые здесь, и которая с удовольствием соблюдает все требования устава), она мало-помалу приобретает исключительную остроту чувств, бессознательную, но безупречную интуицию. Хитрость проистекает из хитрости. Ее примерное поведение – тоже хитрость: она знает, что все это неправда. Это образцовая воспитанница, это трогательная сиротка, это набожное дитя, на которое монахини возлагают определенные надежды, но она играет роль, играет ее легко, потому что знает, что это роль. И из сомнения в себе рождается сомнение во всем окружающем. Этот выстроенный фасад – всего только фасад? Беспокойство прежних дней давно миновало. Она отказалась от прежнего одиночества. Можно ли поверить, что двенадцатилетняя девочка обладает духовным опытом? Такое случается нередко. Тому причиной была внезапная перемена участи. Подобные перемены рано или поздно случаются в жизни, и реакция ребенка бывает более естественной, более безоглядной, чем у взрослого. Анна не была к этому готова. Она оставила позади голод, холод, нищету, унижения, она познала все и хорошо усвоила урок. В нынешнее состояние ее привел инстинкт, и это ей нравится. И тут, под защитой крепости, выстроенной из обмана, она наблюдает за другими и держит их в своей власти. Поскольку они все общаются с ненастоящей Анной, они ничего не могут против нее, укрывшейся в своей раковине. Она чувствует себя очень сильной. Скоро она ощутит вкус власти, потому что она и власть сливаются воедино. Примерная воспитанница – это реклама монастыря, оправдание его существования. Как и все монастыри того времени, монастырь Черных сестер знал и конкуренцию, и финансовые кризисы. Его богатые покровительницы могли отвернуться и понести в другое место свои пожертвования, составляющие основной фонд монастыря. Интересный случай, история Анны, может им польстить и удержать их. Ее очевидное могущество, которое она вскоре инстинктивно познает, пойдет Черным сестрам на пользу. Для дам Льежа, для самих сестер она – их доброе дело, доказательство их праведности. Потому что Анна больше, чем другие, представляет их достоинство и силу своего совершенства. Она так хорошо может сказать сестре Сесили, которая учит музыке: «Сестра, с вами я чувствую себя на небе!» А сестре Анжель, которая занимается хозяйством, не без горечи говорит: «Что бы мы делали без вас, сестра? Самая прекрасная работа в монастыре – это самая скромная». Сестра Анжель краснеет от удовольствия. Анна наслаждается ее румянцем. Она учится искусству лести, она учится находить под покровом замкнутых лиц слабости, вводящие душу в искушение, мелкое тщеславие, подавленные желания, которые размеренная жизнь делает явными. Анна больше не скучает, и тоска одиночества позади. Так окольным, порочным путем Анна создала для себя внутреннюю жизнь. Разбив мрачный фасад монастыря, сокрушив слишком суровые правила, она проникла собственным путем в самую сердцевину затворнической жизни и, пока еще неведомо для себя, отравила ее своим ядом.
Ничего еще не произошло. Анне четырнадцать лет. В этом возрасте, когда одновременно присутствуют доброе и злое, со всей хитростью, со всей фальшивой, недоверчивой униженностью, не проявляется ли тайное желание девочки быть всеми любимой и боязнь не достигнуть этого? С этой привычкой искать слабости, недостатки в окружающих, разве нельзя искать дружбу в объятиях греха, во власти которого она себя ощущает? Грех – это возврат к детству, когда он наиболее ощутим, потому что не маскируется тысячей личин общественной жизни. Ребенок, который мучает животное, обижает товарища, ломает вещи или рвет книгу, не ищет оправданий своей жестокости и дурному поведению, не объясняет высокомерие чувством собственного достоинства, жадность нуждой, а похоть любовью. Он воспринимает зло как безвозмездный дар, точно так же, как и добро. Так же часто проявляется у него и духовное прозрение, глубина которого потрясает. Но чаще всего оно сразу же гаснет и возвращается лишь после тысячи перевоплощений. Анна пока еще пребывает в этом состоянии прозрения. Она играет этим своим состоянием, наслаждается, не подозревая, что играет своей короткой жизнью. Как прежде, в сумасшедшие вечера, когда она играла со своим отцом, она и тут создает театр. Метаморфоза дня и ночи присутствует и здесь. Бывают слова-ключи, слова-знаки. Сестрой-настоятельницей с ее волей и властью, сестрой Сесиль с ее ангельской кротостью, сестрой Анжель с ее агрессивным смирением, сестрой Жанной де л’Аннонсьянсьон с ее частыми взрывами гнева – она научилась всеми ими управлять, возмущать их и заставлять улыбаться. Другие воспитанницы ничего для нее не значат, эти маленькие тени, коричневые и белые, неопределенные, бесплотные и бесформенные, ускользающие. Анну интересуют и влекут к себе только монахини. Пленницы и тюремщицы в одно и то же время, которые не могут вырваться отсюда, от нее, так же как и она не может и не хочет вырваться от них. Почему? Другие девочки думают о «внешнем мире», они знают, что пойдут служить в дома, в лавки, им предназначена судьба маленьких служанок, потому что всегда «берут кого-то из сиротского дома», когда есть нужда в черной работе, работе малооплачиваемой, ничтоже сумняшеся, эксплуатируется несчастье, в чем никто или почти никто не отдает себе отчета. Они совсем не ощущают себя жертвами, это веселые девочки, они предчувствуют воздух свободы, не задумываясь, что им придется дорого за это платить, они мечтают о балах, прогулках, новых лицах и прочих вещах, отличающихся от торжественных вечерних служб, ежедневных прогулок вокруг пруда, под покрывалом, с опущенными глазами.
Но Анну опущенные взоры очаровывают. Монотонные прогулки ей нравятся потому, что она провидит нечто в обманчивом покое. Что это: любопытство, влечение? Как определить чувства, которые оживляют длинные, тягостные дни, пробуждают настороженность?
В монастыре есть одна сестра, Мари де ля Круа, которая обладает способностью зачаровывать детей, как животных. Ее кротость подчиняет самых непокорных, необъяснимо делает более легкими самые суровые уроки, смягчает обычные монастырские строгости. Говорят, что она из знатной фамилии и внесла в монастырь все свое приданое. Говорят, что ее неодолимое стремление к монашеской жизни перевернуло все существование семьи, высокопоставленной и весьма светской, которая отныне строго следует заветам Евангелия. Говорят, что ее смирение столь велико, а дух самоотречения столь силен, что она порвала все связи с миром, отказалась от всех разрешенных орденом украшений в своей келье, и самое большое чудо, что ни одна из монахинь на нее за это не сердится. Говорят еще… да мало ли что говорят! Говорят об экстазе, о чудовищных умерщвлениях плоти, о стонах, доносящихся из ее кельи, о крови, проступающей сквозь ее монашеское платье… Монахини шепчутся ей вслед, за ней наблюдают в часовне, и ни для кого не секрет, что мать-настоятельница как-то сказала сестре Анжель: «Благодаря Мари де ля Круа, возможно, когда-нибудь наша маленькая обитель сравняется с наиболее прославленными…» Скромная гордость, которая не считается греховной, но которая все сокрушает.
Потому что жажда чуда в начале XVII века столь велика и столь сильно искушение совершить что-то, казалось бы, «для вящей славы Господней», а на деле «для вящей славы своего ордена». Эта жажда чуда не была сильна в эпоху самой глубокой веры, и не случайна эпидемия сатанизма и одержимости, охватившая Европу, начиная с XV века, в то время как подобные случаи столь редки и исключительны в самые темные времена средневековья. Некоторое ослабление веры, расколы, ереси, Реформация, движение катаров могли подвигнуть наиболее благорасположенные души к вполне законному желанию достичь абсолютного торжества веры, увидеть ее земную мощь и доказать истинно верующим неколебимость ее постулатов. И не удовлетворяясь заслугами святых, ежедневными подвигами самоусовершенствования, результаты которых скажутся нескоро, у истинно верующих с их жаждой чуда, чего-то из ряда вон выходящего, сверхъестественного, стало неимоверно расти желание испытать бедность и страсти по Евангелию. Сюда надо прибавить амбиции, законные и незаконные, орденов, часто соперничающих и вербующих себе сторонников за счет друг друга. Известно, что трудности, с которыми столкнулась святая Тереза из Авилы при реформировании монастырей ордена кармелиток, были связаны с опасениями других орденов, что сбор дополнительных средств приведет в отчаяние верующих, которые по временам бывают весьма скупы. С другой стороны, как раз в ту эпоху, когда Анна де Шантрэн находилась в Льеже, появились одержимые из Лудена. Их забрасывали дарами (а можно ли сказать, что эти публичные эксперименты, похожие на представления в ярмарочных балаганах, возбуждали лишь «святое» любопытство?), и с тех пор как одержимость теряла силу и живописные ее приверженцы чуть не умирали с голоду, ее уделом стало всеобщее равнодушие. Что же удивительного в том, что эти несчастные, одержимые (возможно, и симулирующие одержимость) кое-когда удвоят ужимки и прыжки и примутся за пляски на канате, подталкиваемые нищетой и другими искушениями, не последнее среди которых – привлечь как можно больше людей? Политика, религиозные интересы, патология, то есть просто-таки корысть, абсолютная в своей безысходности, присутствуют в Луденском деле, и в этом тоже знак эпохи.
Чтобы не слишком углубляться, достаточно сказать, что множество монастырей обеднели, множество уставных правил не выполняются (потому среди сильных мира сего возникла мода проявлять отвращение к тому или иному ордену), и эти монастыри без зазрения совести обратились к кое-каким свидетельствам милости Божией, чтобы стяжать милости земные. Появление какого-нибудь святого или блаженного – конечно, большая редкость, но можно довольствоваться меньшим: монахиней, осененной благодатью, впавшей в экстаз, одержимой и творящей чудеса, – иногда этого достаточно, чтобы захудалый монастырь обрел славу. В обители Черных сестер ничего подобного не водилось. И потому амбиции настоятельницы были тем более извинительны, что в основе их лежало дело милосердия, которое она творила от чистого сердца, но желала, чтобы об этом знали. Желание само по себе вполне законное, однако оно несло в себе опасность обращения к сверхъестественному, которое они ожидали и чуть ли не призывали.
И несмотря на эту благодатную почву, никакого чуда, никакой одержимости, ни малейшей милости Божией в обители Черных сестер не появилось. Монахини сами по себе были безупречны, осторожная уравновешенность, возможно, проистекала из их воспитательной деятельности, которой они занимались с неподдельной заинтересованностью и бесхитростным милосердием. Конечно, некоторые немного отвлекались, принимали гостей, даже пели романсы; другие небрежно исполняли устав, не соблюдали посты, когда представлялся случай, подавали воспитанницам дурной пример, хвастаясь своим высоким происхождением и добродетелями, но не было ничего, даже отдаленно напоминающего связь со сверхъестественным. Тем не менее случай с Мари де ля Круа в значительной степени возбуждал умы. Когда Мари де ля Круа поступила в монастырь, она столкнулась с завистью, слежкой, недоброжелательством, но ей удалось всех разоружить и избавиться от враждебности благодаря щедрости, с которой она раздала безделки, великое множество которых она привезла с собой (известно, какую цену могут иметь ленты, зеркало, ноты романса для девушек, привыкших обходиться абсолютно без всего), и простоте, с которой она отказалась от всех привилегий, предоставляемых ей ее происхождением, – а ведь есть множество монастырей, где совершенно не признается святое равенство, а действуют все мирские отношения. Особым образом Мари показывала, что ей нравится общество сестер более скромного происхождения (по большей части горожанок и немногих крестьянок, экономок, привратниц и сестер, приставленных к кухне), она играла в домино с сестрой Анжель, переписывала ноты для сестры Сесиль и (то, что считалось из ряда вон выходящим) позволяла себе смеяться над убогими монастырскими шуточками, интересоваться (сохраняя, однако, достоинство) мелкими монастырскими склоками… Короче говоря, она была само совершенство. Но через два-три года здоровье сестры Мари ухудшилось. Она внезапно бледнела, прикладывала руку к сердцу, говоря при этом, что чувствует себя отлично, – верный признак тяжелой болезни в доме святости. Однажды она потеряла сознание на хорах. Она плохо спала, из ее кельи слышались стенания. Полное лицо ее осунулось, под глазами проступили круги, однажды на ее одежде появился след крови – и возник ореол. Сестра Мари сильно покраснела. Все признаки тут же были замечены, и начались обсуждения: было отмечено, что сестра Мари в трапезной оставляет еду на тарелке, – один лишь Господь знает, до чего скудным был монастырский стол; она сделала сестру Анжель своей наперсницей, а сестра Анжель строже всех соблюдала устав; и пошли разговоры, что сестра Мари жаждет святости. Вещь в те времена вполне естественная; часто в монастыре с его обычным контингентом светских дам, старых дев и крестьянок появлялись одна-две монахини, доводившие себя до исступления, несколько душ устремлялись на завоевание небес таким же образом, как рвутся участвовать в соревнованиях, а уж если в одной обители находятся две-три чемпионки аскетизма, то начинают разыгрываться настоящие турниры, причем искренняя набожность не исключается и, можно сказать без предубеждения, появляется даже какой-то спортивный дух. Эти великие оргии поста, эти опустошительные сражения самопожертвования, эти подлинные рекорды вызывают восхищение. Известен случай святого Петра из Аль-Кантары, который спал всего два часа в сутки, да и то сидя на корточках; более близок нашему времени случай с кюре из Арса, который съедал всего лишь несколько вареных картофелин в неделю, особенно радуясь, если картофель оказывался подгнившим; можно вспомнить еще чудесное паломничество в XVII в. дьякона Пари, исходившего всю Францию пешком в плохое время года по кочкам и оврагам, чтобы освоить, если я осмелюсь выразиться подобным образом, новейшую технику умерщвления плоти.
Посредственность, однако, не была идеалом благочестия. А веком раньше, в эпоху, когда Анна де Шантрэн жила в Льеже, никого не удивляло, если какой-то монастырь жаждал, что в его стенах воссияет один из чудесных цветов святости. Без сомнения, в этой надежде присутствовала и мечта о чуде; без сомнения, присутствовало и много лишнего, и тут был риск вызвать к жизни патологическое, столь тесно связанное с феноменом мистического. Но безумие было прекрасным, чаяния исполнены веры и безграничного оптимизма, который мы теперь утратили. Облагородить веру – разве это не значит отрицать собственную волю к преображению?
Сколько же монастырей, желая иметь святую или блаженную, держали в своих стенах монахинь, отмеченных стигматами, более или менее подозрительными, полусумасшедших тихих эксцентричек, истеричек, одержимых, выявляя среди них по временам истинных приверженцев дьявола! Где же правда? В вере, которая вырождалась, допуская зло, или же в заботе о чистоте помыслов, когда забывают о всемогуществе благодати, о самоочевидности существования сверхъестественного, воплощения его в себе? Но здесь не место представлять в целом или детализировать это противоречие. Мы рассказываем прекрасную историю, вызываем к жизни наивный образ, любопытный сам по себе, подобный тем, что мы находим в старых, заброшенных фламандских часовнях. Это старая, потрескавшаяся картина, почерневшая от времени, на которой едва можно различить фигуру, держащую в руках розу; это маленькая восковая группа, немного оплавившаяся под стеклянным колпаком, засиженным мухами, на который уже никто не обращает внимания. Это дитя, маленькая девочка, которая глядит вокруг себя, извращенно забавляясь образами, которые ее окружают, дергает их за веревочки, провоцирует реакции, примеряет эмоции, как примеряют костюмы, маленькая девочка, как многие другие, которая кончит костром, как другие, даже не зная, была ли она на самом деле прислужницей зла. Она будет отвечать «да», она будет отвечать «нет», она будет слишком громко кричать о своей невиновности, что не совсем верно, она слишком легко признает свою вину, и это ее успокоит. И все это вперемешку, в то время как судьи множество раз будут задавать ей вопросы, чтобы узнать, не безумна ли она. Но разве весь мир безумен? Шабаши, котлы, зарезанные дети, животные, которым поклоняются недостойным образом, ритуалы, оргии, гротескное убранство, порочное и ужасное, – не порождение ли это человеческого разума? Более того, не странная ли это общность, объединяющая судью и обвиняемого, палача и жертву? Это невероятный мир, нечистый, жестокий, инфантильный, кошмар, происшедший от этого ужасного союза, как чудовище, порожденное двумя химерами. Судья и обвиняемый, взаимно оплодотворяя друг друга, служат друг другу поочередно то инкубом, то суккубом. Этот механизм, эта адская машина пока что наготове, ее может привести в действие что угодно, даже наивная греховность помыслов ребенка. Потому что и в смертный час Анна была еще ребенком (и, умирая, она в конце концов утешилась тем, что ускользала от постоянного конфликта между воображением и реальностью, и то, и другое так крепко переплелось, что она заблудилась в этих дебрях, как в лесу кошмаров, и единственным выходом для нее оказалась смерть), и ребенком она была тогда, когда поступила в обитель Черных сестер, именно ребенком, обладающим магической властью и тончайшей интуицией детства, ощущением сверхъестественного и пониманием воображаемого, что тесно связано друг с другом, – в этом и заключается главная опасность, опасность для жизни в то время, опасность для разума во все времена.
Анна полюбила Мари де ля Круа, она полюбила ее обеими сторонами своей натуры, она полюбила ее духовно за ее духовность, она полюбила ее в воображении за ее воображаемый мир, за чудеса, которые от нее ожидались. Вся обитель разделяла это неясное чувство. Была ли Мари столь беспорочна, чтобы выдержать это? Она переносила враждебность с кротостью, на радость своим почитателям. Анна испытывала на ней все свои сомнительные штучки; она пыталась вывести ее из себя, изображая непонимание и тупость, она пыталась унизить ее, задавая вопросы по тем предметам, которым Мари ее не учила; старалась ее смутить, поверяя ей самые ужасные богохульства, когда-либо услышанные, или грубые сцены, которые ей довелось видеть во время странствий с отцом. Мари оставалась непоколебимо кроткой. Тогда Анна попыталась пустить в ход страхи, потом постаралась превратить эти страхи в чары. Она демонстрировала усердие и прилежание, стремилась удостоиться одобрительного взгляда; Мари хвалила, одобряла ее, но как-то небрежно. Анна стала постоянной обожательницей Мари. Покорность ее стала сервильной, старания безграничными, глаза ее все время были устремлены на Мари, любовь ее к Мари стала властной и агрессивной, как ненависть. Мари улыбалась, и Анна наслаждается смятением собственных чувств (это ее и погубит): она любит Мари и играет в любовь к Мари. Она поклоняется ее образу, и тем не менее ей хотелось бы сокрушить его и уничтожить. Желая в душе, чтобы Мари была безупречной, она старается постоянно ее испытывать, что вполне естественно, но при этом она жаждет видеть ее падение. Что же, для нее совратить – это обладать? Вот что это такое: совратить – это значит овладеть, поскольку это означает совершить действие, гораздо более весомое, чем самостоятельный порыв души, но это означает владеть в воображении, потому что, совращая, уничтожают то, чем можно владеть в реальности. Анна загнана в угол, смущена своей зарождающейся женственностью, раздвоением чувств, но она загнана в угол не всерьез. В ее жизни, столь краткой, драма взросления не является прологом, не является зародышем или предвестником того, что будет потом, тут все, и потому все полно символического значения. Анна, играя в духовную жизнь, играет также и в жизнь физическую, и это придает игре, наблюдаемой со стороны, патетический характер, подобно бою быков. Но тут лишь одна сторона вопроса, преображенная эпохой живописная сторона этой духовной драмы, то, о чем Пеги говорил: «Все сыграно в двенадцать лет».
Фразу можно понять и буквально, потому что в двенадцать лет, действительно, играют. В двенадцать лет играют на сцене, играют героя в интересной истории, но реплики, которые произносят, не вникая в их смысл, жесты, которые делают, чтобы примериться, как примеривают маски, кажутся зрителю исполненными глубокого смысла, по ним можно предсказывать будущее, как по прекрасным картинкам, изображенным на гадальных картах. У Анны будущего нет, и когда она увидит, что ее жизнь окончена, в очень чистой маленькой тюремной камере, в ту зиму, когда ей исполнится семнадцать лет, она сто раз вновь пройдет свою роль, вновь услышит все до одной реплики, вновь просмотрит пьесу сцена за сценой, и все перемешается у нее в голове; как же различить, что было настоящим, что фальшивым? Главные герои, символы в театральных одеждах, подающие свои монологи, – разве это достоверно? Мари, ангел, под ногами которого расцветают розы, Кристиана, чертовка, Лоран, красавец вор, отец, нескончаемые дороги, мечты, сцены с бутылкой, сцены страха, сцены с участием примерной воспитанницы – это гиньоль, с механическими жестами, маленький театр ее совести, луч света, направленный вовне, она представляет себе все это сто раз, тысячу раз, в то время как она, потерянная, мечется, задает себе вопросы, не зная, что делать, и может только повторять фрагменты своей драмы.
Но она его сыграла, спектакль рока. Причем дважды: удар грома, и она его прожила. Два мгновения одной жизни, когда завеса разрывается и обнажает душу, живущую в теле, и от этого никуда не уйти. Два мгновения, когда вдруг не хватает текста, когда нет выбора, нет возможностей: когда никуда не деться от себя самой. А третье мгновение – костер. Но у кого за всю жизнь найдется более двух-трех моментов истины? Умирающий ребенок, зарождающаяся любовь, опасность смерти, опасность жизни, и вдруг ты замечаешь, что спишь. А иногда настает миг чистейшей благодати, пчела садится на розу в правильно разбитом саду, и это рождает легенду. Остальное время… Сон, населенный неясными видениями, которые очень трудно разгадать.
Темный и теплый покой наливающегося соками, обрастающего ветвями и листьями тела; все это циркулирует внутри: она пока еще вещь в себе. Тоннели, пещеры, алые проблески – все это кружится, во всем и добро и зло; ты задыхаешься и, наслаждаясь, не замечаешь этого. Не замечаешь до момента, когда сквозь отверстие раны проникают потоки воздуха, и ты вздыхаешь полной грудью, разве можно это когда-нибудь забыть? Боль от раны способна принести радость: вечером, идя по длинным коридорам, по холодному, натертому полу, по вощеным плитам, по бесконечной черно-белой шахматной доске переходов, Анна в одиночестве слышит звук своих легких шагов, таких печальных, гнетущих, останавливается у входа в часовню, нерешительная, привлеченная тишиной. Быть может, в этот вечер она лишена абсолютно всего, у нее больше ничего нет, даже грехов, это мгновение, когда кажется, что можно сделать любой жест, прокричать любое богохульство, все погрузиться в тишину, чтобы исчезнуть навсегда.