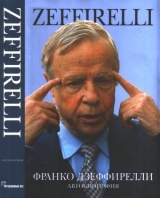
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Франко Дзеффирелли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
Это был очень веселый месяц, мы много работали, очень сдружились и многое открыли. Приехали в Буссето и другие артисты, не только итальянцы, но и из соседних стран, слетелись как голуби на голубятню. Прелестный городок наполнился молодежью, полной энтузиазма и сил.
Я был в полном упоении, результаты не могли не быть великолепными. Международное признание и успех спектакля в Буссето и других театрах, где он был показан, подтверждает, что эта маленькая «Аида» – действительно самая удачная оперная постановка за всю мою жизнь.
Лучшее лекарство от моих болезней.
В день премьеры 27 января 2001 года, в столетнюю годовщину со дня смерти Верди, в театре собрались особенные зрители. Там были Рената Тебальди и Джульетта Симионато, которые когда-то, в годы славы, великолепно пели Аиду и Амнерис по всему миру, и нередко вместе с Бергонци в роли Радамеса.
После любовного дуэта третьего акта растроганные зрители пять минут аплодировали стоя. Невинность и чистота этих молодых певцов, с точки зрения как вокала, так и актерского мастерства, сделала их персонажей живыми, и публика без памяти влюбилась в них.
На этой крохотной сцене все выглядело как в увеличительном стекле – не пропадал ни жест, ни выражение лица. Наконец-то восторжествовала деликатная, трогательная история любви. Для меня это было самое большое достижение.
Не знаю, смогу ли еще когда-нибудь так удачно что-нибудь поставить, как поставил эту «Аидочку», маленькую, но огромную. Как будто какая-то удивительная сила соединила в прекрасном геометрическом узоре талант всех участников, от самого последнего члена массовки до прекрасных исполнителей главных партий: Адина Аарон – Аида, о которой можно было только мечтать, прекрасная, черная, полная страсти; Кейт Олдрич – Амнерис, властная царственная тигрица; Скотт Пайпер – Радамес, мужественный сильный воин, настойчивый и честолюбивый, но уязвимый и ранимый.
Я очень люблю этот период своей жизни, потому что он выпустил на свободу новые жизненные силы как раз тогда, когда я уже собирался сказать всем последнее прости. Доктор Познер оставил мне надежду и луч света в том мраке, который окутывал мое будущее. А теперь все снова засверкало в ослепительном свете. В волнах этого света, как в отблеске буссетовской «Аидочки», состоялся и мой второй спектакль на Арене ди Верона, тот самый «Трубадур», которого я задумал на больничной койке в клинике профессора Легре. В этой опере ручьями льется кровь, там столько насилия, столько страсти – вот так молодой Верди неожиданно заявил о себе на всех сценах Европы. «Берись за работу и не сомневайся, не хнычь о здоровье», – слышал я внутренний голос, звучавший как приказ. Ослушаться я не мог – и нырнул в эту позитивную атмосферу.
Я представил, а скорее, увидел мир «Трубадура» как мир оград и решеток, оружия, жестоких битв, страстных цыган, любовной горячки, пыла страсти и ревности. Сцена так и возникла перед моим внутренним взором, воплотить ее в реальности оказалось просто, и Арена получила отличный спектакль в год памяти Верди. Один из самых моих лучших спектаклей, он убедил меня, что я снова наконец на верном пути.
Кроме того, пока я готовил «Трубадура», мы с Мартином Шерманом работали над сценарием для фильма «Каллас навсегда», который я начал снимать, едва выпустил спектакль в Вероне.
Я вновь обрел мечту, муки творчества, отвагу и безумие золотых лет.
XXV. Четырежды двадцать
После смерти Марии Каллас мне неоднократно предлагали сделать фильм о ней – о ее жизни, успехе и бесконечных сплетнях и интригах, окружавших ее. Болезненное любопытство продюсеров больше всего возбуждал треугольник Каллас – Онассис – Жаклин Кеннеди. И всякий раз мне приходилось с твердостью заявлять, что я был слишком близок к Марии и ее проблемам, чтобы браться за такую деликатную тему. Уж если я и решусь снимать о ней фильм, то пойду совсем другим путем.
Время от времени мысль об этом опять приходила мне в голову, но я ждал, что появится какая-нибудь «главная идея», как у меня обычно бывает. Какой-нибудь неожиданный и очень убедительный поворот, который даст возможность рассказать о личности такого грандиозного масштаба, как Мария, чья женская судьба при этом оказалась столь несчастливой. Я часто задумывался о проекте фильма «Кармен», который когда-то предлагал Марии через принцессу Грейс. Все фильмы-оперы снимаются под запись. Я думал воспользоваться потрясающей записью «Кармен» 1964 года под управлением Жоржа Претра. Мария в свое время не очень-то обнадежила меня, когда я заговорил об этом еще до неудачной попытки принцессы Грейс:
– За сколько времени до съемок вы обычно записываете оперу? – спросила она.
– По-разному… Иногда проходит несколько недель, иногда несколько месяцев, прежде чем начинаются съемки.
– Вот-вот. А не двенадцать лет, как хочешь ты. Ты предлагаешь мне сделать подделку, фальшивку. Я больше не хочу об этом слышать.
На этом проект застопорился окончательно.
Я потом часто задумывался над тем, что было бы, если бы Мария тогда согласилась, и потихоньку проект нового фильма стал вращаться вокруг этого предположения, вполне имевшего право на существование. Действительно, технические достижения могут быть полезны таланту, предоставить ему новые средства выражения. Они могут даже задержать наступление того времени, когда творческий потенциал и талант перестанут соответствовать физическим возможностям. Последняя «Норма», которую Мария пела в Париже, была, безусловно, самой глубокой трактовкой образа героини, изумительной и наиболее зрелой. Ее прочтение персонажа достигло невиданных высот. Но голос, главный инструмент, ее подвел.
Думаю, что такова всеобщая судьба. В то время как наш разум и творческие способности достигают вершин, судно, несущее этот драгоценный груз по волнам жизни, начинает разваливаться.
Настоящая драма Марии заключалась в том, что она, истинная гречанка, отказывалась признать, что ее дух терпит поражение из-за распада материи, поэтому сама стала способствовать его увяданию. Рассказать об этом в фильме нелегко, но я выбрал именно такой нелегкий путь. В том и состояла моя «главная идея» – как остановить процесс с помощью технических достижений. Конечно, это тоже ненадежный способ, потому что никто и никогда не сможет замедлить безжалостный ход времени.
Передо мной встала серьезная проблема – найти актрису, которая убедительно сыграет такую сложную героиню, как Мария, этакого окостеневшего всемирно известного идола. По некоторым соображениям мне казалось, что это должна быть певица, и я подумал о Терезе Стратас. И хотя она не обладала величественной статью Марии, чертами лица и блеском в глазах очень ее напоминала. Она тоже была гречанкой и тоже переживала в тот момент неизбежный кризис голоса и карьеры.
Ее ответ на мое предложение был абсолютно негативным:
– Франко, ты шутишь? – были ее первые слова.
Но позже, как следует подумав, она поняла, что фильм может стать для нее возможностью начать работу в ином направлении, и согласилась приехать в Рим на кинопробу. В гриме и парике она была необыкновенно похожа на Марию, так, что смотреть было страшно. Ей не хватало только удивительной властности Каллас: когда та входила в помещение, казалось, что вошла королева. Но в общем Тереза была хороша в этом образе, и я даже решился дать объявление для прессы. Но она внезапно исчезла, а через несколько дней написала из Америки, поблагодарила за доверие и извинилась, объяснив, что не готова взять на себя ответственность за провал такого фильма. Она слишком любила меня и уважала память Марии, чтобы позволить себе такое.
Я стал думать о других вариантах, и мне пришла в голову Фанни Ардан, которая в Париже уже сыграла Каллас в комедии «Мастер-класс» Теренса Макнэлли. Я давно следил за этой актрисой, она мне очень нравилась. Я договорился с ее агентом, что как только закончу буссетовскую «Аидочку», приеду в Париж на встречу. Но Фанни, практичная и решительная женщина, узнав, что я хочу снимать ее в этом фильме, решила не терять времени, бросила то, чем занималась, и сама примчалась со мной повидаться.
Мы встретились в холле гостиницы. Фанни сказала, что совершенно не собирается ждать, пока агенты обеих сторон условятся о встрече. Это было какое-то чудо. Сила и решительность этой уникальной женщины ни с чем не сравнимы, ее человеческое тепло и острый ум сразу покорили меня. Последние сомнения исчезли, и в тот же вечер я позвонил продюсерам сообщить, что Каллас найдена.
Никогда еще я не был так увлечен созданием персонажа, как во время работы над этим фильмом. День за днем Фанни Ардан постепенно воплощала идеальный образ Марии Каллас. Я даже стал чувствовать себя виноватым: игра Фанни была настолько убедительной, что мне казалось, что произошло настоящее перевоплощение Марии. Даже Джоан Плоурайт и Джереми Айронс, которые не были лично знакомы с Марией, чувствовали особое напряжение, играя с Фанни, – им казалось, что они таинственным образом приблизились к Каллас, и это ощущение их сильно волновало.
Мы снимали в драматическом театре Бухареста 11 сентября, ближе к вечеру, когда сообщили, что в одну из башен-близнецов в Нью-Йорке врезался самолет. Поначалу все решили, что это ужасный несчастный случай, но следующий самолет врезался во вторую башню, а потом еще два самолета взорвались в других местах. Сомнений не было: это был неслыханный террористический акт. Трагедия мирового масштаба. Мы видели по телевидению душераздирающие картины разрушения и боли, но еще не понимали вселенских масштабов катастрофы.
Только потом мы догадались, что это объявление войны нашей цивилизации, культуре, всему нашему миру. Но враг был вовсе не из какой-то другой цивилизации, это были преступники из безграмотных и отчаявшихся отбросов мусульманского общества.
По окончании съемок меня опять ожидала опера. Я сдержал слово и с удовольствием вернулся в Буссето год спустя после «Аиды» ставить на очередной юбилей Верди всеми любимую «Травиату». То прочтение, которое я впервые использовал с Марией в Далласе в 1958 году, осталось для меня незыблемым, и я без колебаний обращался к нему в каждой постановке. Это вовсе не «режиссерская находка», это путь, предложенный самим автором, который недвусмысленно указывает на него уже в музыке увертюры.
Такой подход требует развертывания всей оперы между двумя схожими увертюрами – первого и третьего акта, и таким образом все события предстают перед зрителем как долгий флешбэк.
Я говорил о том впечатлении, которое опера произвела в Далласе. В Буссето я остался верен первоначальной идее, но со времени Далласа прошло немало лет, и у меня появились и новый опыт, и новые возможности. Например, в некоторых своих постановках я использовал геометрический подход и решил прибегнуть к нему и в маленькой «Травиате» в Буссето. Я построил декорации из прозрачной пластмассы, с концентрическими конструкциями, которые едва заметно крутились одна внутри другой, по-разному организуя пространство и объем, но подчиняясь сценическим и драматургическим требованиям Верди.
В результате получился самый «авангардный» – после железной чертовщины «Трубадура» – из всех моих спектаклей.
А труппа была великолепной, и вела ее волшебная дирижерская палочка Пласидо Доминго. Такую Виолетту, какой стала Стефания Бонфаделли, можно встретить разве что в раю, как говорят англичане, жизнерадостным Альфредом был Скотт Пайпер, который пел у меня в «Аиде» Радамеса, а Жермон… О, Жермоном стал несравненный Ренато Брузон! Идеальный, прекраснейший Жермон. Какое удовольствие было видеть и слышать его. Такое не забывается…
В то лето 2002 года в Вероне были показаны три мои постановки: восстановленные «Кармен» и «Трубадур» и новая монументальная «Аида». По-моему, это самая грандиозная «Аида», которую когда-либо ставили, как кто-то про нее написал, но в любом случае она очень отличается от всего, что я делал раньше. Все оформление было как гигантский калейдоскоп из позолоченного металла. Свет падал на него под разным углом, и он все время отсвечивал по-новому. Публика была потрясена.
Но ведь, как писал, кажется, Леонардо, цель поэта – подтолкнуть воображение и вызвать восторг, удивление и мечту; и даже если это сказал кто-то другой, смысл не меняется.
Об Арене ди Верона могу сказать только самое хорошее. Спектакли, которые я создал для этого единственного в мире театра под открытым небом, идут не один сезон и имеют успех. Публика там очень требовательная и съезжается со всей Европы, чтобы увезти домой незабываемые впечатления. Критики тоже не дремлют и не забывают о своих вечных «если бы» и «однако», но ждут меня с нетерпением, потому что я всякий раз даю им возможность как следует сэкономить на похвалах, которые щедро получаю от восторженной публики.
Это наши старые развлечения, и я стал искренне веселиться с тех пор как перестал воспринимать их всерьез и думать о них как о чем-то очень важным. С другой стороны, «политкорректность», у которой я давно в черном списке, – дело слишком серьезное и актуальное, хотя люди вроде меня позволяют себе считать его занудством, вроде назойливого комариного писка. Меня гораздо больше волнует судьба молодежи, которая сегодня пытается приблизиться к «планете культура». Она-то в этих рамках выросла и навсегда рискует застрять в своем неприступном культурном гетто.
В речи, произнесенной в Организации Объединенных Наций в 1961 году, Джон Фицджеральд Кеннеди говорил о политкорректности, которая уже тогда начала отравлять мозги и души. По его словам, политкорректность – «это не что иное, как отвратительный конформизм, настоящий тюремщик свободы мнений и первый враг распространения новых идей. Величайший механизм, который порождает культуру, вдыхает в нее жизнь и дает силы, никакого отношения не имеет к этим молчаливым ползучим правилам поведения, ограничивающим свободу ума».
Увы, достаточно взглянуть на плоды этого явления. Кажется, мудрость мира иссякает на глазах. Где великие столпы культуры? Где они, новые художники, писатели, скульпторы, музыканты, драматурги? Кругом голая безрадостная пустыня. На какие маяки должны держать путь новые поколения?
Сегодня, как это ни печально, творческое начало стало весьма редким явлением. Маленький скромный огонек нет-нет да и вспыхнет то там, то сям, но нигде не оставляет следа. Кому сегодня писать «По ком звонит колокол», «Дьявол во плоти» или «Равнодушные»? Где сегодняшние Сартры, Кальвино, Палаццески и многие другие? Литература вертится вокруг собственной оси, выдает книги, годные разве что на корм кинематографу. А где великие мюзиклы «Моя прекрасная леди», «Вестсайдская история», «Кабаре», «Эвита»? А куда подевались театральные пьесы? По иронии судьбы английская сцена первой была поглощена политкорректностью после Джорджа Бернарда Шоу, когда в американском театре еще гремели Теннесси Уильямс, Миллер, Олби. Живопись вообще оказалась «потерянным раем»; у нас теперь художники вроде Каттелана с его нестерпимым абсурдом: Папа Римский, на которого падает метеорит, повешенные на деревьях дети, слон в белом саване. Да еще за миллионы долларов! В архитектуре пока удается создавать потрясающие шедевры, но это уже не искусство, а чудеса техники.
Давно было решено, что мой фильм «Каллас навсегда» будет показан первый раз в Париже на двадцать пятую годовщину со дня смерти Марии, в сентябре 2002 года. К сожалению, в тот момент большая часть французской культуры и массмедиа была откровенно настроена против всего итальянского, потому что у нас в стране к власти пришел Берлускони. Это выглядело глупо и некрасиво и явно было продиктовано деятелями культуры коммунистического толка, которые быстро нашли последователей среди левых французских болтунов. Они не пощадили даже великолепную, несравненную Фанни, не простили, что она «переметнулась к врагу».
Отголоски такого отношения французской критики донеслись и до Италии, но большого эффекта не имели – там фильм понравился, как понравился в Японии, где собрал рекордные суммы, и в России, где стал культовым. А в Греции успех был таков, что министр культуры Евангелос Венизелос наградил меня почетным гражданством.
Зато в Америке к фильму изначально отнеслись отрицательно. Американским зрителям Каллас была знакома как американка греческого происхождения, и они с трудом приняли актрису-француженку. Более того, картина была сразу воспринята как фильм-опера.
«Каллас навсегда» была показана в Нью-Йорке на День Колумба. Премьера в «Зигфельд Театре» стала классическим парадным вечером: красные дорожки, шампанское и папарацци, а потом прием в мою честь, данный Лоуренсом Ориана, очаровательным человеком, председателем Фонда «Коламбус Ситизен».
Билет на это вечер стоил в среднем тысячу долларов. Сбор составил полмиллиона, которые пошли на организацию Фонда Дзеффирелли. Это стало для меня чудным сюрпризом, я и знать не знал, что ежегодно от моего имени назначаются две именные стипендии для обмена между итальянскими и американскими студентами. Фонд помощи молодым талантам в области изобразительного искусства должен был разместиться, разумеется, во Флоренции. Не могу не сказать, что это доброе дело, которое будет ежегодно пополняться новыми молодыми именами, очень тронуло меня.
На другой день был собственно праздник. Он начался торжественной обедней в соборе Св. Патрика, которую служил епископ Иген. Я успел после службы обменяться с ним парой слов, достаточных, чтобы понять, что он тонкий человек и остроумный и приятный собеседник. Очень надеюсь встретиться с ним еще.
Главная часть торжеств – это традиционный парад по Пятой авеню. Я открывал его как «Великий маршал», с роскошной бело-золотой перевязью, на прекрасной старинной итальянской машине, под дождем из конфетти и серпантина и под аплодисменты толпы, которая выстроилась вдоль улицы, где в минувшие времена проходили все великие люди Америки.
Один паренек, по-моему, мексиканец, подошел ко мне и возбужденно спросил с горящими глазами:
– А я вас знаю, видел вас по телевизору. Вы ведь с Луны прилетели?
– Боюсь, что нет, – весело ответил я. – Я всего лишь из театра «Метрополитен-опера». Но уверяю тебя, что там куда интереснее, чем на Луне. Я тебя туда свожу.
После парада – нью-йоркская биржа, где я, как положено, объявил об окончании рабочего дня ударом молоточка. В тот день, как ни странно, индекс Доу Джонса поднялся очень высоко после продолжительного спада. Может, и это положительные волны?
Но день еще был далек от завершения. По счастливому совпадению, в тот вечер в «Метрополитен» давали «Турандот» в моей постановке, которую я не видел ни разу после премьеры 1987 года. Это было очень приятно – как будто увидеть любимое дитя, сделавшее блестящую карьеру. Я сидел в директорской ложе и с душевным трепетом вспоминал переживания и радости той далекой премьеры. В антракте меня узнали зрители и приветствовали аплодисментами.
Так мне представилась возможность оценить постановку спустя много лет. Казалось, будто я сделал ее вчера – хороший спектакль, который до сих пор вызывает энтузиазм зрителей. Еще одна моя вещь, которая сохранила молодость после долгих лет жизни.
Когда опера закончилась, я вышел на сцену. Кто-то, очевидно, предупредил хор и артистов, что я хочу их поприветствовать, потому что не ушел никто. Не могу передать, как я был растроган выражениями любви и уважения, которыми меня встретили. В день, когда праздновалась дружба между итальянцами и американцами и я играл главную роль, так приятно было услышать, как хор из-за занавеса запел гимн Италии!
Сценарий «Каллас навсегда» был написан Мартином Шерманом, с которым много лет назад меня познакомил Кристофер Хэмптон, работавший тогда над моими «Флорентийцами». Мартин меня очень интересовал с тех пор, как я посмотрел на Бродвее его комедию «Склонность» с Ричардом Гиром. Мне он очень импонировал как человек, живой, очень умный и непредсказуемый. Когда мы работали над фильмом о Каллас, зашла речь о моих спектаклях на британской сцене, и я выразил сожаление, что никогда не ставил в Англии Пиранделло. Я не переставал об этом сокрушаться, и Мартин помог найти продюсера. Мне всегда хотелось отыскать английского писателя – «брата-близнеца», чего не удалось сделать в кино, и я предложил Мартину сделать перевод одной из лучших пьес Пиранделло «Это так, если вам так кажется». Написанная в 1917 году, она – настоящее сокровище, в котором уже есть все новые течения XX века, и одна из точек отсчета современного театра. Мартин подготовил идеальную адаптацию текста: он прекрасно ухватил тайну языка Пиранделло, его невинный и в то же время колкий юмор, игру двусмысленности, которая и раздражает, и приводит в восторг зрителя.
В начале нового года я стал почетным гостем кинофестиваля в Палм-Спрингс, где мне вручили специальный приз за достижения в кинематографе. Организаторы фестиваля были чрезвычайно любезны, хотя в таком месте, как Палм-Спрингс, где все мило и неброско, быть любезным не так уже трудно. На фестивале показали «Каллас навсегда», зал аплодировал стоя, но в Голливуде никто на это не обратил внимания. Назвали фильмом-оперой, пусть и хорошим, удачным и достойным внимания – так в тот кузов и полезай.
Хотя Лос-Анджелес ассоциировался у меня с недавними тяжелыми переживаниями в связи с медицинскими проблемами, это все-таки было место приятных воспоминаний. Там жили любимые друзья, и я с радостью встретился с ними. Тогда же случилась особенная, совершенно неожиданная встреча.
Среди предметов реквизита, использованных в моих фильмах и несколько месяцев назад выставленных на аукционе «Сотбис», было большое распятие, изготовленное для фильма «Брат Солнце, сестра Луна», копия старинного распятия, перед которым произошло обращение Франциска Ассизского: Распятый заговорил с ним и изменил его жизнь. Франциск своими руками построил на отшибе маленькую церковь Св. Дамиана и перенес распятие туда.
У нас в распоряжении было достаточно материалов и исторических документов, чтобы художники, используя старое дерево и краски, изготовленные по старинным рецептам, могли создать копию, способную обмануть лучшего из знатоков. Когда фильм был закончен, распятие так и оставалось среди развалин церквушки, которую мы построили для съемок, под дождем, снегом, палящим солнцем – не знаю, сколько времени.
Кто-то напомнил мне о нем, и я решил вернуться в те места, где много лет назад мы снимали фильм. Распятие по-прежнему было там и производило такое впечатление, что мне показалось кощунством оставить его там гнить. Я привез его домой, но подобрать ему место оказалось трудно. Это был предмет, имеющий собственную историю, и эта история вовсе не должна была завершиться на стене моего кабинета.
Эксперты из «Сотбис», приехавшие, чтобы отобрать для аукциона предметы, которые я использовал на съемках, сразу обратили внимание на распятие и сняли с моих плеч большой груз, забрав его с собой.
То, что я сейчас расскажу, не шутка и не придуманная история. Когда я пришел к обедне в наш приход в Беверли-Хиллз, в церковь Св. Викентия на Сансет-бульваре, я остановился как вкопанный, потому что увидел над главным престолом наше распятие из церкви Св. Дамиана. Это было идеальное для него место, оно придавало всей церкви, современной и некрасивой, особо сакральный вид.
Я встал на колени и надолго погрузился в молитву, чтобы успокоиться от нахлынувших воспоминаний. Меня действительно поразила судьба этой вещи – предмет, реквизит для съемок, нашедший постоянное прибежище в городе грез и иллюзий. Его домом стал Голливуд!
Вот вам и мудрая судьба!
По правде говоря, мы такие, какими сами себя видим. Наше представление о себе может быть настолько убедительным для других, что возникает соблазн поверить, что все так и есть на самом деле. По мере приближения февраля я стал смиряться с тем, что придется отмечать восьмидесятилетие. В жизни человека есть два совершенно особых возраста: двадцать лет – первое приветствие жизни и всему, что она несет, и восемьдесят – время размышлений и подведения итогов.
Когда меня спрашивают о возрасте, я непринужденно отвечаю «четырежды двадцать», и это оттого, что я ощущаю себя четырежды двадцатилетним! А когда я смотрюсь в зеркало, мне кажется, что я среди тех, кому от шестидесяти до семидесяти пяти. Неужели восемьдесят? Господи помилуй!
Я догадывался, что совсем избежать празднования дня рождения не удастся, и подозревал, что кое-что уже готовится, потому что Пиппо и Лучано последние дни вели себя странно, куда-то все время исчезали, вели тайные переговоры по телефону, не отвечали на мои расспросы и все время где-то пропадали. Я решил, что они заняты организацией праздника, и умолял их сделать его поскромнее, потому что не так уж рвался отмечать эту дату.
Целую неделю по телевидению показывали мои фильмы, а газеты публиковали статьи о моем творческом пути, моем невозможном характере и о «постыдной» политической ориентации. Волей-неволей календарную дату отмечать было надо. Ощущение грядущего празднования витало в воздухе, но я даже не подозревал, какой снаряд вот-вот разорвется над моей головой. Я и представить себе не мог, что Пиппо и Лучано организовали колоссальное торжество в Оперном театре Рима, которое в прямой трансляции передавалось по телевидению.
Пришли все, все мое поколение, даже мои «исторические» противники, все, кто всю жизнь создавал мне трудности (они скривились и в этот день, когда приехал Берлускони, который вместе с Джанни Летта захотел лично меня обнять). Я получил массу подарков от далеких и близких друзей. Принц Чарльз прислал очень трогательное письмо, которое прочитала леди Джессика Шеперд, супруга посла Великобритании. Друзья, которые не смогли присутствовать лично, прислали видеозаписи: ах, какие поздравления я получил от Пласидо Доминго, Джоан Плоурайт, Мэгги Смит, Джуди Денч, Роберта Пауэлла, Оливии Хасси и многих, многих других. Хор «Метрополитен-опера» спел для меня поздравление вместе с солистами и техническим персоналом. Очень любезным и красивым было приветствие от токийского Императорского театра, далее следовали прелестный, специально сочиненный дуэт моих любимых близняшек сестер Кесслер, безумный танец цыганской труппы из Андалузии и еще, и еще, и еще… Казалось, вся планета, на которой я живу, хотела убедить меня в крепкой и долговечной любви и дружбе!
После того как было зачитано письмо принца Чарльза, моя приятельница Лина Вертмюллер сказала как бы шутя:
– Ну, хватит уже, тут только Папы Римского не хватает.
Не успела она произнести эти слова, как в заключение поздравлений я получил особое благословение Папы Иоанна Павла II.
В предыдущих главах я не стал рассказывать о важном решении, принятом в 1999 году, в тяжкий год, когда у меня начались серьезные проблемы со здоровьем. Если мне удалось пережить этот непростой период и вернуться к активной жизни, то обязан я этим поддержке и преданности моих ребят, Лучано и Пиппо, которые ни разу не отошли в сторону от моих проблем, не выказали усталости или неверия. Я давно решил, что должен дать им тот официальный статус, который они заслужили долгими годами тепла и привязанности, согревшими мои зрелые годы, и в 1999 году официально усыновил их.
Моя тетя Лиде говорила, что родных не находят в колыбели, а родственники часто оказываются сущими змеями. Настоящее родство не по крови, а по любви.
Со временем узнаешь людей, притираешься к ним, живя рядом, внимательно наблюдаешь, как они ведут себя в разных обстоятельствах, открываешь для себя их сущность, видишь, как они преодолевают жизненные препятствия. И наконец понимаешь, что отношения дружбы и взаимоуважения переросли в нечто большее – любовь между отцом и сыновьями.
Я уже рассказывал, что в последние годы на меня сыпались бесконечные неприятности со здоровьем: неудачно проведенные операции в самых знаменитых клиниках мира, инфекции, сердечная недостаточность и все прочее. Крестный путь, который я не сумел бы пройти без двух этих верных, неутомимых и упорных ребят. Я так зову их, потому что считаю их сыновьями, но это зрелые мужчины, и у каждого своя личная жизнь, на которую они имеют полное право. Так случилось, что их жизнь чудесным образом пересеклась с моей. И все эти годы они ни на минуту не оставляли меня, следовали за мной из больницы в больницу, из театра в театр, с одной съемочной площадки на другую, всегда поддерживали меня и несли радость. Не преувеличиваю, говоря, что мой творческий путь продолжается благодаря им. Если я до сих пор могу браться за очень серьезные дела (что следует из моего рабочего расписания за последние семь лет), то этим я обязан им, и только им.
Как можно не признать за собственных сыновей людей, которые отдают тебе всю жизнь, не впадая при этом в уныние и тоску? Для них ордена за гражданские заслуги будет мало, не то что акта об усыновлении!
Вскоре после своего дня рождения я поехал в Лондон, чтобы начать репетировать вторую комедию Пиранделло – напомню, что итальянская версия «Шести персонажей в поисках автора» в Национальном театре в 1991 году была очень удачной. Я никогда не видел хорошей постановки Пиранделло на английском языке. Мы с Шерманом много работали над проблемой его адаптации. В результате появился текст, который не был буквальным переводом, но очень «по-английски» передавал суть комедии.
В английском варианте она называлась «Absolutely! Perhaps?» и была очень созвучной Пиранделло. Уже само итальянское название «Это так, если вам так кажется» (Cosi è se vi pare) подчеркивает относительность реальности и иллюзии, потому что в конечном итоге Пиранделло видит жизнь как некий трагический фарс. И чем дальше он идет в этом направлении, тем больше захватывает зрителя. Это настоящий шедевр геометрии в драматургии: то, что кажется незыблемым сейчас, в следующее мгновение подвергается сомнению. Загадка растет, приводит в исступление действующих лиц на сцене и зрителей в зале. Каждый персонаж одновременно прав и неправ. Такой подход, характерный для всей драматургии Пиранделло, поставил массу неразрешимых вопросов в Англии, где ты можешь залезать в любые дебри, но в конце концов должен сказать, кто прав, а кто неправ, кто виновен, а кто нет. И вот, хорошо помня про сложные взаимоотношения англичан с театром Пиранделло, я сделал очень веселый спектакль, который с самого начала захватил зрителей и держал в напряжении до конца.
Как же мне было приятно вернуться в лондонский театр! Соня Фридман, продюсер спектакля, сумела сделать все легким, приятным, окружила меня вниманием и даже чрезмерной заботой. Джоан Плоурайт играла в обеих комедиях Эдуардо де Филиппо, которые я ставил в Лондоне, работала со мной в кино. Мы давно и часто говорили о постановке новой пьесы, и она очень обрадовалась, когда разговоры переросли в реальность. Для меня Джоан больше чем друг и великолепная актриса, это родственная душа. Она, как и я, на долгое время уходила из театра, и я почувствовал, что она возвращается к зрителю с большой осторожностью. Джоан прекрасно знала, что со мной она может укрыться от всех ветров, но все равно чувствовала себя немного одинокой и потерянной, поскольку за много лет привыкла к поддержке Ларри.








