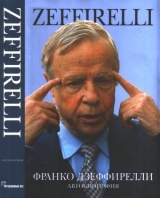
Текст книги "Автобиография"
Автор книги: Франко Дзеффирелли
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 36 страниц)
XII. Богема forever
Теперь, когда я пытаюсь составить полный список своих достижений, или, как говорят англичане, «список для прачки» (дела, встречи, открытия, премьеры и т. д.), выясняется, что это совсем непросто. Темп моей жизни в те годы нарастал, и я вдруг стал сам себе напоминать персонажей французского фарса: вбегаю на сцену из левой кулисы, стремительно произношу реплику и убегаю направо, чтобы тут же появиться из глубины сцены уже в другом костюме и гриме. Карта мира и календарь уже перестали существовать. Не представляю, как мне удавалось быть во всех местах сразу, скакать с одного берега Атлантики на другой, со льдов Севера на южное солнце. Каждый новый проект был похож на восхитительный ужин, который никак не получается съесть, потому что когда блюдо подают, тебе уже надо мчаться к следующему столу, а потом к следующему и так дальше…
Я недосыпал, ел и пил на бегу, даже в самолете, где проводил полжизни, не вынимал изо рта сигарету (тогда это разрешалось). Но каким-то непостижимым образом мне все-таки удавалось справляться с делами и завоевывать расположение коллег. «Список для прачки» может показаться чересчур длинным, но, смею вас уверить, простыни были из чистого шелка, подушки пуховыми, и я с удовольствием на них спал, а не хранил в сундуке.
Наверное, попытка приписать все происходившее одному слепому везению может показаться упрощением. Сейчас, вновь проживая этот счастливый – и безумный – период моей жизни, я задумываюсь над тем, какая загадочная энергия или воля хранит и направляет нас. И снова и снова сердцем чувствую постоянное присутствие матери. С годами я все больше убеждаюсь, хоть и не могу предъявить доказательства, что вся наша жизнь пронизана реальными чудесами.
Холодный рассудок подсказывает простейший вариант: после ухода от Лукино вся творческая энергия, которую я растрачивал на наши отношения, нашла новый выход и вырвалась на свободу. За годы нашей связи я накопил так много знаний, так много замыслов, что, заполучив благоприятную возможность их использовать, оказался вполне готов и не упустил ни одного случая.
И когда в 1966 году я начал снимать свой второй фильм, то продолжал жить в прежнем ритме. Но кино навязывает совсем иной темп работы и жизни, чем театр и опера. Приходится все время что-то продумывать, отвечать за график работ, за сроки и производство, за сотни человек, ожидающих твоей команды. Отношения с актерами строятся уже не по тем правилам, которые диктуют музыка и вокал, когда каждый твой шаг зависит от их слабостей, талантов и, главное, страхов, которые в конечном итоге регулируют отношения между людьми. В театре певцы сразу, на каждую спетую ноту, получают отклик публики. А в кино публика – это абстрактная величина, ей в глаза не заглянешь, горячего дыхания не услышишь, никакого мгновенного отклика не получишь.
Наверно, вспоминая о том напряженном периоде, основную трудность я испытываю из-за того, что многое, чем я занимался лет сорок назад, сегодня не вызывает у меня никакого интереса, независимо от тогдашнего успеха или значения того или иного проекта. Кроме того, перечисление всех моих постановок утомило бы читателя не меньше, чем самого автора. Поэтому я буду вспоминать только о тех вещах, которые до сих пор не утратили для меня важности. И если читателю случится обнаружить пробелы, то именно из-за такого выборочного подхода, а вовсе не из-за рассеянности или провалов в памяти. То же самое относится к хронологии: я пишу по памяти и не берусь утверждать, что все даты верны.
После «Миньон» Тома, моей последней постановки в «Ла Скала» в 1958 году с Джульеттой Симионато и Джанни Райончик и дирижером Гаваццени, мне предлагали очень интересные проекты, но только в «Пиккола Скала», где я был режиссером на постоянной основе. Так продолжалось до тех пор, пока Герберт фон Караян, главный дирижер Венской оперы и музыкальный директор Зальцбургского фестиваля[66]66
Ежегодный музыкальный фестиваль в австрийском городе Зальцбурге, родине Моцарта, в программу которого, наряду с концертами, входят и оперные спектакли. Проводится с 1920 г.
[Закрыть], не придумал программу совместных постановок в «Ла Скала» и в Австрии и не захотел открыть проект новой постановкой «Богемы» в Милане, а затем показать ее в Вене и Зальцбурге. Караян видел «Ромео и Джульетту» в «Олд-Вике» и предложил взять меня режиссером-постановщиком. Уж не знаю, как его затею восприняли в «Ла Скала», но «великий и ужасный» фон Караян не терпел возражений, и мне предстояло вынести на суд соотечественников то, чем я добился расположения у англичан и американцев. Я догадался, что так распорядилась сама судьба, и остался доволен.
Я дал согласие поставить «Богему», одну из моих любимых опер, но с условием, что буду ставить и «Аиду», которая стояла в программе следующего сезона, 1962–1963 годов.
Не знаю, что думал по этому поводу Гирингелли, может, вообще ничего не думал, но ему, конечно, нелегко было согласиться, что целых два спектакля в один сезон будет ставить «этот Дзеффирелли». Но он решил последовать древней мудрости: если врага нельзя убить, с ним надо подружиться. Я получил заказ на обе постановки.
«Богема» – одна из немногих опер, написанная не по пьесе, а по роману Мюрже «Сцены богемной жизни». Поэтому Пуччини и его либреттистам Иллика и Джакоза пришлось писать либретто с нуля. Опера получилась восхитительная, но оставались эпизоды, которые воплотить на сцене было очень трудно. Например, весь второй акт – это цепочка перемежающихся эпизодов рождественской ночи в Латинском квартале Парижа: в кафе «Момус» и на улице. Привычное решение – ставить столики перед входом в кафе, но ведь холодной декабрьской ночью люди не сидят на улице. Я нашел сценическое решение, позволяющее переносить действие с бульвара, где гуляет праздничная толпа, в кафе «Момус» и обратно – решение уникальное и пока вне конкуренции.
Эта постановка «Богемы» в «Ла Скала» считается теперь классикой, и спустя 40 лет после премьеры она снова идет по всему миру с лучшими певцами и дирижерами. А мне она кажется одной из самых удачных моих постановок.
Та премьера 31 января 1963 года имела для меня особое значение, потому что тогда я получил признание, которого был удостоен в Лондоне и Нью-Йорке, но лишен у себя на родине. Для многих деятелей итальянского театра и оперы я по-прежнему оставался одним из мальчиков Висконти, возможно, самым даровитым, но до «Богемы» не имевшим собственного творческого лица. Однако только «Аиде» удалось несколько месяцев спустя развеять последние сомнения в том, что на оперной сцене появилось новое имя, и его носитель сумел добиться успеха собственными силами, вопреки всем противодействиям и бойкотам.
Я заказал декорации и костюмы для «Аиды» Лиле де Нобили, гениальному театральному художнику (лучшему художнику XX века), и она создала изящную версию оригинальной постановки 1868 года в Каире на торжествах по случаю открытия Суэцкого канала. Получилась восхитительная фантазия с величественным и утонченным Древним Египтом, близкая к пышным картинам Гюстава Моро.
При такой сумасшедшей жизни – в невероятном напряжении, в постоянных метаниях между городами и континентами, операми и пьесами – у меня никогда не было времени заняться личной жизнью. Теперь, оглядываясь назад, я подозреваю, что попросту боялся копаться в себе. Мрачная догадка, что это бегство, посещала меня в пустом гостиничном номере, в техасском аэропорту, в ночном баре Барселоны, в пустом театре. Чего же мне не хватало? Любви? В ней не было недостатка, она легко шла в руки, но это была не любовь, а краткое увлечение, за которым неизбежно следовало быстрое расставание.
За мной постоянно увивались обаятельные молодые люди, а скорее, я сам увивался за ними. Но все происходило второпях: я в спешке пожирал прекрасный плод и лишний раз убеждался в недолговечности мечты. К тому же я никогда не оставался надолго на одном месте и часто менял обстановку и окружающий пейзаж.
Как-то раз один безнадежно влюбленный поклонник припал к моей руке, обливаясь слезами.
– Спасибо, спасибо, – шептал он дрожа.
– За что? Разве я что-то тебе дал? – спросил я, страдая от неловкости положения.
– За то, что разрешаешь себя любить, мне ведь ничего не нужно, только любить тебя! – искренне ответил он.
Размышляя о способности мужчин (и женщин) забывать себя ради любви, а с другой стороны, нести ответственность за любовь, которую внушил другим, вспоминаю Висконти и некоторых его поклонниц.
– Уступишь им раз, и тебе конец, – повторял он. Я стал задумываться, так ли уж неприемлема любовь из милости, не гордыня ли отказ от нее, не черная ли неблагодарность Богу за его щедрые дары.
Что ж я остановился на этом эпизоде, ведь есть еще много, о чем я могу рассказать? Может, потому что способность любить сама по себе достойна уважения, даже если человек тебе безразличен. Самое жалкое существо заслуживает внимания, когда его охватывает не телесная страсть, а любовь, идущая из глубины сердца. Разве не Любовь – великий двигатель Вселенной?
Я решил не следовать хитроумному совету Лукино – и попался. «Обезумевший от любви» преследовал меня по пятам: звонки, письма, подарки, засады – недопустимое вмешательство в мою жизнь. Он тайно поехал за мной в Лондон, одним словом, превратил мою жизнь в ад. Я узнал, что он совершил попытку самоубийства, выбросившись из окна, но ветви растущего внизу дерева спасли ему жизнь. Он решил вернуться к себе в Романью, и больше я о нем не слышал.
Так что же, выходит, Лукино прав? Нельзя принимать любовь, если не можешь разделить ее?
В один из моих первых приездов в Нью-Йорк Пола Страсберг повела меня на новую бродвейскую сенсацию – спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» по пьесе Эдуарда Олби. Публика была в восторге, я тоже.
На другой же день благодаря Поле я договорился о встрече с Олби. Всю ночь провел, думая о пьесе, и решил во что бы то ни стало получить права на ее постановку в Италии и во Франции. Знакомые отговаривали меня, даже автор счел это предложение странным – ему не верилось, что такую сугубо «нью-йоркскую» вещь можно показывать даже в Калифорнии, не говоря уж о Европе. Он пытался понять, откуда у меня уверенность, что итальянцы примут эту тяжелую вещь о супружестве как родную. Я объяснил Олби, что эта пьеса – современная классика, выходящая далеко за пределы одной культуры. Не знаю, убедил я его или нет, но он улыбнулся и дал разрешение.
Я сразу подумал об Анне Маньяни в главной роли. Анна была мировой знаменитостью в кино, но часто говорила о желании вернуться в театр, где когда-то начинала. Она растрогала весь мир в фильме «Рим – открытый город», снималась с Марлоном Брандо, Энтони Куинном и Бертом Ланкастером, получила «Оскара» за исполнение главной роли в «Татуированной розе»[67]67
«Татуированная роза» – экранизация (1955) одноименной пьесы Теннесси Уильямса с участием Анны Маньяни и Берта Ланкастера.
[Закрыть] и вернулась в Италию, увенчанная лаврами. При этом иметь с ней дело было невероятно трудно. Когда в 1951 году она снималась у Висконти в «Самой красивой», мы все время были в крайнем напряжении. Это был мой второй фильм у Лукино в качестве ассистента режиссера, и я могу живописать, что там происходило.
Достаточно одного эпизода, чтобы показать, что она была за человек. Мы снимали сложную сцену с кучей актеров и выходов в одном из строящихся кварталов виа Тусколана. Было жарко, солнце палило нещадно. В перерывах между съемками Анна усаживалась под тент, и верная Мимма прикладывала ей к лицу ледяную замшу, которая освежала, но не портила грима. Анна была известна любовью к кошкам и по ночам носила еду уличным котам к раскопкам на пьяцца Арджентина. Знаменитая тогда была компания – нищенки и светские дамы, тоже по такому случаю одетые в лохмотья.
На виа Тусколана, как раз рядом с тентом Анны, нашли кошку с только что появившимся потомством. Анна немедленно потребовала молоко и соски. Может, чтобы снять напряжение или успокоить нервы, она часто прерывалась и спрашивала, как котята и хватает ли им молока. Висконти начал постепенно заводиться, но она не обращала на него никакого внимания.
Когда ей сообщили, что у малышей блохи, она даже не стала скрывать радость. Во время перерыва, расстелив на коленях полотенце, Анна брала котенка и чистила от блох. В этом деле она была знатоком: ловкие пальцы так и летали в поисках насекомых. Я до сих пор слышу сухое щелканье: чик, чик. Когда она заканчивала обрабатывать одного котенка, ей приносили следующего. Анна приходила в отличное расположение духа, успокаивалась и забывала о неприятностях.
Один раз Лукино подошел к ней обсудить очередную сцену и реплики. Она безразлично слушала его, сосредоточив внимание на питомце: чик, чик. Лукино потерял терпение, выхватил у нее игрушку и зашвырнул в кусты. Воцарилась тягостная тишина. Не говоря ни слова, Анна нашла котенка, осмотрела его и, убедившись, что он жив и здоров, как ни в чем не бывало снова принялась давить блох. Висконти нервно молчал, а потом резко сказал:
– Так что же?
Анна даже не взглянула на него и продолжала заниматься своим делом. А потом очень тихо и жестко сказала:
– Если ты посмеешь сделать это еще хоть раз, ты меня больше в жизни не увидишь. – И опять за свое: чик, чик. К счастью, Лукино позвали на съемочную площадку. Иначе кто знает, чем это могло обернуться?
В конце концов, фильм «Самая красивая» получил признание у простой публики, что для Лукино было куда важнее, чем почет левых деятелей культуры. На этом фильме я подружился с Анной, она стала для меня настоящим кумиром – и как актриса, и как женщина. Мы часто виделись, она с удовольствием включила меня в число своих «ребят».
Альберто Моравиа написал роман «Чочара», думая о Маньяни, и права на экранизацию были проданы Карло Понти с условием, что главную роль будет исполнять Анна. Однако отношения у них были совсем не теплые, кажется, из-за каких-то трений по работе. «Свинство», – говорила она, и в ее душе была незаживающая рана.
У Понти была подруга, молодая и красивая София Лорен, в которую он был очень влюблен и всячески старался вывести на орбиту. Когда понадобилось найти актрису на трудную и требующую большой деликатности роль дочери Чочары, Понти предложил свою протеже и послал на разведку пресс-агента и советника Энрико Лукерини. Как можно догадаться, Анна была возмущена и обрушила на голову «старого пачкуна» самые грубые ругательства. Она привыкла всегда добиваться своего, когда речь шла о ролях, и решила, что дело сделано. Но Понти не сдался, и Лукерини, мастер своего дела, продолжил наступление. Анна немедленно его остановила.
– Опять эта?.. – Не буду повторять ее слова, синьора Понти может обидеться. – И она должна играть девочку, которую насилуют арабы?! Если на то пошло, ей впору играть мамашу, уже не маленькая!
Тут Лукерини и осенило.
– А Маньяни права, – сказал он Понти. – Почему бы Софии не сыграть мать?
Так они и поступили. Вся команда Понти бросилась лепить «новую Маньяни»: прекрасный образ сильной итальянской женщины, которую Анна уже не могла сыграть как следует.
При этом украдена была не только роль, как часто случается между соперницами, – ее амплуа, ее «личность» растащили буквально по кусочку. Черные растрепанные волосы, подчеркнутая чувственность, страстность, даже жесты, взгляды, манера речи… Это был чистейший грабеж.
Моравиа вообще не отреагировал. Он писал новый роман и был занят только им. Де Сика, чуть что, исчезал в казино Монте-Карло, а Понти исправно снабжал его деньгами. И «грабеж» удался. Эра Маньяни закончилась и началась эра ее «двойника». Лорен, благодаря тщательному уходу за собой и народной жилке, нашла свое амплуа страстной и неотразимой женщины и в итоге получила массу «Оскаров» и других премий.
Это стало концом Анны Маньяни – актрисы, которая показала всему миру настоящую итальянку. Теперь, когда прошло столько времени, можно сказать, что обе актрисы двадцать лет триумфально несли по свету образ итальянской женщины. А ведь были еще и актеры: милейший Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци. И режиссеры – Роберто Росселлини, Витторио Де Сика, Лукино Висконти, Федерико Феллини… Ах, какие времена!
Я излагаю эти истории так, как наблюдал их сам или как их мне рассказали. Если участники до сих пор живы и обнаружат неточности или неверное изложение фактов, я готов внести поправки, но думаю, что суть событий пересказал верно.
Можно лишь предположить, что после этого произошло в душе Анны Маньяни. Знаю только, что она не захотела остаться в Риме и почти все время проводила в Париже. Я потратил уйму денег на бесполезные телефонные звонки. Наконец Анна ответила: если мне есть что ей предложить, то прежде всего она должна прочитать сценарий.
Я послал ей текст и пару недель сидел как на иголках в ожидании ответа. Деньги для постановки «Вирджинии Вульф» в Италии я нашел, но мне необходимо было заполучить Маньяни. Этой пьесой я хотел завоевать итальянский театр, как завоевал зарубежный. Большой интерес к пьесе проявил Энрико Мария Салерно, прочла ее и Анна (и даже с большим вниманием, как я впоследствии понял) – всем было известно, какой популярностью пользовалась бродвейская постановка. Но когда мы встретились в Париже, я сразу понял, что она не отнеслась к пьесе с должным интересом. Может, ей просто не хотелось играть в театре – она боялась, что это воспримут как попытку отыграться за кино. Анна сказала, что не понимает, почему вокруг пьесы подняли столько шума, и вообще не собирается возвращаться на театральные подмостки в такой роли.
– Злобная, сварливая, вечно пьяная баба, у которой не осталось ничего святого. Причем здесь я? – заявила она. – У меня с ней нет ничего общего.
Тщетно я умолял ее, она и слушать не хотела моих уговоров и буквально выставила меня за дверь со словами:
– И не суйся ко мне больше с этим американским дерьмом!
Конечно, я был страшно расстроен. В начале октября мне нужно было открывать Театральный фестиваль в Венеции, а 10 сентября провидение, таинственно и милосердно спасавшее меня в самые трудные минуты, послало мне необыкновенную актрису Сару Феррати. Она оценила и важность роли, и состав труппы. Большое значение для ее согласия имело и уважение ко мне. Всего за три недели она полностью освоила эту сложную роль, которая стала стержнем всего спектакля, и в назначенный день мы вышли на сцену Венеции.
В тот вечер в «Ла Фениче» собрался весь театральный бомонд Италии. Уже во время длинного и напряженного первого акта часто раздавались аплодисменты, а после него публика разразилась нескончаемой овацией. По окончании спектакля на сцену поднялись все: друзья и противники, молодые дарования и ветераны сцены. Была там и Анна. Она ворвалась ко мне в артистическую буквально вне себя.
– Сукин сын! – завопила она. – Это моя роль, моя! Ты должен был меня заставить, вынудить, надавать по морде, как Росселлини… Он знал, что делать с такой засранкой, как я! Разве мне кто-нибудь еще предложит такую роль?
Благодаря успеху этой пьесы я сумел занять место среди театральных режиссеров Италии, «как клин, как торпеда, между Висконти и Стрел ером (которые поделили Империю между собой)». «После сегодняшнего спектакля им не придется спать спокойно», – писал один театральный критик.
Меня засыпали интересными предложениями, но мне не хотелось сразу брать на себя такие обязательства, которые могли бы радикальным образом повлиять на мое неясное будущее. Сердце мое по-прежнему принадлежало опере.
Я снова думал о Марии Каллас, с которой уже давно потерял всякую связь. Говорили, что роман с Онассисом не принес ей большого счастья, хотя она всегда старалась скрыть свое разочарование. Она по-прежнему души в нем не чаяла, и это безоглядное обожание словно поднимало со дна все темные стороны его характера. Он обращался с ней грубо, унижал в присутствии посторонних и даже не помышлял о тайной мечте Марии – законном браке.
Генеральный менеджер «Ковент-Гардена» Дэвид Уэбстер не оставлял попыток вернуть Каллас на сцену, а я, в свою очередь, горел желанием сделать все, что в моих силах, чтобы отвлечь ее от предвещавшего катастрофу романа с Онассисом.
Наконец в 1963 году появились первые сигналы, что Мария готова принять предложение вернуться на сцену. По слухам, на этом стал настаивать Онассис, который, кажется, понял, что сам себе наносит вред, держа Марию вдали от сцены. Но это была скорее дьявольская хитрость, чтобы от нее избавиться и подвести черту под романом, который все быстрее катился под откос.
Дэвид предложил ей петь «Тоску» через сезон в «Ковент-Гардене». Мария обещала подумать над его предложением, но не более того. Я тут же примчался в Париж и сразу понял, что ей очень нужна работа, хотя она по-прежнему разливалась соловьем о годах, которые посвятила «своей женской судьбе», и об обретенном наконец душевном покое. Далее следовала страстная ария о необыкновенном мужчине, несправедливо обвиненном в равнодушии к искусству и неумеренной страсти к деньгам – ничего подобного! Аристос – тончайшая артистическая натура, ей невероятно повезло, что она встретила в жизни мужчину, о котором всегда мечтала. Ари дал ей настоящее счастье, и что ж поделать, если ради этого пришлось пожертвовать карьерой. И так далее, с вариациями на тему. А припев такой: негодяй Менегини не сумел сделать ее счастливой, лучшие годы потрачены на человека, использовавшего ее как орудие для производства денег, которые в конце концов у нее и украл. Муж он никудышный, не то что Аристос. И снова романсы и арии о радости и счастье любви. А также громы и молнии в адрес «Ла Скала», и «Метрополитен-опера», и всех тех, кто эксплуатировал ее талант, враждебной прессы, сплетен, человеческой подлости. И так до бесконечности.
Я, разумеется, сказал, что разделяю ее переживания и страдания. Но почему бы ей не вспомнить о бесчисленных и преданных слушателях, для которых она остается живой легендой?
– Подумай о них и забудь о зле, которое тебе причинили. Помни, что на тебе лежит ответственность перед всей той публикой, которая тебя любит.
Она ответила, что помнит, и еще как. Каждое утро садится за фортепьяно и занимается вокалом. Я взял ее руки в свои и сразу понял: нет, с такими длинными ногтями каждый день на рояле не играют. Она попыталась было уверить меня в обратном, но поняла, что уж кого-кого, а такого старого друга ей не провести. Вдруг серьезно и искренне она произнесла:
– Наверное, мне все же надо вернуться к работе, пока не поздно.
Едва я рассказал Уэбстеру, что встреча с Марией мне, в общем, понравилась, он сразу же стал названивать в Париж. Премьера «Тоски» стояла в планах на январь 1965 года в Лондоне, далее в мае в Париже планировалась «Норма», а на следующий год спектакли меняли местами.
А пока Мария готовилась вернуться на сцену, я снова был по горло занят работой: впервые ставил в Риме «Гамлета» с Джорджио Альбертацци. Мы с Джорджио были друзьями с юных лет, еще по Флоренции. Я тогда увлекался всем, что было связано с театром, и неплохо играл. Но Джорджио был настоящим актером, с потрясающим голосом, обаятельной внешностью и ярко выраженной индивидуальностью. Было понятно, что его ждет блестящая карьера. Во времена «Троила и Крессиды» я познакомил его с Лукино. Тот сразу оценил Джорджио и доверил ему небольшую роль. Дальше этого их роман не пошел, потому что Лукино уже набрал блестящих молодых актеров – Гассмана, Де Лулло, Мастроянни. Джорджио начал играть у других режиссеров и вскоре доказал, что не зря мы еще мальчишками смотрели на него, как на нечто необыкновенное. Их с Анной Проклемер стиль занял в театре прочное место. Но это еще не все: он с большим успехом работал в кино и на телевидении, где в знаменитых «Театральных пятницах» знакомил широкую публику с шедеврами мирового театра и литературы. Тогда телевидение еще действительно несло культуру в массы, а к программам относились с большим вниманием. Это тоже совсем другие времена!
Джорджио был рожден для роли Гамлета, он даже внутренне был на него похож, и в нем тоже была некая тайна. Судьба свела нас, чтобы мы по-новому прочитали эту гениальную трагедию и наполнили ее тревогой наших дней. В то время в мире появилась надежда, которую зажег Джон Кеннеди, придя в Белый дом. Все казалось новым, доступным и ясным. Увы, Кеннеди сверкнул как зарница и погиб, но он успел изменить каждого, успел распахнуть все окна.
Мы репетировали сцену, в которой Гамлету является тень отца, когда узнали, что Кеннеди убит. Произошла катастрофа. Но мы не погрузились в вечный траур, мы чувствовали себя наследниками его великих начинаний.
«Гамлет» имел очень большой успех. После Международного фестиваля в Париже он продолжил триумфальное шествие: Вена, Россия и наконец Лондон, театр «Олд-Вик», где его торжественно представлял сам Лоуренс Оливье.
С Джорджио нам пришлось вскоре работать вместе над еще одним спектаклем, ставшим культовым, – труднейшей пьесой Артура Миллера «После грехопадения», написанной в память о Мэрилин Монро. В нем играла знаменитая Моника Витти, очень талантливая актриса.
Тем временем в Лондоне все просто с ума посходили, узнав о возвращении Каллас.
Мы сидели за столом в зальчике, где должна была состояться первая репетиция. Я трясся от волнения. Перед Марией на столе лежала партитура, карандаши, фотографии, бумажки, стояла вода и стаканы. Вдруг одним движением руки она смела все в сторону. Хотя Мария пела «Тоску» много раз, она всегда была открыта к обсуждению новых вариантов. Я принялся объяснять, что вижу ключ ко всей драматической структуре оперы во взаимоотношениях Тоски и Скарпиа, а ей было известно, что на роль барона Скарпиа мы пригласили великого Тито Гобби. Гобби был необычайно привлекательным мужчиной, и на сцене это только усложняло их отношения, потому что мне хотелось показать Тоску страстной чувственной натурой, а не надменной холодной дивой, какой было принято ее изображать. Тоска, по моему мнению, испытывала влечение к этому красавцу с каменным сердцем. И убивала она Скарпиа ради спасения не столько возлюбленного, сколько своего собственного…
Мария нахмурилась и задумалась. Тут меня осенило, что я описал ей ее собственные отношения с Онассисом.
– Но все-таки, люблю я его или нет? – простодушно спросила она.
Я ответил:
– Ты просто вообрази, какое впечатление может произвести на тебя такой мужчина! Властный, развращенный, склонный к садизму, но при этом обаятельный…
Мария молчала. Ей стало ясно, каков этот Скарпиа!
Мария всегда требовала от своих режиссеров новых идей: она ждала рекомендаций не только относительно характера своего персонажа, но и нюансов поведения и деталей, которые дали бы толчок ее воображению. Вообще репетиции с Каллас всегда порождали целый калейдоскоп идей, образов и сценических решений, из которых она тщательно отбирала то, что ей могло подойти.
Накануне премьеры, как всегда в моменты большого напряжения, к Марии вернулись страхи по поводу голоса, и начался обычный предпремьерный мандраж. Она уже как-то пыталась объяснить мне в «Ла Скала» и в Далласе, что с ней происходит. Понять это в общем нетрудно. В отличие от простых смертных, которым не дано знать даже самое ближайшее будущее, певцы знают судьбу своего героя от первого появления на сцене до финала – все его встречи, переживания, беды, страсти. Мало того, им еще предстоит «испытание голосом», и они должны пройти его, минуя тернии и опасности. Одна-единственная ошибка может безнадежно все испортить. А Мария в тот вечер выходила петь перед публикой, которая уже начала в ней сомневаться, и ее задачей было успокоить зрителей и завоевать их вновь. Рассчитывать на полное владение голосом, как в лучшие годы, она уже не могла, и значит, «Тоска» не была для нее обычным спектаклем, речь шла о самом настоящем «воскресении».
Мы стояли за кулисами в ожидании ее первого выхода на сцену, Мария от волнения крепко впилась ногтями в мою руку, а другой рукой быстро-быстро крестилась. Мне пришлось буквально вытолкнуть ее на сцену, и тут я почувствовал, как в ней проснулась энергия. Как все великие актеры, она сумела справиться с волнением и обрела уверенность и спокойствие.
Из всех хвалебных отзывов самой приятной была рецензия Питера Хейворта из «Обсервера»:
«Эта постановка лучшая из всего, что сделал Франко Дзеффирелли. Атмосфера, чувства, вся драма показаны с необыкновенной ясностью, особенно те, на которых делает упор сам Пуччини. Во втором акте, когда в комнате Скарпиа в палаццо Фарнезе при свете одной свечи и камина герои гоняются за собственными тенями и друг за другом, от волнения перехватывает дыхание. Это уже не режиссура, не высокий профессионализм, не творение человеческих рук. Это тот редкий случай, когда музыка, пение и атмосфера, насыщенная дурным предчувствием, сливаются в единое целое. Это полнота театра. То, чем должна быть настоящая опера».
Мне захотелось лично поблагодарить Питера Хейворта и объяснить, что чудо «Тоски» стало возможным в результате просто-таки нечеловеческих усилий. Зритель и критик видят законченную картину, покрытую лаком и обрамленную, и им не приходит в голову (и совершенно справедливо!), что это плод неописуемых страданий художника. С тех пор Питер иначе стал смотреть на чудеса и издержки оперной сцены.
После премьеры «Тоски» Мария вновь засияла на оперной сцене, как самое яркое светило, а я помчался в Нью-Йорк, где уже ждала целая труппа: мы ставили «Фальстафа» в «Метрополитен-опера» под управлением Леонарда Бернстайна.
Передо мной стояла исключительно приятная задача: Рудольф Бинг выбрал «Фальстафа» как последнюю постановку на старой сцене «Метрополитен-опера» перед переездом в Линкольновский центр[68]68
Линкольновский центр искусств – театрально-концертный комплекс в Нью-Йорке, открытый в 1965 г.
[Закрыть]. Разумеется, я счел это приглашение большой честью, но еще больше меня обрадовала возможность работать с таким блестящим дирижером, как Леонард Бернстайн.
Хотя со времен нашей встречи в «Ла Скала» в пятидесятых мы были близкими друзьями, нам ни разу не приходилось работать вместе, а я только об этом и мечтал. Ленни был сгустком энергии, обладал потрясающей способностью к общению, и день, проведенный с ним, стоил четырехлетнего курса обучения в Йельском университете.
Совместная работа над «Фальстафом» стала одним из самых памятных периодов моей жизни. Мы веселились, как дети, работу на сцене превратили в бесконечную игру, полную выдумок и загадок, как это было с самим Верди, когда он сочинял оперу: будучи уже в преклонном возрасте, великий композитор сохранил молодую душу. Мы задумали поставить в старом здании «Метрополитен-опера» совершенно необычный спектакль. И так и сделали.
Я придумал декорации и костюмы, как в настоящей английской провинции, где жили зажиточные фермеры, ходившие в домотканой одежде, любители сытно поесть, хорошо выпить и охочие до «клубнички». У них были крепкие деревянные дома, в которых даже спальни были пропитаны терпким запахом хлева. Костюмы по моим эскизам блистательно воплотила девяностолетняя мадам Каринска[69]69
Барбара Каринска – выдающийся театральный художник по костюмам, в 1920-е гг. работала в Большом театре, затем в Париже, Нью-Йорке и других городах.
[Закрыть], работавшая еще с Дягилевым: ей делали ткани на заказ, а она собственноручно их вышивала – совсем как виндзорские кумушки.








