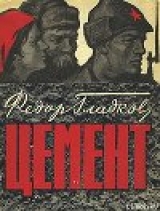
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
2. Трудный переход
Глеб добился включения в повестку дня экосо доклада о необходимости частичного пуска завода. Лабазы – пустые. Есть клепка на сто тысяч бочек. Можно было немедленно двинуть в ход перемол клинкера и пережиг цемента в одной из печей. Готовый камень лежит отвалами в тысячах кубов на каменоломнях. Надо только тронуть другую магистраль бремсберга. Первая магистраль пусть работает по доставке дров.
Доклад делал сам Глеб в присутствии инженера Клейста как эксперта. Шрамм холодно и тускло возражал: опять говорил о производственном плане, твердо сколоченном аппарате, о промбюро, о главцементе. Бадьин сидел в обычной позе, опираясь на стол, молчал и смотрел исподлобья на Глеба, на Шрамма, на инженера Клейста, и нельзя было понять, какую линию ведет он в этом вопросе: на стороне ли он Глеба или на стороне Шрамма. Жидкий и Лухава кратко и решительно высказались за принятие доклада и предложили резолюцию: «Безоговорочно приступить к подготовительным работам по восстановлению производства».
Бадьин откинулся на спинку кресла и впервые улыбнулся Глебу коротким дружеским взглядом.
– Других предложений нет. А резолюцию товарища Лухавы голосовать не будем: против нее нет возражений.
Шрамм, напряженный, как восковая фигура, упрямо промычал чревовещателем:
– Я возражаю категорически и неуклонно.
– Резолюция принята, и товарищ Шрамм по существу не возражает.
Бадьин не глядел на Шрамма и говорил холодно и деловито:
– В условиях новой экономической политики производственные силы нашей республики свидетельствуют о своем возрождения и росте. Вопрос о пуске завода становится вопросом актуальным. Мы должны приступить к напряженному хозяйственному строительству. Продукция завода даже при настоящем уровне производительности труда дает возможность удовлетворить строительные нужды больших городов и промышленных районов. Вопрос решенный. Он требует только детальной разработки. Ты хочешь что-то сказать, товарищ Чибис?
Сквозь прищуренные, ресницы Чибис смотрел на Шрамма из темного угла за столом и томился в дремоте и скуке.
– Вот. Я тоже говорю, что Шрамм не возражает. Шрамм не может возражать, и если кажется, что он возражает, то не верьте своим ушам. Шрамма уже нет: Шрамм – анахронизм.
И опять застыл в слепой скуке и усталости.
Глеб увидел, как рыхло дрогнуло и постарело бабье лицо Шрамма и глаза налились мутью.
Лухава внес предложение:
– Командировать товарища Чумалова в промбюро для скорейшего проведения решения экосо и добиться усиленных нарядов непосредственно для нужд завода.
Глеб подошел к инженеру Клейсту, взял его под руку и засмеялся.
– Еду, как дважды два… Эх, и подниму же я бучу там, в промбюро!.. Пошли, Герман Германович!.. Это, товарищи, не технорук, а золото… Замечательный спец Социалистической Советской республики… Знай наших!..
Через день Глеб уехал в промбюро, возвратиться же обещал через неделю.
На заводе шли работы по ремонту корпусов, рельсовых путей, машин и механизмов внутри разных отделений. С утра до четырех часов знойный воздух между заводом и горами, горячо насыщенный цикадами, пылью и зеленью, грохотал металлом, хрипел токарными станками и вагонетками и низкой струной пел в окнах электромеханического корпуса.
А бремсберг по доставке дров, не переставая, изо дня в день гремел вагонетками, и стальные канаты по-прежнему играли флейтами на ролах. На набережной гремели вагоны, кричали «кукушки» и выстрелами бухали в пустые короба дрючки и поленья.
В сверкающей гавани стояли в непонятном ожидании одинокие унылые пароходы.
Даша пропадала в женотделе на собраниях, в командировках. Лизавета каждую неделю собирала баб в клубном зрительном зале, и там, за открытыми окнами, до полуночи разноголосо кричали они и будоражили тишину задумчивых зорь и горных лесных ущелий.
И когда в потемках расходились они по домам, еще продолжали кричать, и крики их были похожи на прежние ссоры из-за кур, из-за яиц, из-за домашних порух.
– Лизавета – неправильно… она неправильно, бабочки…
– Не бреши, Малашка… Она, Лизавета, – правильно… Мы все, бабы, дуры…
– Ну, ежели все дуры, так я не хочу быть дурой… Я вот возьму и обрежу волосы… Бабьи косы, милые товарки, для бабы – аркан: на то и косы, чтобы мужики крутили нас как скотину…
– Ничего подобного… Вот собьемся, сорганизуемся и покажем… И мы силу берем… Вот – Даша всем нам пример…
– Ну да! Поглядите, что стало из хлопцев, а девчата – косомол!.. Раньше было боязно греха и людей, а сей день – косомол!
– Ну и времечко, товарки!.. Выйдешь за ворота – тут тебе и работа… И все как-то по-новому; и комсомол, и партия, и женотдел. За собой не поспеваешь…
Через ячейку и клуб сколотили две группы по ликвидации неграмотности, и когда открыли занятия – за столами оказались только одни женщины. Своей речью Даша очень их растрогала: она отметила, что они, не в пример мужчинам, являются активными борцами за просвещение и тем самым доказали свою пролетарскую сознательность. Дело не в том, чтобы научиться писать и читать, а в том, что это – начало большой работы над собою. Это открывает перед ними двери к государственной деятельности. Знание – большая сила: без знаний нельзя управлять страной. Женщины хлопали в ладоши и чувствовали себя больше и лучше, чем дома, умнее и богаче, чем с детьми и на кухне…
Каждый день утром и вечером заходила Даша в детдом имени Крупской к своей Нюрочке и видела: тает девочка как свечка. Кожа на ее личике пожелтела и покоробилась, будто у дряхлой старушки. Смотрела Нюрочка на мать опечаленными бездонными глазенками, и чуяла Даша: увидели эти глазенки что-то большое и невыразимое. Теперь уже больше молчала Нюрка, думала и лицом и глазами и была равнодушна, когда расставалась с ней Даша.
И Даша впервые за тот год переживала непереносимую боль, но боль эту глубоко хоронила в душе. Никто не замечал в ней этой боли, и только товарищ Мехова однажды задержала на ней внимательный взгляд и тревожно спросила:
– Что с тобой, Даша? У тебя есть какая-то заноза…
– Ты видишь больше, чем нужно, Поля.
Поля смолчала и опять пристально вгляделась в Дашу. И в ее глазах Даша увидела что-то похожее на опечаленные глаза Нюрки.
– Я не знала, Даша, что ты способна притворяться и лгать.
– Ну, пускай есть заноза, товарищ Мехова. Зачем тебе знать, какая у меня заноза? Это никого не касается.
– Да, вот это самое, Даша… Мы крепко организованы и плотно спаяны, но страшно чужды друг другу в своих личных жизнях. Нам нет дела до того, чем живет и дышит каждый из нас. Вот что ужасно… Впрочем, ты ведь не любишь, когда говорят об этом…
… Тает Нюрка, как свечка, – единственная, родная Нюрка, и никто не может сказать, почему она тает. Зачем доктора, если они не в силах сказать ясного слова, если они невластны вырвать ту немочь, которая точит ребенка? Впрочем, не в докторах дело. Она, Даша, знает лучше всех докторов в мире, почему Нюрка гаснет, как звездочка утром. Не только молоко матери нужно малютке: малютка питается сердцем и нежностью матери. Коченеет и блекнет малютка, если не дышит мать на ее головку, не греет ее своей кровью и не насыщает ее постельку своей душой и запахом.
Вина только на ней, на Даше, и этой вины не изжить никогда. Впрочем, не в ней была эта вина, это была необходимость – та сила, во власти которой находилась она сама, Даша, – та сила, которая отрицала смерть и которая пробудила ее к жизни через страдания и борьбу.
Было одно: Нюрка гаснет, как искра. Была Нюрка – и не будет Нюрки. Трепыхала она когда-то ножонками на руках, у груди, ползала, училась ходить и лепетать первые слова. Росла. И вот когда Даша впервые пережила ужас смерти, муки ее были непереносимы: пожертвовать Нюркой, переступить через нее не было сил. Мать готова была предать революционерку. И только муки товарищей и страшная и прекрасная смерть Фимки ослепила ее душу и погасила неотступный образ дочурки. И она не мыслью, а всем существом постигла тогда, что есть другая, более могучая любовь, чем любовь к ребенку, – и та любовь открывается человеку в последний, смертный час.
А вот сейчас увидела Нюрку, с лицом дряхлой старушки и с бездонными глазами, опечаленными смертью – опять, как давно, не может она перешагнуть через ее труп. Да, Нюрка – это жертва ее жизни, и жертва эта – убийственный для нее упрек. И такой разговор был у нее с Нюркой в один утренний час.
– Нюрочка, тебе больно, дочка, да?
Нюрка покачала головой: нет.
– А что тебе нужно, скажи?
– Ничего мне не нужно.
– Может, папу хочешь повидать?
– Я хочу винограду, мамочка.
– Еще рано, голубка, – виноград не поспел.
– Я хочу с тобой… чтоб ты никогда не уходила и чтобы – близко… и винограду… и тебя и винограду…
Она сидела на коленях у Даши, вся тепленькая, родная, неотделимая от нее.
И когда Даша положила ее в постельку, Нюрка долго глядела на нее глубокими глазами, сосредоточенная в себе, и лепетала в тоске:
– Мамочка!.. Мамочка!..
– Что, дочечка?..
– Так, мамочка!.. Не уходи, мамочка!..
Вышла Даша из детдома и не свернула, как обычно, на шоссе, а нырнула в густые заросли кустов, бросилась на траву, где было одиноко и глухо, где пахло землей и зеленью и ползало солнце горошинками, и долго рыдала, разрывая пальцами перегной.
Один раз ночью, в отсутствие Глеба, приехал к Даше на автомобиле Бадьин. Она услышала, что фырчит за окном мотор, и вышла из комнаты. Столкнулась грудь с грудью с ним на крылечке. Бадьин хотел тут же обнять ее, но она сурово оттолкнула его.
– Товарищ Бадьин, здесь тебе нечего делать. Ты эту тактику брось!..
Бадьин опустил руки и стал тяжелым и рыхлым.
– Даша!.. Я ждал, что ты встретишь меня немножко теплее…
– Товарищ Бадьин, уезжай сейчас же. Слышишь, товарищ Бадьин? Иначе я поставлю вопрос о тебе в партийном порядке.
Она крепко захлопнула дверь и щелкнула запором,
3. Кошмар
По утрам, когда Поля шла в женотдел, и после четырех, когда возвращалась домой, она торопилась пробежать этот путь с мучительным нетерпением. Шли люди навстречу, шли впереди, и они отражались в глазах размытыми тенями, и не лица она видела, а только ноги – в ботах, босые, в обмотках, в брюках, в подолах, в чувяках, в спущенных женских носочках, – много ног, мотыляющих вперед и назад, неутомимых и пыльных. Она не могла поднять головы, чтобы твердо и спокойно взглянуть на витрины, на открытые двери, на людей, у которых был другой облик, чем раньше. Женщины уже стали не такие, как недавно, весной: зацвели наряды – шляпы в букетах, прозрачный батист, модные французские каблучки… У мужчин – манишки, галстучки и шевровые ботинки. Опять заструились запахи духов, и голоса зазвенели громко и радостно. В кофейнях, в сумраке, сизом от табачного дыма, толпились и барахтались призраки. Среди глухого далекого рокота голосов звенела посуда, звякали кости в азартной игре, и неизвестно откуда, из глубины табачной дыры, струились едва уловимые звуки струнного оркестра.
Откуда все это пришло? И почему пришло так быстро, нахально и жирно? Почему щемящая тоска в душе и сумятица в мыслях?..
Будто попала она в чужую страну, и ушло из души что-то дорогое, невозвратимое, без чего нельзя жить. И еще – стыд, позор и неосознанный страх. Боялась – подойдет к ней кто-нибудь из рабочих или из этих вот оборванцев, изъеденных голодом, с гнойными глазами, и спросит в упор:
– Ну? Так вот до чего вы достукались? Вот чего вы хотели? Бей их, подлецов и обманщиков!..
И эта постоянная боязнь дурманила ей голову галлюцинациями.
Однажды, в конце августа, на набережной, на рельсах и на угольной пыли каботажа, она увидела большую толпу оборванных, волосатых людей. Они грудой лежали, сидели, копошились вповалку – мужики, бабы, детишки.
Пищали, захлебывались, надрывались от плача грудные младенцы, кто-то глухо стонал. Бабы искали вшей в головах друг у дружки, мужики – в рубашках и в очкурах штанов. И липа у всех – в водянке.
Прохожие – деловые люди – с любопытством и строгим изумлением останавливались и нюхали воздух.
– Что это такое? Голодающие?
А из пыльной, вонючей свалки сипло мычали:
– Бя-ада, братцы!.. Занес вот бог – все одно горе мыкать… Може, дай бог, оклемаемся, отудобим… С Волги… с голодающей земли.
И до самого окружкома Поля больно несла в себе этот дрожащий сиплый голос, затерянный в стоне, в смердящих телах, и этот жалобный писк грудного младенца.
– Бя-ада!..
И потом каждый день по улицам города бродили целыми семьями и в одиночку эти голодающие мужики с овчинными лицами в дерюгах и лаптях, с детишками на руках, и пели слабыми, икающими голосами:
– Помогите… голодающие… помираем…
По ночам Поля спала в кошмарах, часами мучилась бессонницей и в эти часы слышала то, что слышала днем, – ясно, назойливо, мучительно: играл струнный оркестр, далекий и манящий, чакали игральные кости, и под окном, на улице, жалобно плакали тусклые голоса:
– Помогите!.. Братцы!.. Бя-ада!..
Она вскакивала с кровати, шлепала босыми ногами к окну, с бьющимся сердцем, с сверлящей болью в голове, и смотрела в ночь. Тишина, пустой мрак и безлюдье. Прислушивалась и опять возвращалась в постельную духоту. Засыпала. Опять просыпалась от странных, потрясающих толчков, И опять – далекие скрипки, щелканье костей, смех, надрывная мольба и писк грудных младенцев.
И вот в одну из этих знойных, бессонных ночей случилось то, чего она ждала давно, как неизбежного.
Где-то распахнулась дверь и сразу ахнула голосами и хохотом, и эти голоса раскатились по коридору, зарокотали и поплыли далеко, переплетаясь в невнятных перекликах.
Потом голоса и шаги растаяли в ночной тишине. Очень далеко певуче цыкали капли, и из тьмы струились призрачные скрипки. Поняла: это пели за окном унылые песни телефонные провода.
– Братцы милые!.. Помогите!.. Бя-ада!..
Не заснуть.
…Песни рабочих масс, толпы в водоворотах и потоках, красные лица, красные знамена. Красная гвардия в горящем ливне штыков. Товарищ Ленин на Красной площади. Издали видно, как вспыхивают его зубы, как вытягивается подбородок и призывно выбрасывается рука с растопыренными пальцами, а под шапкой-ушанкой морщатся щеки и скулы. И кажется, что он смеется. И ничего не осталось в памяти, только эта призывная рука, белый оскал зубов и морщины на щеках… Как давно!.. Будто сон, будто образы раннего детства… Норд-ост подметает на улицах пыль… пыль и пепел… Почему раньше не было пыли, а теперь знойные дни и ночи задыхаются пеплом? В комнате Сергея – тоже тишина, а в тишине – шелест бумаг. Иногда задумчивые шаркают шаги. Милый Сергей, он тоже не спит: свою бессонницу он отмеряет прочитанными страницами.
Раздался тихий стук в дверь, в какую – не поймешь.
– Ну? Кто это?..
Голос Бадьина пробасил дружески, с улыбкой:
– Полячок, ты спишь? Оденься и выйди на минутку: дело есть.
– Не могу, Бадьин. До завтра.
– Нельзя, Полячок. Поднимайся и выходи.
Щелкнул ролик, и дверь отворилась. Распахнулся мутный свет в пустоту коридора. Как? Почему так случилось, что она забыла этой ночью запереть дверь. Мельком увидела, что Бадьин необычного вида: половина – белый, половина – черный.
– Ну вот, так лучше. Ты слишком тяжела на подъем.
Он затворил дверь и щелкнул ключом. Стены опять потухли со мраке, и мрак стал бездонным. И вместе с мраком, сгущая мрак, сам – мрак, невыносимо тяжелой громадой шел к ней он, который должен был прийти неизбежно.
Задыхаясь от страха, она прошептала, отбиваясь руками от тьмы:
– Что тебе надо, Бадьин?.. Что тебе надо?..
И не успела опустить рук: страшной тяжестью он обрушился на кровать и придавил ее к подушке.
– Молчи, Полячок… молчи, молчи!..
Она не боролась, раздавленная тьмою, – не могла бороться, зачем, когда это было неизбежно и неотвратимо?..
Клубилась в искрах бездонная ночь. Где-то далеко шумела большая толпа, и необъятными размахами грохотал гром. Да, это – норд-ост. Это – не дождь и не гром: это норд-ост. Теперь небо – сухое и прозрачное, и звезды ярко и четко переливаются ослепительными пучками радуг. Был Бадьин или не был? Может быть, это – обычный кошмар? Ведь кошмары – всегда реальны, как жизнь. Не потому ли они так страшны и потрясают душу? Был Бадьин или не был?..
Она лежала неподвижно. Рубашка была смята в мокрый комок. И долго не могла почувствовать своего тела: будто есть только голова, а тела нет. Всюду – пустота и бесконечность: черная бездна. И нет ее, а только – голова, и голова невесомо плавает в этой бездонной пучине. А там, во тьме, и за тьмою, – гром и рев бури. Так хорошо и спокойно, и нет ничего – нет времени…
Шаги Сергея зашаркали к ее двери и остановились. Почему Сергей подошел к ее двери? Услышала Поля эти шаги, и дрогнуло сердце. Тело вдруг задрожало и закричало в ужасе. Бадьин… Да, его дверь – рядом, за изголовьем. Он был и ушел.
В глубине, около сердца, ныла тоска как страшное предчувствие смерти. Что такое?.. Почему такая невыносимая боль?..
– Ой!.. Ой!..
Она закорчилась на кровати, сползла на пол и вдруг онемела от страха. Опять густел и падал на нее огромной тяжестью мрак.
Босая, в одной рубашке, она выбежала в коридор, схватилась за ручку двери в комнату Сергея и забилась, ища спасения от неотвратимой беды.
– Сергей! Сергей! Скорее… пожалуйста!.. Сережа!
Царапалась и толкалась в дверь и, как сквозь сон, чувствовала, что дверь дышит под нею и никак не может отвориться.
И когда она распахнулась, Поля обхватила шею Сергея и задохнулась от рыданий – маленькая, беспомощная, с ребрышками ребенка.
Дрожали руки и ноги Сергея, и билось сердце от потрясения, Он отвел ее на кровать, укрыл одеялом, налил стакан воды. Зубы ее стучали о стекло, и вода струйками текла по подбородку.
– Это – мерзко, Сергей… Это – страшно… Я не знаю, что произошло, но произошло что-то непоправимое, Сергей…
Он сел около нее на стул и мягко, робко поправлял подушку, одеяло, и гладил ее руки, волосы, щеки.
– Ну, не надо… Успокойся, Поля… Я знаю… Если бы ты крикнула, я вышиб бы дверь и удушил его…
– Ты не знаешь, Сергей… ты не знаешь… С ним нельзя бороться… от него нельзя спастись…
– Не будем говорить, Поля. Выпей еще воды и засни. Я буду сидеть около тебя, а ты спи: тебе непременно надо заснуть. Это – норд-ост… Давно не было норд-оста… Завтра будет свежо и прохладно…
– Сергей!.. Сережа, ты такой близкий мне и родной!.. Я знала, что это случится, Сережа… и я не могла… Я не знаю, что будет, Сергей…
Он сидел около нее и неудержимо дрожал. Задрожал он впервые с того момента, как только услыхал голос Бадьина. И тогда же почувствовал, что пол заколебался под ним, и с первым грохотом норд-оста все вещи покинули свои места и залетали, как птицы.
– Я знала, Сережа, что это не пройдет даром… Ты видел эти лица, эти голоса?.. Братцы, помогите… Бя-ада! И кости, и скрипки в кафе… и витрины… Революция, превращение в торгашество… И это… Все это – одно, Сережа…
– Да, всё это одно, Поля… Надо пережить эту страшную полосу. Мы должны пережить, дорогая моя Поля… Должны пережить во что бы то ни стало… в борьбе…
Она уснула рука в руку с ним, а он сидел, склонившись над нею, не шевелился, и смотрел на нее пристально, с печальной любовью, до самого рассвета.
4. Затор
На заводе после отъезда Глеба шла ремонтная горячка. Окна и крыши корпусов еще зияли разбитыми стеклами; в бетонных стенах еще чернели дыры в обрывках ржавой арматуры, а внутри, в сумеречных чревах, под звездами электрических лампочек стонало и барабанило эхо от молотов и сверл, от скрежета, звона и чавканья металла.
Работали все наличные рабочие силы – двести человек. Ремонт вращающейся печи требовал особого внимания. Нужно было произвести переклепку стальной обшивки и заново выложить внутри огнеупорный слой. Заново нужно было отливать мелкие металлические части на дробилке, на мельнице, на самотасках, на сложных передаточных механизмах. Большая порча была в резервуарах для жидкого теста, где надо было делать новые вращающиеся мешалки и менять целые системы труб причудливых цилиндрических решет и всяких переплетающихся, легких в линиях и рисунках, деревянных и металлических приспособлений. Меньше всего работ было в электромеханическом корпусе и в машинном отделении. Там был Брынза. Жил Брынза – жили и машины.
Люди, голубые от пыли, суетились, ползали около печей, прыгали по переплетам, по кружевам перекладин, лестниц, парапетов, винтили, резали, пилили железо и медь, опутывались тенетами проводов, орали и задыхались от пыли, от духоты, от внезапной бурной трудовой встряски.
На второй магистрали работа шла спокойней и тише. Меняли рельсы в разных местах, чинили виадуки и очищали пути от камней и щебня.
Завод по-прежнему стоял в пыли и запустении, но уже всюду чувствовались его дыхание и первая машинная дрожь. В механических корпусах непрерывно день и ночь пыхтели и рычали дизеля.
И каждый день строго и важно обходил все работы инженер Клейст во всем белом, и впервые лицо его вздрагивало сдержанной улыбкой волнения. Так же юлили около него старые техники и десятники и так же небрежно отдавал он им приказания, дергая головой в такт своим словам. Но с рабочими был он по-прежнему сух, молчалив и проходил мимо равнодушно, отчужденно и слепо.
Глеб поехал на неделю, а пропадал целый месяц. Со второй же недели работы без него пошли с перебоями и к концу совсем прекратились. Заводоуправление перестало выполнять утвержденный план и удовлетворять материальные сметы, а в совнархозе нельзя было добиться никакого толку. Опять – промбюро, главцемент, Госплан…
В заводоуправлении чистоплотные спецы было откровенны с Клейстом.
– Бросьте, Герман Германович, чудить. Завод не может быть пущен. Неужели вы не понимаете? Для чего им, собственно, завод? Ведь смешно, Герман Германович… Предположим, что завод пущен и продукция поступила на склады. Что же дальше? Рынок? Но его ведь нет. Раньше нашим цементом питалась главным образом заграница. А теперь? Строительство? Но ведь строительства тоже нет и не может быть, потому что нет ни капитала, ни производительных сил. Тарарам произвели здоровенный – в этом надо им отдать справедливость. А вот силенки-то нет, опыта-то нет, средств-то нет для созидательной работы. И не может быть при отсутствии частного капитала и частной предприимчивости, На национализированном коне далеко не ускачешь. Воленс-ноленс приходится обращаться к варягам.
Клейст холодно и важно слушал спецов, курил папиросу, не спорил, а заметил коротко и веско:
– Я пришел сюда не для разрешения вопросов из области политической экономии и общей системы государственного хозяйства в России. У меня – скромная задача: потребовать от заводоуправления выполнения производственного плана на ближайшее время. Ремонтные работы прекращены по вине заводоуправления.
Спецы смотрели на свои руки и прятали улыбки в учтивой предупредительности к Клейсту.
– Заводоуправление здесь ни при чем, Герман Германович: оно получает все инструкции от совнархоза. Обратитесь непосредственно в это учреждение.
Это были новые люди, присланные из совнархоза, но эти люди, под покровом лояльности, надёжно несли в себе прошлое. И он нес это прошлое, но оно стало далеким и мертвым: это прошлое перегорело в огне настоящего, и от него остались только одни головешки. Между ним и этими людьми уже не было понимания. И он видел, что глаза их потухли от его неожиданных слов и в улыбках их были скрытая насмешка, недоверие и трусость. Этот странный чудак или слишком хитер, или выжил из ума от панического страха перед большевиками…
Клейст шел в совнархоз. И там встречали его так же почтительно и приветливо, как своего человека, и улыбались так же, как и в заводоуправлении, – загадочно, многозначительно, через золотые зубы, через пристальные намеки в глазах.
Так же важно и холодно он излагал цель своего прихода, и тут, как и в заводоуправлении, ему давали учтиво-официальные ответы сквозь дымку скрытой насмешки.
– Да, выполнение ваших смет задержано, Герман Германович: вероятно, они будут пересмотрены. Видите ли, мы не можем вопреки промбюро и главцементу… Пока нет соответствующих условий… Предсовнархоз, как сведущий и осмотрительный человек (а в глазах – пристальный игривый смех), ведет твердую линию… Шутить он не любит… Тут слишком все поспешно… Что скажет главцемент… Есть основания предполагать, что в промбюро и особенно в главцементе вся эта затея с заводом не встретит сочувствия… Мы ждем авторитетных указаний.
Клейст уже без техников и десятников бродил один по заводским корпусам, по рельсовым путям, подолгу осматривал пустынные площадки и постройки, разобранные механизмы, мусорные остатки прерванных работ и угрюмо бил палкой по камням, обломкам и брошенным материалам. И только один человек встречался ему в этих молчаливых прогулках – сторож Клепка, с бровями и бородой, как хлопья цемента.
Глеб приехал с задранным шлемом, весь грязный и мятый с дороги, но с прозрачными, будто вымытыми глазами. Он не зашел домой, а пронесся прямо на завод, пробыл там короткое время и, бледный от ярости, широко зашагал на бремсберг. Везде – пустота, сор и разлом, как в первые дни его приезда из армии.
Задыхаясь от бешенства, он бегом промчался в заводоуправление.
Опрятные спецы, оглушенные горластыми ругательствами, в изумлении и растерянности застыли на местах: кто шел – остановился, кто сидел – встал, кто писал – не поднял головы. Глеб с порога же начал глушить всех сплеча:
– Какая это дрянь, скажите мне, учинила это подлое дело?.. Я хари всем побью за это предательство… Где директор?.. Я сейчас всех мерзавцев отправлю в Чека за саботаж и контрреволюцию… Вы думали – меня нет, так можно вести старую тактику?.. Вы думали, что без меня ваш паршивый номер пройдет?.. Чертовы куклы, я вас всех посажу на аркан!..
Он бегал из комнаты в комнату, кого-то искал, никого не видел, швырял стулья, сметал бумаги со столов и толкал людей, которые стояли у него на дороге. Кукольно нежные машинистки испуганно корчились на стульях и прятали свои прически в клавиатуре.
А люди стояли и сидели немые от испуга и, когда он убегал от них, панически переглядывались и прикладывали ладони и бумаги ко рту.
Когда немного прошел бешеный порыв, Глеб бросил в одной из комнат шинель и сумку и ворвался в кабинет директора. С таким же тревожным изумлением, но стараясь быть спокойным, встретил его директор Мюллер, с серебряной щетиной на черепе, с серебряными стрижеными усиками, в золотом пенсне. Он встал и протянул ему руку через стол.
– Что это вы там расшумелись, товарищ Чумалов? Вы так ругаетесь, что лопаются стекла.
Глеб не сел и руки Мюллера не заметил. Стал боком к столу и с угрозой спросил:
– Кто распорядился прекратить работу на заводе?
Мюллер развел руками от покорного бессилия.
– Вы мне не ломайте дурака, а режьте прямо. Какая это скотина угробила всю работу на полном ходу?
Мюллер вздрогнул, сверкнул стеклами пенсне, и лицо его стало дряхлым и ржавым.
– Прежде всего, я просил бы вас, товарищ Чумалов, быть осторожнее в выражениях. Заводоуправление здесь ни при чем. Мы прекратили работу потому, что совнархоз не нашел возможным продолжать ремонт за отсутствием необходимых средств и без санкции высших хозяйственных органов.
– Дайте мне распоряжение совнархоза… Всю переписку… сейчас же! Снюхались с совнархозной шатией: думали, что за моей спиной удастся передернуть карту? Думали, что в промбюро меня отошьют, а вам под горячую руку будет удача? Шалите, голуби, я вас здорово посажу под колпак.
– Какие же у вас основания, товарищ Чумалов, возводить на нас такие тяжелые обвинения? Я протестую самым категорическим образом: вы необдуманно говорите оскорбительные вещи. Мы же не маленькие дети: мы не можем выходить из пределов инструкций и предписаний, исходящих сверху. Мы были устранены от участия в этих событиях: все склады опечатаны совнархозом, все документы изъяты из дел представителем совнархоза… Будьте любезны устраивать скандал не нам, а совнархозу.
Глеб повернулся к Мюллеру и ткнул кулаком в стол.
– Вы мне, пожалуйста, не заливайте ерунды. Я великолепно знаю все ваши махинации, Вы, друзья, забыли дело с райлесом. Вы узнаете на своей шкуре, как стреляют прохвостов. Вы меня принимали за дурака и водили за нос, а я вам буду ломать башки и ребра. Имейте в виду, что с утра рабочие приступают к работам. Ремонт должен быть закончен через два месяца, а с осени завод будет на полном ходу. Поняли?
Мюллер пожал плечами, смущенно улыбнулся и хотел что-то сказать, но подавился сухим языком.
На площадке около завкома толпились рабочие, сутуло трудились в кучки в бездельной скуке, сидели в холодке на земле у стены, выходили и входили в двери. Курили. Гуторили разноголосо и хохотали. Громада стоял на высоком крыльце, в открытых дверях конторы, размахивал костлявыми кулаками и надрывался от чахоточного возбуждения.
– Как есть это, товарищи, временно, повинны мы, как рабочий класс, отнестись сознательно и так и дале… Мы ячейкой и собранием вынесли резолюцию, и как совпроф и профстрой есть наши родные организации, таким образом, мы всяко сумеем защитить наши интересы и дадим ход на предание ревтрибуналу…, и всякую нечисть и сукиных сынов пришьем…
Толпа волновалась, кричала и аплодировала.
И только Савчук, в драной рубахе, расталкивая людей, размахивая руками, кричал как оглашенный:
– Бить их надо идоловых душ. Почему лимоните? Терпеть не могу…
Глеб сбежал по широкой бетонной лестнице вниз и сразу увяз в гуще пыльных и потных лиц, в криках, в бестолковщине…
– Вот он, Чумалов!.. Ах ты, барбос, сукинова сына!.. Хо, теперь он, вояка, покроет… Хо-хо, да черт же тебя унес на нашу голову в недобрый час…
А среди этих радостных выкриков – другие, угрюмые голоса:
– Как же это так, товарищ Чумалов? Ведь что же это такое?.. Этак ежели будем работать, так лучше к черту в зад…
– Шутки, что ли? Мы знаем, чьи это проделки…
– Ха, эти старые шкуродеры спят и видят царский режим…
– Хозяевов ждут, черти поганые…
– Да что там голову морочить… К ногтю их – и никаких гвоздей…
Обдавали махоркой, потом, и от тесноты и дыхания было угарно и душно. Глеб растолкал людей и поднялся на крыльцо к Громаде.
– Товарищи, работы пойдут полным ходом. Завтра по гудку каждый принимается за свое дело. Все эти махинации распутаем живо и сумеем кое-кого посадить на мушку. Еду в совнархоз. Потребуем, товарищи, беспощадной расправы с контрреволюцией, В промбюро я провел все наряды. Привез с собой топливо. Пошлем людей за клепками. Пускаем в первую голову дробилку и перемол клинкера.
Рабочие бросились к Глебу, подхватили его под руки, радостно затискали и оглушили ревом. Кто-то поддел его под ноги, кто-то облапил поперек тела, и вдруг множество жестких рук швырнуло его в воздух.








