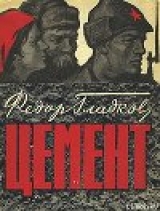
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
2. Август Бебель и Мотя Савчук
Черно-фиолетовые дали за заводом – море и городское предместье – были мглисты и пустынны в призрачных искрах и облачных тенях. От маяка к заводу трепетала в бухте огненная веревка. Капали звезды очень далеко над морем, и небо над дальними изломанными хребтами было в павлиньих перьях.
В горах, за городом, вспыхивали, кружились, гасли и опять зажигались загадочные огни.
Даша дотронулась до руки Глеба.
– Видишь? Огни-то?.. Это бело-зеленые сигнализируют. Еще много борьбы будет с ними, много будет пролито нашей крови…
…Какую жизнь прожила без него Даша? Какая сила сделала ее душу отдельной? Раздавила эта сила прежнюю Дашу, и стала Даша больше Даши, и силу эту Глеб хотя и постигал умом, но сердцем никак не мог с ней примириться.
– Дашок, что это у тебя было с инженером Клейстом? О чем это сболтнул Лошак?.. В чем дело? То Клейст предает смерти, то спасает от смерти… Расскажи-ка, кстати…
Даша помолчала, потом нехотя ответила:
– Это он о контрразведке…
– Что такое?!
Он остановился и схватил се за руку.
Даша усмехнулась, но Глеб не увидел этой усмешки.
– Ну вот… была в контрразведке, а Мотя хлопотала у Клейста… Он взял меня на поруки… Я была по зеленому делу…
– Подожди, подожди… Дай сообразить… Ведь ты же на этом деле могла сгибнуть, как муха… Ну дальше?
– Это – долгий разговор… Придет час, расскажу как следует. А теперь трудно мне… Расстраиваться не хочу…
Она быстро зашагала по дорожке и оставила его позади. И в этих торопливых движениях почуял Глеб Дашину тревогу. Вспомнил: так же держала себя Даша по дороге к детскому дому.
– Ой, Дашок, что-то не так! Что-то таится в тебе другое… Может быть, кто-то стоит у нас на дороге?.. Прямо скажи, откровенно… Уж очень ты нервничаешь, когда говорят о тебе…
– Если ты, Глеб, мне не веришь, как же я могу относиться к тебе? Разве ты можешь меня понять?
Он молча шел за нею в поющей вечерней тишине, с болью и смутой в душе.
А когда пришли домой, она сейчас же села к столу к вынула из газетного свертка книжки. Выбрала одну, подвинула лампу и оперлась головою на руки.
– Что это ты читаешь, Дашок?
Он хотел спросить се мягко и ласково, но сам почувствовал, что вышло фальшиво и глупо.
Не отрываясь от книжки, она сказала сквозь зубы:
– Августа Бебеля… «Женщина и социализм».
– А это что за книги?
– А это товарища Ленина «Государство и революция». Хочешь – возьми.
В открытое окно влетела ночная мошкара, вилась около огня, зажаривалась на стекле и сеялась на стол, как пшено. Свистела пичуга в горных кустарниках – так-нет? так-нет? В окне Савчуков, тоже открытом, зазывно туманился огонек.
Глеб встал и вышел из комнаты.
Савчуки уже ложились спать. На столе были остатки еды. Мотя без кофты, в одном лифчике, копошилась у плиты. Савчук, босой, кудлатый, лежал на кровати.
Мотя стыдливо тянула на грудь лифчик и рубашку.
– Ты – свой человек, Глеб… Я – по-ночному…
– Не стыдись, Мотя: я и без этого знаю, что ты храбрая женщина. Ты лучше скажи, как укрощаешь Савчука.
– А что ж – Савчук? Он у меня сейчас – смирный.
– Да не ври ты. А кому я вчера ремонтировал кости? Забыла?
Мотя сверкнула глазами.
– Ах ты, кудлатая пакля!.. Ну-ка, вспомни, кого я хлестала по морде?..
Глеб засмеялся – веселые ребята эти Савчуки!
– Ну как, Савчук, товарищ? Тебе строго воспрещается воевать с Мотей: готовь руки на другую работу…
Мотя ахнула от радости и подбежала к Глебу.
– Да, да, Глеб… милый!.. Ведь без работы жизнь – только несчастье и слезы. Была работа – была и семья… И с детьми я будто росла из земли как дерево. А вот теперь меня будто выкорчевали и вокруг меня только навоз и камни.
И со слезами на глазах она опять отошла к столу.
А Савчук угрожающе сел на край кровати, опираясь об пол мозольными ступнями с изуродованными пальцами.
– Ну, Глеб!.. Ежели эти руки толкнутся в пустую дыру – не быть тебе живому! Завтра пойду в бондарню – узнаю, как будут петь мои пилы… Твоя жинка – чертова баба: она крутила ячейку, как веревку.
Мотя повернулась к Глебу и пытливо поглядела ему в лицо. Она хотела что-то сказать ему, но не решалась и стала убирать со стола.
– Ну что ж… Говори, Мотя… – усмехнулся Глеб. – Чего же ты трусишь?..
– Уж тебя-то я не боюсь, Глеб… не думай, пожалуйста!.. Только зачем же Даша бросила Нюрку, как щенка, на чужие руки? Баба без детей – дикая баба. Она звала меня в свой гурт, да ведь я же не дура.
Савчук ударил кулаком по коленке.
– Ну и баба ж твоя жинка!.. Прямо, черт ее дери, из ячейки крутила веревку, го-го!..
А Глеб жадно ловил слова Моти.
– Ну, ну, Мотя!.. Ты мне о Даше расскажи… как она тут геройствовала без меня…
Поняла ли его Мотя, знала ли она, как они жили в эти дни, – она поглядывала на него с лукавой пытливостью, точно дразнила его:
– А что, Глеб Иваныч?.. Обжегся?..
– Это верно: Даша стала неузнаваемой. Но, понимаешь… откровенничать со мной не желает… гордая!..
Мотя насмешливо прищурилась и с упреком покачала головой.
– Ты не закидывай удочки, Глеб Иваныч. Я вижу твои подвохи… Какой хитрый, подумаешь!.. Ты бросил ее одну. А она баба не робкая – выдержала. Другая бы костей не собрала. Попробуй взять ее теперь голыми руками! Признайся, поцапал её немножко?.. да?.. Ну, а она и отшила… Ведь правда?.. А я вот тебе ничего не скажу… нарочно… Так и знай…
Глеб смутился и засмеялся, чтобы скрыть свое смущение…
– Ну и тонкая же ты, Мотя!.. Тебя не проведешь. Ты права: выработался у нее свой характер… Однако я не пойму, почему она молчит… Хоть бы похвалилась… А может быть, что-нибудь другое? Может быть, поскользнулась по бабьему делу? Пускай бы сказала: ведь я же не злодей.
И он опять увидел, что Мотя и тут поняла его затаенную хитрость.
– Ой, Глеб Иваныч! И не стыдно тебе притворяться?.. Иди домой и ложись спать. Не точи зря язык… Очень я люблю твою Дашу, Глеб Иваныч! Только зачем она отдала Нюрку вариться в приютской каше? Ведь Нюрка же была у меня… Ну пускай бы у меня и осталась. Как можно жить бабе без детей и без мужа?.. Ну, да не ее вина-то… А ты и о себе подумай… За тобой тоже долгов много, Глеб Иваныч…
А в сенцах, провожая Глеба, Мотя сжала его руку и стыдливо засмеялась.
– Он, Глеб!.. Милый!.. Ты – свой человек… Ты же не знаешь какая мне радость… ты же не знаешь!.. Уже есть, Глеб!.. Есть!.. Опять буду матерью, как тогда, Глеб!.. Опять!..
И потом, открывая дверь, вздохнула.
– Какая лихая беда, Глеб!.. Не жить вам с Дашей по-прежнему. Нет! Теперь уж ее не привяжешь… Так вам, барбосам, и надо: не бросайте своих баб на собачью судьбу…
Глеб застал Дашу в той же позе – за книгой: голова – на руках, и строгое, заботливое лицо.
Она быстро повернулась к нему и положила локоть на книгу.
– Ну, что ты узнал у товарищей Савчуков?
Глеб ласково обнял ее и сказал не так, как говорил обычно:
– Мне худо, Даша… Со мной ты – как чужая… и будто нож держишь за пазухой…
Она промолчала, но прижалась к нему и стала опять слабой и милой бабой, И почудилось, что пахнуло от нее прежним молочным запахом.
– Ну если что было – так это же не суть… В лихой час это может случиться со всеми…
Она оторвалась от него и вздохнула. Потом взглянула ему в глаза, как Мотя, и сказала тихонько, с болью ломая голос:
– Да… было… было, Глеб…
Будто огромная рука отбросила. Глеба от Даши, и рука эта сдавила ему горло. Сердце замерло и упало. Бледный, он онемел на минуту. Потом хрипло пробормотал:
– Так!.. Давно бы с этого начала… значит, таскалась… с кобелями?..
Она вскочила, схватилась за спинку стула и закинула голову.
– Опомнись, Глеб!.. Что это такое?..
И замолкла с крепко сдвинутыми бровями.
Он дышал тяжело и смотрел на нее в бешенстве человека, который поражен неожиданным ударом. Он еще не понимал, что произошло с ним, но чувствовал, что случилось что-то страшное и непоправимое и что бунт его против Даши смял его самого. Он растерянно отступил назад, и у него затряслись губы.
Даша помолчала, оглядывая его с ног до головы, потом сказала басовито, с сухой хрипотцой:
– Я тебя испытала, Глеб. Вот видишь? Ты еще не можешь меня слушать, как надо… Так вот: я сказала, чтоб вывести тебя на чистую воду. Я хорошо знаю, чем ты дышишь… Ты – хороший вояка, а в жизни ты – плохой коммунист…
V. ПОДПОЛЬНЫЙ ЭМИГРАНТ
1. Спрятанная комната
Окно в массивных дубовых рамах не открывалось, и пыль с каменоломен через щели и форточку бархатно ложилась на подоконник в междурамье, а по утрам, когда горы горели сиреневым блеском и брызги солнца скользили сбоку, через переплеты рам, между стеклами летали радужные кристаллы. И технорук, инженер Клейст, стоял подолгу пред окном и смотрел на эти летающие миры, на излучение минувших геологических эпох, осязая сгущенную тишину комнаты.
И оттого, что рабочая комната Клейста находилась в глубине коридора, где день молчал вечерней дремотой, а ночь – черными пустотами и лохматыми тенями, эта комната казалась ему отрадно недоступной, далекой, как та вон каменоломня в ущелье, заросшая шиповником и держи-деревом.
Когда завод разрушен, а горные разработки пустынны и бремсберги разбиты и проржавлены, жизнь разлагается на составные элементы – на хаос и покой. Почему же не быть техноруком на мертвом заводе, когда это ни к чему не обязывает?..
Главное, не открывать дубовых рам в комнате и понять огромный смысл великой строительной работы пауков между стеклами. С некоторого рубежа между прошлым и настоящим Клейст вдруг увидел глубокую красоту архитектурных нагромождений паутин в воздушных пространствах междурамья. Он подолгу стоял у окна, сутулый, длинноногий, с серебристым ершиком, и смотрел на жемчужную ткань тенет – на множество ажурных плоскостей в разных наклонениях и пересечениях, на бесчисленные радиусы лестниц, переплетов и сцеплений, насыщенных силой огромного напряжения.
В его рабочую комнату никто не входил: кому нужен технорук, когда завод могильно пуст и цемент в сырых лабазах давно превратился в чугунно-твердые болванки? Кому он нужен, когда порваны стальные канаты, а вагонетки, сброшенные под откосы, засыпаны щебнем и заросли бурьяном? Кому нужен технорук, когда квалифицированные рабочие бродят бездельниками по шоссе, по тропинкам территории завода, по пустым корпусам и дворам – тащат клепки и обручи для топлива, медные части машин для зажигалок, ремни от трансмиссий?..
Там, внизу, в полуподвальном этаже, в полутьме нежилых конур, ежедневно грохотал в топоте и криках завком, и Клейсту казалось, что это – таверна, притон бунтовщиков и разбойников. И из своего окна, сквозь пыльную муть стекол, он видел рабочих, снующих по бетонным ступеням спуска, с угрюмыми лицами, истощенных голодом и страданиями. Они заняты были своим – страшной и непонятной игрой, – и им не было никакого дела до него. Все слагалось в его пользу силою его мудрой осторожности и умелой постановки простой математической задачи. Из своего обособленного угла он смотрел на них с насмешливым презрением и тревожной ненавистью. Все эти изнуренные голодом и бездельем существа принесли разрушение и великую трагедию – революцию. Это они раздавили его будущее, а мир сожгли, как обрывок пакли, и только частицы прошлого забыли в этой спрятанной комнате.
Бетонная площадка и лестница спуска перед окном дымились и плавились на солнечном блеске. Чудилось, что они горят белым накалом и вот-вот взорвутся пламенем. Трещали и взвизгивали раковины и выщербленный цемент на площадке под ботами рабочих. Они муравьиным хороводом сновали из дверей – в двери, из завкома – в завком.
Почему нужен теперь завком, когда раньше его совсем не было, а завод потрясал целый мир? Какие могут быть дела у рабочих, обреченных на безделье среди обломков минувшего, величаво организованного труда? Зачем эта заботливая торопливость, если завтрашний день – такой же, как вчера, и за ним – нить таких же бестолковых дней, как в зеркалах повторного отражения?
Курьер Якоб заходил в комнату ровно в час с маленьким латунным подносом. Он появлялся молча и строго, чуть-чуть сутулясь. Седые усы и щетина на красном его черепе – странно прозрачны, как стекло. Он ставил на стол стакан с чаем, крошечные таблетки сахарина в бумажке. Потом отступал назад на два шага, наклонялся, щепотью бережно подбирал соринки с пола и заботливо клал в проволочную корзину под столом. Стены комнаты были опрятно белы, и архитектурные чертежи так же строго чеканились в дубовых рамах, как в прошлые дни.
– Уже час, Якоб?
– Ровно час, Герман Германович.
– Очень хорошо. Можешь идти. Ко мне никого не впускать.
– Слушаю-с!
– С окна только стирать пыль, Якоб… но рам не открывать.
– Слушаю-с!
Клейст стоял у окна, спиною к Якобу. Серебряный ершик сердито хрусталился, и старый пиджак оттопыривался хвостиком от низу до лопаток.
Где-то очень далеко за коридором пустые комнаты конторы пели одинокими голосами и цыплятами цыкали счеты. Там были уже новые люди, присланные сюда совнархозом. Кто они и что они там делают – инженер Клейст не знал и не хотел знать. У него оставалась забытая всеми рабочая комната, охраняемая Якобом, где есть только одно прошлое. А настоящее мчалось по шоссе автомобилями, телегами и людьми, толкалось артелями рабочих, которые сорвались с цепи и научились бестолково кричать и ругаться (раньше это строжайше воспрещалось дирекцией).
Он смотрел на крутой горный сброс, иссеченный каменными пластами, в кудрях можжевельника. Высоко, на ребре горы, массивными глыбами, в арках и башнях, вздымался замок из дикого камня.
– Что там теперь у них, Якоб?
– Рабочий клуб и комячейка, Герман Германович.
– Они принесли с собой новый, непонятный язык. Пожалуйста, не впускать в эту комнату никого и ни в коем случае не открывать окна. Можешь идти.
Он как будто впервые видел дом директора (комячейка!), любовался его колоссальной мощностью и вздыбленным величием. Этот дом строил он, Клейст.
Налево за горой, в пятнах зелени и камней, прозрачно взлетали ввысь железобетонные трубы завода, канатная дорога, а под трубами за канатной дорогой – купола и аркады заводских корпусов. Их тоже строил он, инженер Клейст. Он не мог эмигрировать за границу, не разрушив своих сооружений. Его создания стояли на его пути неприступнее гор, неотвратимее времени: он был их пленником.
Эта комната с глянцевым полом дышала ароматом прежней деловой лаборатории: чертежи висели на стенах, чертежи лежали на массивном дубовом бюро, сохранялась благородная важность резной тяжелой мебели. Здесь остановилось время, и минувшая жизнь сгустилась до телесной осязаемости.
2. Враги
Была ли допущена ошибка в логических построениях Клейста или с некоторого момента жизнь перестала подчиняться законам человеческого разума, но замкнутая орбита обособленного его мира непоправимо лопнула и рассыпалась, как проржавленная проволока.
Еще час назад, когда Якоб своим обычным приходом утверждал неизменность обычного течения времени, все представление его о жизни четко выражалось строгой графической схемой – кругом и касательной. В минуты блаженного покоя, безопасно скрытый за множеством стен, он сидел за письменным столом над старыми проектами заводских построек и, охраняя традиционную чинность своего рабочего кабинета, бессознательно рисовал карандашом в английском блокноте один и тот же чертеж: крут и касательную – аксиому, верную при всех обстоятельствах.
И вот сразу все разлетелось вдребезги. Аксиома вдруг оказалась нелепостью: касательная превратилась в камень, раздробивший раковину. И оттого, что это случилось просто и тихо, душу инженера Клейста смял смертельный ужас.
Он ходил в уборную и немного задержался там: от недоброкачественной пищи у него часто болел кишечник. И когда возвращался, издали увидел, что дверь в его комнату открыта. Этого никогда не допускал ни он, ни Якоб.
Рабочие стояли на площадке, смотрели на каменоломни и на его окно. Это было сейчас же после ухода Якоба. Тогда он почувствовал внутри легкий электрический разряд. Была тревога, но она была мгновенна – и забывалась. Теперь – открытая настежь дверь и – тоже электрический разряд и тошнотное беспокойство.
Сохраняя холодную важность и привычную уравновешенность, Клейст ровным шагом вошел в комнату. Он остановился у порога и не сразу понял, что случилось. Окно было открыто, и дымилась пыль над столом и подоконником. В воздушном провале окна огромно поднимались склоны гор в пятнах весенней зелени и каменных отвалов. Очень далеко, на верхней террасе разработок, четко выступал маленький домик с двумя окнами. Табачный дым и обрывки паутин прозрачно сплетались в общем полете.
У окна стоял с трубкой во рту бритый человек в гимнастерке и синих обмотках. У него были крепкие квадратные челюсти, а щеки проваливались черными ямками.
– А, сколько лет!.. – с веселой развязностью приветствовал он Клейста. – Мое почтение!.. Вы так надежно здесь забаррикадировались, что к вам трудно пробраться…
И шлемом сбивал с косяков и рам паутину и бил ползающих очумелых пауков.
– Ну, и нора же у вас, товарищ технорук, – тупик какой-то! И все – под защитный цвет. Придумано неплохо…
Разбитым шагом Клейст прошел к столу. Был час, когда этот человек, истерзанный побоями, обречен был на смерть и кровавой маской гримасничал ему в лицо. А теперь он неожиданно здесь и так странно и жутко спокоен.
– Да… я совсем не открываю окна…
– Правильно, товарищ технорук: сквозняк у нас ядовитый… Большевики к чертовой матери искромсали все на преисподний манер. Окаянные люди!.. Есть от чего прийти в панику… я понимаю вас!
– Почему же о вас не предупредил меня Якоб?
– Вашего Якоба мы отправим на резку дров в бондарный цех: холуи – не к чести нашей жизни. Вы меня должны помнить, товарищ технорук…
– Да, я вас помню… Пусть так, но что же из этого следует?
– Да как сказать… брожу вот по заводу, по всем углам и закоулкам. Обследую былое величие. И вижу только одно – развалины и мерзость запустения. Бремсберги разбиты, провода порваны, всюду – разгром… А спецруки крысами забились в норы. Почему везде – паутина? И вы и завод – в паутине? Вот вопрос.
– Предположим, что я уже поставил и разрешил этот вопрос. Что же вам от меня угодно?
– А вот… наткнулся на вашу баррикаду… Дай, думаю, ковырну эту кубышку… Чертова привычка, товарищ технорук…
– Я никогда не веду праздных разговоров. И то, что вы говорите, я не понимаю и не хочу понимать, Будьте любезны оставить меня в покое.
Глеб шагнул к столу и ухмыльнулся. Потом вынул изо рта трубку и пристально поглядел на Клейста. Отразились ли пауки в его глазах или жуткие призраки задымились около Глеба, – лицо Клейста покрылось густым пыльным налетом.
– Гражданин Клейст, помните тот прекрасный вечер, когда вы меня отличили незабываемо? Здорово тогда отшлифовали мои кости, да и кишки старательно промыли кровью. Ваша баня была не легкого пару… Ну, такая баня, если черти не запарят, – впрок… Так вот… пришел к вам в гости – лясы поточить о старине… Люблю повстречаться со старыми друзьями, товарищ технорук!
Он ткнул трубку в угол рта и засмеялся.
– Разрешите повеселить вас загадкой, товарищ технорук. Не бойтесь: загадка плевая, но очень забавная. Было четыре дружка по весне. Накрыли окаянные белые этих дураков и приволокли в эту самую комнату. А хари у них – не хари, а рваные калоши. Так вот: зачем сюда приволокли рваные калоши и как четыре мертвых дурака обратились одним живым? Ну? Разве не смешно? Что же вы так угрюмы?
И опять засмеялся веселым забавником.
– Давненько не видались мы с вами, товарищ технорук. Дай, думаю, проведаю старого друга. А встретили вы меня без всякого пыла. Как меняются люди! Ходили вы раньше героем, а теперь пали духом. Нехорошо это, товарищ технорук. Надо встряхнуться!
За окном непривычно громко и близко рокотали артельные голоса рабочих. Глеб пристально, с ухмылкой, смотрел на Клейста, точно ждал его голоса. Но Клейст был нем и неподвижен, как труп.
– Извините за шутку, товарищ технорук. Не бойтесь, хуже бывает. Уж такой у меня веселый характер… Что со мной сделаешь! До свидания, товарищ технорук!..
И повернувшись на каблуках, он стремительно вышел из комнаты Изнуренный этой встречей, Клейст долго сидел с застывшим взглядом потрясенного человека. Опять вошел Якоб с почтительной важностью и остановился посреди комнаты. Он был растерян, у него дергалась голова. Клейст перевел на него лихорадочные глаза и спросил очень тихо и строго:
– Ну, Якоб? Не скажешь ли, как это случилось?
– Моей тут нет вины, Герман Германович… Для них – нет запрета и запора… нигде и ни в чем… Их сила, Герман Германович, и их закон…
Присутствие Якоба было приятно. В его холодной преданности было что-то успокоительное.
– Это и есть комячейка, Якоб?
– Чумалов… слесарь… Примчался с войны, а теперь – верховодом. Разве теперь что против них устоит? С ног сшибут, Герман Германович…
– Не устоял и ты, Якоб?
– Не устоял, Герман Германович… Прискорбно, что и ваш режим он порушил…
Клейст помолчал, будто не слышал последних слов Якоба. Спокойно и деловито закурил папиросу.
– Ты помнишь, Якоб, – их было четверо. В ту ночь они были, кажется, расстреляны? Я хорошо знаю, что они погибли.
– Их тогда, Герман Германович, забили… затерзали до смерти…
– Да, Якоб, это ужасный случай, который не забудешь никогда. Здесь нужно отметить одно: я поступил тогда вполне сознательно, без всякого постороннего воздействия. Боязнь? Страх? Месть? Этого не было, Есть только одна сила, это – время, а время – это события. Так же сознательно я делал все возможное, чтобы спасти жену этого рабочего.
Папироса между средним и указательным пальцами прыгала и не могла найти себе места.
– Побудь со мной, Якоб… Я чувствую себя немножко нездоровым.
– Домой бы вам, Герман Германович, вам нужен спокой…
– Куда домой, Якоб? За границу? А не думаешь ли ты, что, может быть, мы с тобою, старина, проводим последние часы?
– Ну, как это можно допустить, Герман Германович! Рабочие наши пускай горлодеры, но они – смирные и никогда способны на убойную руку. Будьте спокойны, Герман Германович.
У Якоба тряслась голова.
И как только Якоб сказал эти слова, Клейст откинулся на спинку кресла, и опять лицо его покрылось бледной пылью.
– Ты помнишь, Якоб? Этого человека я отдал на смерть, но смерть рикошетом отражена в меня. Проводи меня, Якоб…
Он встал и с ужасом в глазах прошел к двери. Со старческой суетливостью Якоб взял шляпу и палку Клейста и засеменил вслед за ним в ночную тьму коридора.








