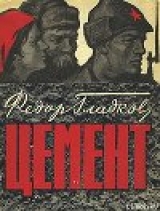
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
2. Прыжок через смерть
В исполкоме была получена экстренная телефонограмма, что волпредисполком Борщий отхлестал нагайкой начальника окружной милиции Салтанова, посланного в помощь Борщию по сбору продразверстки, а Салтанов стрелял в Борщия. Сообщалось, что Салтанов с отрядом красноармейцев производил облавы на казаков и городовиков, выгребал зерно из амбаров, выводил последнюю животину из катухов. А потом, когда подводы под конвоем красноармейцев двигались к исполкому, оркестр музыкантов трубил марш. За возами шли хлеборобские бабы, бились головами о телеги и выли вместе с коровами и овцами. И вот под эту музыку произошла в волисполкоме свалка между Борщием и Салтановым.
Бадьин читал телефонограмму с обычным спокойствием, а секретарь Пепло, ожидавший приказаний у стола, румяно улыбался.
– Вот дураки!.. Наскочил черт на дьявола. Распорядитесь, товарищ Пепло, чтобы сейчас же подали фаэтон. Я сам поеду и разберу дело.
– Слушаю-с.
– Кстати, протелефонируйте в окружном, товарищу Чумаловой, чтобы она немедленно явилась сюда. Она запрашивала о подводе в ту же станицу – я ее отвезу.
– Слушаю-с… Сообщить, что вы поедете вдвоем с товарищем Чумаловой?
Секретарь Пепло вздрагивающими веками смотрел на Бадьина и улыбался.
Предисполкома поднял глаза на Пепло, и секретарь отступил от стола.
Как только ушел секретарь, Бадьин встал и прошелся по комнате. И уже не было в нем обычной тяжести и властного бесстрастия: был он строен, кряжист, с упругими мускулами и упрямым поставом головы.
А в женотделе Мехова догнала в коридоре Дашу и под руку проводила ее до выхода.
– Вот что, Даша: не послать ли вместо тебя кого-нибудь из делегаток? Ты ездишь в командировки каждую неделю, а те только болтаются дома. Теперь очень участились нападения по дорогам. Каждый раз, когда ты уезжаешь, я все время боюсь за тебя…
– Не городи чепухи, товарищ Мехова. Какие же мы будем к черту женотделки, ежели у нас душа в пятки уходит от малейшей опасности?
Поля тревожно взглянула на нее и остановилась. А Даша ласково тряхнула ее руку и быстро вышла на улицу, взмахивая самодельным портфелем (там – все: и бумаги и хлеб).
У подъезда исполкома блестел черным глянцем фаэтон, и бородатый кучер на облучке курил от скуки и вытирал нос широкой полою.
На бульваре, загаженном мусором, валялись в пыли двое мальчишек в изорванных балахончиках, с опухшими лицами. Дымилась над ними пыль и таяла в бурых ветвях акаций.
Даша остановилась у фаэтона, поглядела на бульвар, потом в открытое окно кабинета предисполкома, потом опять на бульвар.
Чьи это детишки? Что они здесь делают, беспризорные? Чего смотрит милиция и почему так слепа и безрука деткомиссия? Или сама она беспризорна, как эти несчастные дети?
Она подошла к ограде бульвара и долго смотрела на возню чумазых ребят.
– Ребятки, а ну-ка – сюда!.. Возьмите вот… очень свежий хлеб… Ведь голодные же, малыши!..
Мальчики насторожились и быстро вскочили на ноги. Но тетка улыбалась им ласково, по-домашнему, и была совсем не страшная. А главное – в руке большой кусок хлеба. Повязка наводила страх (они давно знают, какая сила в этой повязке), но хлеб был свежий и издали опьянял сладким запахом.
– Да, да… иди, а ты – в приют… знаем… хорошая живодерня.
Один из мальчат встряхнул лохмотьями и бросился наутек. Даша засмеялась и разломила хлеб пополам.
– Да идите-же, поросята!.. Зачем мне вас – в приют?.. Берите хлеб и удирайте…
Тетка такая веселая и ласковая (если б не красная повязка!), и хлеб – золотой, как мед. Ребята верили ей и не верили.
Переглядываясь, они трусливо подошли к ней и издали протянули руки. Даша дала одному, дала другому. Хотела погладить их по кудлатым волосам, но они взапуски побежали по бульвару.
…Нюрка – в детдоме, а чем она счастливее этих голых мальчат? Однажды Даша увидела, как Нюрочка вместе с другими ребятами копошилась в свалке на задворках столовой нарпита. Ей тогда почудилось, что Нюрка уже умерла, что она, Даша, – уже не мать ей, что Нюрка брошена на голод и муки по ее, Дашиной, вине. И случайные ее ласки в детдоме – не ласки матери, а пустоцвет. И от самой свалки до детдома она несла Нюрку на руках, а сердце рвалось от боли. Бадьин стоял на тротуаре.
– Товарищ Чумалова, садитесь – едем.
Не ожидая ее, он вскочил в фаэтон, и экипаж заколыхался под ним всеми рессорами. Даша села рядом с ним и почувствовала, как его бедро упруго придавило ее своей тяжестью.
Бадьин уже не видел её – был замкнут, холоден и суров, как обычно.
– На автомобиле не проедешь. В горах даже на этой трясогузке придется пробираться черепашьим шагом. Ты не боишься бандитов? Я ничего не беру с собою, кроме нагана. Может быть, взять конных красноармейцев?
Даша взглянула на него – не боится ли сам Бадьин? Но лицо его было спокойно и неприятно самоуверенно.
– Не знаю, как ты, товарищ Бадьин, а я привыкла ездить без провожатых.
– Трогай, товарищ Егоров!
А товарищ Егоров испуганно взглянул на предисполкома, что-то хотел сказать, но не решился. Он крякнул и заиграл вожжами.
И пока ехали по городским мостовым, оба молчали, и Даше было необычно приятно и весело качаться в удобной и мягкой качели.
С тротуара закивал Сергей и дружески заулыбался. А Жук, как увидел их в фаэтоне, так и остановился, пораженный.
Бадьин брезгливо скривил толстые губы в усмешку.
– Не выношу этого типа…
– Это – чванство, товарищ Бадьин. Товарищ Жук – хороший токарь и крепкий коммунист.
– Товарищ Жук – просто лодырь и склочник. Таких надо обязательно гнать из партии.
– Нет, товарищ Бадьин: товарищ Жук – хороший… он откровенно говорит правду. А когда он изобличает – вы все сердитесь. Разве это – дело? И разве не правда, что вы, ответработники, видите рабочий класс только из своего кабинета?
– Ты ошибаешься. Кабинет ответработников – ближе к рабочему классу, чем такие сутяги, как, например, твой хороший товарищ Жук. Потому что через этот кабинет проходит все, начиная от сложных государственных вопросов, кончая мелочами быта. В кабинете же ответработника я познакомился и с твоим мужем.
Город уже был позади. Ехали долиной: слева были пологие взгорья в виноградниках, справа – лес, еще голый, но уже туманный от лопнувших почек. Всюду двигались толпы стволов: передние уходили назад, а задние, минуя друг друга, скользили вперед вместе с фаэтоном, и казалось, что лес кружился, волновался жил своей дремучей жизнью.
– Ну, а как ты сейчас насчет семейного счастья? С одной стороны – супружеские обязанности: общая постель и грязное белье А с другой – партийная работа. Потом у вас, кажется, есть потомство? Придется выбирать: или женотдел, или домашние заботы. Муж, вероятно, уже требует особых прав. Он у тебя – парень с большим характером.
Даша отодвинулась в угол экипажа.
– Мой муж – сам по себе, а я – сама по себе, товарищ Бадьин. Мы – коммунисты прежде всего…
Бадьин засмеялся и положил руку на ее колени.
– Ты говоришь, как все коммунистки, но у тебя это звучит несколько правдоподобнее: у тебя это бьет из нутра. Я уже знаю, как с тобой трудно найти общий язык…
Даша сбросила его руку и подобралась к самому краешку фаэтона.
– У коммунистов, товарищ Бадьин, всегда должен быть общий язык.
Бадьин опять замкнулся и отяжелел. Он отодвинулся от Даши.
И до ущелья – по-утреннему сумеречного от скал и лесных зарослей, в гремучих ручейках и кучках разноцветного щебня – они молчали и смотрели в разные стороны. Но Даша чувствовала, как волновался Бадьин: знала, что он борется с собою и не решается броситься на нее при Егорове. И она сама дрожала от ожидания и тревоги. Если бы это случилось сейчас, она не смогла бы бороться с его взбешенными мускулами: зыбкое бултыханье фаэтона по ухабистой дороге ущелья выбивало из-под ее тела надежную точку опоры.
Ущелье тянулось на три версты, а за ним по широкой загорной долине шла укатанная дорога к станице, утопающей в садах.
Горы громоздились в утесах и крутых склонах до самого неба. Всюду – обвалы в извивах складок и кучи камней и щебня, а ребра гор стекали от вершин расплавленным металлом. Внизу, над лесом и зарослями кустарников, дрожала и волновалась дымная мгла. И небо над горами и лесом казалось голубой рекой, а облака – белыми льдинами.
Дорога виляла между скал и камней и вправо, и влево, и вниз, и вверх. Впереди был сплошной лес в путаных веревках лиан, в охапках плюща и кустарников, но как только въезжали в заросли – лес и мшистые камни, и скалы, облитые слезами подпочвенных вод, отползали и вправо и влево, проваливались в обрывы и карабкались на утесы. Ух, какая страшенная высота! Даша жмурилась и замирала от падающего взлета скалы. Товарищ Егоров изогнулся на облучке и взметнул бородою.
– Товарищ предисполком, зря не погнали конницу… Тут мешочников не щадят кажин день, не то ли что… Ошибку дали, товарищ предисполком…
Бадьин, замкнутый, спокойно сидел в подушках фаэтона. Даше было душно и больно от тяжести его тела и в то же время приятно, что этот человек – надежная опора в лихой час. Бадьин усмехнулся и в упор посмотрел в бороду Егорова.
– Трусость – опаснее бандитов, товарищ Егоров. Знай свое дело и держи крепче вожжи в руках. Дорога не так плоха.
Егоров заробел и сутулился. Он уже не чмокал на лошадей, а только дергал вожжами, крутил головою по сторонам и захлебывался от обильной слюны.
Проехали еще с версту. Даша чувствовала, как Бадьин вздрагивал всеми мускулами, и было видно, что он изо всех сил борется со своим волнением и скрытыми порывами. Он глубоко вздохнул и схватил Дашу за плечи.
Даша закорчилась, чтобы освободиться от его рук, но Бадьин крепко стиснул ее, рванул к себе, и она на мгновение увидела его огромную голову и страшное лицо.
Их дернуло вперед и подбросило па фаэтоне. Грохнул и полыхнул к небу лес.
Даша видела, как Егоров заболтался из стороны в сторону на облучке и кувырнулся набок, на переднее колесо. В то же мгновение Бадьин оторвался от Даши, прыгнул вперед и взмахнул вожжами. Лошади забились и заволновались в дышлах.
– Стой!.. Руки вверх!.. Попались, цаповы души!..
Из-за скал и из-за черных пустот зарослей с винтовками в руках карабкались черкески и мохнатые папахи.
Даша видела только эти папахи и волчьи глаза. Близко, около нее, спотыкаясь, бежал к лошадям белобрысый казак без шапки, брызгал слюной и выл от хохота.
Даша успела только крикнуть одним коротким вздохом:
– Бадьин, гони!..
И слетела с фаэтона прямо на казака, и упала вместе с ним на щебень, в придорожную ямину.
Сразу же ее раздавила невыносимая тяжесть, точно на нее навалилась большая толпа, заплясала по ней каблуками и втиснула ее в узкую щель. Били ли ее, была ли стрельба и погоня – совсем не помнила, а когда очнулась – стояла у скалы, и целая шайка дышала в нее удушливым смрадом мокрой шерсти. Её рвали, крутили руки и драли за волосы.
– Баба!.. Одна баба осталась на нашу долю… Стыдно даже руки марать, будь она проклята!..
Фаэтона не было, и только далеко, в ущелье, будто катились по отвалам в каменоломнях. И как только Даша этот далекий топот, сразу пришла в себя. Товарищ Бадьин – там… далеко, на дороге… Товарищ Бадьин невредим…
Через дорогу, против Даши, с задранной ногой на скалу (нога босая, в опорке), в ворохе кучерского кафтана, лежал Егоров, а на самой дороге – растоптанная шапка. Волосы, ухо и клок бороды заливались кровью.
За ребром утеса фыркала и брыкалась лошадь и гремела удилами. Туда и оттуда перебегали в одиночку казаки с обалделыми лицами.
– Веди сюда!.. Какого там черта они голову морочат?..
Одна усатая папаха остановилась около утеса и вытянулась с ладонью у шапки и локтем на отлет.
– Баба, господин полковник… Хай повисють ее на ясени и – байдуже. Она, бисова душа, Лымаренку раком поставила… Разрешить, господин полковник…
– Веди, не разговаривай… дубина! Вместо нее я вас перевешаю, трусов. Только на баб ловкачи, мерзавцы!..
Оравой, путаясь в винтовках, поволокли ее через камни, ямины, по траве и поставили прямо перед лошадью, а лошадь бешено храпела и выкатывала глаза, Даша почувствовала влажный, горячий запах конского пота.
Она стояла прямо и смотрела на полковника. А полковник, похожий на калмыка, тоже смотрел на нее. Он был в черкеске, с серебряным поясом в висюльках, в серебряных погонах, в плоской мерлушковой шапке-кубанке. Лицо грязное, давно не бритое. Длинные черные усы покрывали и губы и подбородок.
– Отставить! Два шага – назад!
Даше стало легко и вольно. Воздух сразу перестал пахнуть мокрой шерстью, и она поняла, что между этим офицером на коне и шайкой она – одна. Платок у нее был сорван и затоптан в сутолоке. Бледная, с замирающим сердцем, Даша трепетала неудержимой дрожью.
– Стриженая… Коммунистка? Даша смотрела на него и молчала.
– Кто ехал с тобой в фаэтоне?
– Товарищ Бадьин… предисполком…
– Предисполком? Это по-каковски?
– А по-таковски… по-русски…
– Врешь. Русский язык не такой. Это ваш жаргон – не то жидовский, не то воровский…
– У нас, в Советской России, воры не плодятся.
– Это ново… Почему же?
– А мы беспощадно стреляем их.
Позади грохнул артельный хохот.
– Вот, бодай ее, бисова баба!.. Стрегочет, скаженная, как сорока.
Полковник не отрывал глаз от Даши и усмехался.
– А у вас все такие коммунисты, как этот губернатор? Разве полагается бросать своих товарищей в опасные моменты?
– Ничего подобного. Это – не он… Это я сама…
Скулы офицера вздрогнули, усы зашевелились. Он улыбнулся.
– Вот как!.. Это что же – с расчетом на нашу глупость?
– А это дело ваше, как понимать… Сделала – и конец!..
Полковник жвыкал нагайкой и глядел на Дашу с улыбкой калмыцкого идола.
А Даша все время чувствовала необычайную легкость. Грудь ее дышала ровно, спокойно, и голова была точно пустая – ни мыслей, ни жалости к себе, ни страха. Будто она никогда не была так свободна и молода, как сейчас. И удивилась: почему это так тянет ее к себе вон та одинокая сосенка на скале, у самой вершины горы (ой, как высоко!), почему она впервые видит такой густой воздух над склонами гор и почему он в лиловых переливах? И не сосенка здесь важное, и не воздух, а что-то другое, родное, крылатое, чему она не может дать имени…
– Ты говоришь смело, стриженая. И держишь себя достаточно весело. Такой случай у меня – первый. Ваши, когда они мне попадаются в руки, извиваются, как глисты… Может быть, ты рассчитываешь, что я тебя отпущу – как женщину? И не думай: я сейчас тебя повешу.
– А мне все равно… Я на то и шла…
Скулы полковника набухали и вздрагивали, а маленькие глазки искрились от смеха.
– Я – ваш непримиримый враг и каждого коммуниста уничтожаю без всякой пощады. Но ты пока держишь себя неплохо. Любопытно, как ты пойдешь под петлю…
Не отрывая от нее глаз, он поднял к голове нагайку.
– Байстрюк!..
Из толпы вразвалку вышел бородатый казак в черной лохматой папахе. Весь он был покорный, немой и тяжелый.
Он взял Дашу под руку, и рука его тоже была тяжелая и рыхлая. И не рука ее вела, а она несла руку, и эта рука казалась ей чудовищной.
Никак не могла оторвать своих глаз Даша от сосенки, которая реяла в огневом воздухе (ой, как высоко!). Так хорошо пьяно пахнет весной, и листочки распускаются на деревьях светлячками и пересыпаются радугой. И ручеек играет погремушкам в камнях. А тяжелая рука невыносимо тянет вниз. Голова такая свежая у Даши, и нет мыслей, а вместо мыслей – лиловые переливы воздуха. И оттого, что давила чужая рука, что-то хотела вспомнить Даша и никак не могла: что-то нужно вспомнить очень важное, неотложное, полное огромного смысла. Какой воздух хороший – весна! А сосенка вся в полете – нагнулась над пропастью и расправила крылья (ой, как высоко!..). Да, да… в этом было все… Товарищ Бадьин – жив. А она, Даша, – былинка: была – и нет ее…
Рядом с нею сопел и сморкался лохматый казак, но она не видела его, а только – воздух и густые лиловые глубины.
Веревка шоркнула где-то далеко, за шеей, но она как будто не слышала и вовсе не заметила, как толкнул ее казак.
Да, да… Глеб… Ведь это было так давно!.. Милый, глупый Глеб!.. Такой он большой и родной, а такой глупый!.. Вот он промелькнул, и – не жалко. Ой, как далеко!.. Лиловые глубины, и сосенка, и – огненный дождь в весенних деревьях…
Опять где-то рядом шоркнула веревка, и опять – тяжелая рука навалилась на плечо.
Она шла обратно. Впереди нависал пластатый утес в капели, а за ним дымились заросли леса, а за лесом, в воздушной глубине, до самого неба взлетала зеленая гора.
Полковник смотрел навстречу Даше пристально, исподлобья и улыбался усами.
Кроме нее и этого человека на коне, никого не было.
– Молодец, стриженая!.. Этот номер у тебя вышел недурно. Особенно здорово, что ты женщина. Можешь идти… Тебя не тронет никакая собака.
Он с размаху ударил нагайкой коня. Екнула селезенка, и лошадь в два прыжка исчезла в кустах.
3. Цыпленок дутый
Даша не помнила, как вышла из ущелья. Только одно осталось в памяти, ярко и радостно: серенькие птички-хохлатки на дороге. Упорхнут вперед и – опять купаются в пыли. Поднимут у нее хохолки, пикнут и – упорхнут.
Но как только распахнулась перед ней предгорная ширь с пологими увалами и долинами, ей стало страшно. Одинокая, беззащитная среди этой пустыни, она только сейчас почувствовала тот слепой ужас, когда теряешь рассудок, когда безумно хочется бежать с отчаянной надеждой спастись от гибели. Спрятаться бы где-нибудь под кустарником или провалиться в неожиданную яму заросшую бурьяном, чтобы дождаться мирных людей, которые пойдут или поедут по шляху… Но всюду было пусто и безжизненно. Ей казалось, что позади цокали копыта – множество копыт, – и она бежала изо всех сил, задыхаясь от страха. Она оглядывалась, но на дороге никого не было. И когда останавливалась, изнемогая от усталости, топот копыт обрывался и ее охватывала звенящая тишина.
Позади одна за другой громоздились горы, в обрывах, скалах и зеленых склонах; широкими провалами чернели ущелья, мохнатые от дремучих лесов.
Вдали, за волнами холмов, на высоком взгорье волновалась в мареве станица и белела столбом колокольня с одним черным глазом наверху. А за станицей, за взгорьем туманно зубрилась гряда горных хребтов.
Кое-как Даша поднялась на холм. Станица издали казалась безлюдной и угрюмой. Она была слепая, но видела степными глазами, как волчица. Это она, бородатая, папашная, наложила на нее страшную руку Байстрюка.
Даша споткнулась о камень и упала в дорожную пыль. Очнулась она от боли в коленке. Похрамывая, отошла в сторону и села на траву, около пашни.
Высоко над головою – синее небо и облака, а кругом – дымные холмы и тишина необъятных далей.
Вправо и влево зеленела молоденькая трава, прозрачная, с золотой пылью, и горели желтые цветочки одуванчика – маленькие, недавние, как цыплята. Они шевелились и смеялись, такие хорошенькие и родненькие…
И как только увидела Даша эти цветочки, она вскрикнула и захлебнулась слезами. Потом сразу же успокоилась, замолчала, но встать не могла: не было сил. Она отлежалась немножко, опять встала и пошла, прихрамывая, но не по дороге, а по траве.
И тут впервые услышала жаворонка. Она поглядела на прозрачные перышки облаков, вздохнула и улыбнулась.
Галопом вынырнули из-за холма и загрохотали копытами конные красноармейцы с винтовками за плечами. Впереди во весь опор мчался смуглый человек в черной коже.
Красноармейцы издали кричали вразнобой и махали руками.
Даша тоже закричала и побежала навстречу Бадьину.
Бадьин осадил коня и на бегу соскочил с седла.
– Даша!
Она обеими руками схватила руку Бадьина, засмеялась и за плакала.
Их окружили красноармейцы и вперебой кричали не поймешь что.
Один из верховых долго смотрел на нее (скуластый, большеротый, с глазами далеко подо лбом), потом так же молча слез с лошади и положил руку на ее плечо.
– Товарищ!.. Вот – конь… Садись… Давай подсажу…
Даша опять засмеялась, поймала руку красноармейца и так же крепко пожала ее, как руку Бадьина.
– Спасибо, товарищи!.. Я не знаю… какие вы хорошие!.. Из-за меня погнали целый полк…
Красноармейцы, сдерживая коней, весело смотрели на нее. А большеротый посадил ее в седло, сдернул стремя с ноги другого красноармейца и вспрыгнул на круп его лошади.
Бадьин ехал рядом с Дашей и всю дорогу заботливо поддерживал ее на кручах, пробовал подпруги, узду и поводья. От этой его заботливости Даша улыбнулась ему благодарно.
– Ну, так что же было с тобой? Рассказывай…
– Да ничего, товарищ Бадьин… Ну, покочевряжились и бросили. С бабами им, что ли, валандаться? Отшили, и – все…
А Бадьин пытливо смотрел на нее знающими глазами и мягко улыбался {такой улыбки еще никто не видел у предисполкома). И до самой станицы ехал рядом с нею нога об ногу и все заботливо трогал седло – крепко ли сидит Даша.
У волисполкома, на площади перед церковью, стояли табором телеги. Лошади мотали хвостами, коровы вертели рогатыми мордами. Базарно толпились и орали казаки, выли и кричали женщины. Мальчишки в папахах и без папах гоняли коники и играли в чехарду. И где-то близко – не то на дворе исполкома, не то в толпе – пьяный голос хрипло надрывался:
Цып-ле-нок дутый…
На-гой, ра-зу-тый…
Голос стонал, задыхался, а все-таки выкрикивал одни и те же слова.
Борщий в черкеске, с кинжалом, сидел за столом и старательно скрипел пером по бумаге. Он встретил Дашу нагловатыми глазами и засмеялся.
– Ага, счастье твое, что смерть оказалась с норовом…
Бадьин молодо подошел к столу и сел на стул.
– Товарищ Борщий, потребуй сюда Салтанова.
Борщий упруго, по-женски стройно, подбежал к двери.
– Товарищ Салтанов, предисполком требует.
И с прежней грацией возвратился на место.
Вошёл Салтанов и стал у стола. Бадьин холодно, сквозь зубы, сказал, пристально глядя на него исподлобья.
– Товарищ Салтанов, ты отстранён от исполнения порученного тебе задания и арестован. Завтра вместе с Борщием отправитесь в город. Я передаю дело в ревтрибунал.
Салтанов приложил ладонь к картузу и вытянулся, глядя на Бадьина выпученными глазами.
– Я выполнил строго и точно все директивы…
Бадьин отвернулся и молча взглянул на шапку Борщия.
– Товарищ Борщий, ликвидируй всю эту музыку. Сделай так, чтобы использовать этот факт в нашу пользу. Враждебное настроение должно быть сломлено коренным образом. Пойдем на площадь.
И когда шли трое – Бадьин, Борщий и Даша – к возам, казаки в папахах, мужики и бабы глядели на них провалившимися глазами. Возы стояли здесь целые сутки, а около них толпились мужики. Ночью они сидели у костров, как цыгане. Бадьин вспрыгнул на телегу и оглядел толпу.
– Граждане казаки и крестьяне!..
Бабы закликали и завизжали около возов и заглушили его слова.
Борщий тоже прыгнул на телегу, взмахнул рукою и крикнул по-армейски;
– Да мовчать же, бисовы жинки!.. Слухай, шо буде балакаты выщий предисполком… Не регочить же, граждане, бо нема ще горилки… А коли вона буде – тоди рак в барабан заграе…
Этот окрик Борщия (о, Борщий – свой, станишный казак!) угомонил толпу.
– Граждане казаки! За незаконные действия начальник окружной милиции мною арестован. Запрягайте лошадей и отправляйтесь со своим добром по домам. Дополнительная норма разверстки, которая наложена на вас, по распоряжению власти, для Красной Армии, для ваших же сынов, которые бьются с панами и генералами, будет с вас снята. Я вам говорю прямо. Не о войне теперь наша забота… Мы не хотим, чтобы поля поливались кровью. Наша забота о народном хозяйстве. Но не наша вина, а наша беда, если паны и генералы ни на час не дают нам спокойного вздоха. Не о крови забота, а о земле. Не о людях для боя, а о работниках для полей, о худобе, о мирном труде… Не продразверстка – она отменяется, она не будет, вы о ней не услышите больше! – но амбары, полные хлеба, распашка всех ваших угодий… Товары для станиц и деревень… свободная торговля право на труд и на отдых.
Бадьин говорил о продналоге, о кооперации, о демобилизации Красной Армии, о железе, о мануфактуре, о бакалее. И тут же крикнул о товарище Ленине, который всю свою жизнь отдал рабочему и крестьянину.
Бадьин вскинул рукой и еще хотел что-то сказать, но толпа заволновалась, закричала, заликовала… Люди полезли на возы и к преду с радостными лицами.
И когда все успокоились и отхлынули, когда заскрипели возы, Борщий добродушно сказал Бадьину:
– Так что прошу, товарищ Бадьин, освободить из-под ареста товарища Салтанова. Побесились и – баста. Оба стоим друг друга.
Бадьин холодно ответил:
– Товарищ Борщий, всякая склока и ошибки ответработников должны служить уроком не только для них самих, но и для других товарищей. Будет сделано так, как я сказал. Сдай дела надежному товарищу. Завтра выедешь со мною в город.
Около них, качаясь на согнутых ногах, пьяненький казак, размахивая шапкой и надрываясь, выкрикивал, как малохольный:
Цыпленок ду-тый,
Нагой, разу-тый,
Пошел на площадь погулять…
Его поймали,
Арестовали…
…Вечером Даша была у женщин. Был с ней и Бадьин. Баб было много на радостный день. Даша успешно выполнила задание. Ох, со станичными бабами работа – самое проклятое дело!..
И никогда Даша не видела Бадьина таким, как в этот вечер. Когда она встречалась с ним взглядом, вспыхивали в памяти золотые одуванчики при дороге. И в этих его глазах видела Даша немой восторг и неугасаюший огонь любви к ней. Вплоть до самого сна он не отходил от нее ни на шаг, пристальный от заботливой ласки – покорный, укрощенный и мягкий. И Даше было почему-то смешно: чувствовала, что Бадьин опустошен, что сила его перелилась в нее, в Дашу: стоит ей приказать Бадьину, и он покорно выполнит все, чего она захочет.








