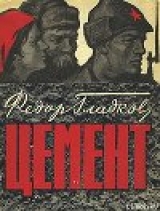
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
2. Рождение в силу
И в этот лиловый вечер она рассказала Глебу о своих злоключениях, о том, как она научилась бороться, как нашла свою дорогу к счастью.
…Отлежался Глеб от побоев на чердаке, у мышей и пауков, и ушел однажды ночью в горы: там, в ущельях и лесах, засели красно-зеленые.
Знала Даша, что уходит от нее Глеб, может быть, навсегда, и отрывалась от него, как от мертвого. Рыдала у него на груди без стонов и крика и долго не отпускала его от себя. И когда он ушел в глухую ночь, не зажгла она огня и прометалась с Нюркой на руках до утренних проталин в окне. С тех пор дни и ночи стали жуткими, как кошмар.
Очнулась она от этой полужизни так же внезапно, как и замерла.
С грохотом, с армейским гиканьем, с винтовками и револьверами вломились к ней офицеры с солдатами, окружили ее и сразу из нескольких глоток:
– Где муж?..
Задрожала она впервые, потому что впервые сковал ее ужас. Корчилась и ревела на руках Нюрка, но она, как глухая, не слышала ее криков.
– Говори, где твой муж… Мы знаем, что он был здесь. Ты не строй, пожалуйста, невинных глаз и не изображай цацу…
– А почем я знаю, где муж? Вы лучше знаете… Вы же его утащили…
И не плакала Даша, только синяя была, и глаза светились насквозь, как стекляшки.
Один из офицеров, молодой, почти мальчик, остренький и злой, вставал и садился, курил беспрестанно, не сводил с нее глаз и орал:
– Ну, ты не ври так нахально… Ты – знаешь!.. Очень хорошо знаешь!.. Ты от меня не отвертишься…
И сразу оборвал ударом кулака о стол.
– Ты сейчас будешь арестована, и мы тебя немедленно расстреляем за мужа. Говори, а очков не втирай!
А она стояла, застывшая и тупая, и едва шевелила губами:
– Да откуда ж я знаю? Ваша власть – убивайте. Вы же видите: я – одна. Зачем вы меня мучаете?
Офицер помолчал и опять пристально взглянул на Дашу, Увидел ли он муку в ее глазах или в Нюркиных криках услышал укор, – быстро встал со стула.
– Произвести тщательный обыск! Обращать внимание на всякую мелочь.
Он посадил ее между двумя бородатыми солдатами, и до утра рылись другие солдаты во всех углах, щелках и тряпках.
– Утек вовремя, сволочь…
Утром потные и измятые напрасной работой солдаты потащили ее с Нюркой на завод, на дачи. И там, в подвале, в грудах людей, чужих, угарных и всклоченных предсмертной горячкой, просидела она нелюдимо до полудня. Кто-то из этих людей – не один, а много – говорил с ней, а о чем говорил – ни слова не помнит.
А в полдень вывели ее из подвала, и тот же офицер посмотрел на нее остренько, вприщурку.
– Ну, так где же твой муж, молодка? Ты не отпирайся – все равно не выпустим отсюда до тех пор, пока не скажешь. Если он и надежном месте, так зачем же ты страдаешь? Не запирайся! Ведь бесполезно же, черт возьми.
А она, готовая упасть от изнеможения и тоски, лепетала:
– Как я могу знать, где он? Это вы мне скажите, куда его дели…
Кто-то позади брезгливо промямлил:
– Да брось ты ее к черту, полковник!.. Разве не видишь, что она очумела от страха?
А полковник, постукивая папиросой о портсигар, вдруг улыбнулся.
– Я тебя расстреляю за упрямство… Это у нас быстро. Не удастся тебе разыграть дурочку…
– Ну и стреляйте… Ну и что ж… ну и что ж…
И впервые заплакала надрывно и визгливо.
– Вы же его растерзали!.. Вы же!.. Растерзайте и меня… И меня и Нюрку… и меня и Нюрку… заодно уж.
Очнулась она на улице от солнца. Шла она по ослепительному шоссе. Впереди – завод, а вон дальше, на взгорье, – рабочий поселок, и видна издали красная крыша, где осталась пустой ее комната.
Ну и опять зажила одна. Сдружилась с Мотей Савчук и проводила с ней целые дни.
Часто сидела она на своем крылечке, слушала, как звенели ручьи в ущелье, и думала о Глебе: где он? жив ли? придет ли к ней когда-нибудь из безвестности?
Однажды днем, когда таяли в мареве горы, сидела Даша на приступочке и штопала тряпки, а Нюрка играла с котенком рядом, на цементной площадке дворика. Кричали цикады, и далеко, над морем, за аркадами завода, вспыхивали в воздухе чайки.
Шел мимо усатый солдат в обмотках (разве мало ходит солдат мимо ее ограды?). Он подошел к заборчику и облокотился о столбик.
– Даша, сиди, не пужайся!.. Вести – от Глеба… Мигом подбери бумажку… вот! Ожидай меня сегодня вечером.
И ушел. Только приметила: шматками пакли – усы, шматками пакли – брови.
Хотела она слететь с крылечка к забору, но солдат обернулся, и шматки пакли упали на глаза. Поняла – надо было ждать, когда он уйдет развалистым шагом под гору. Но она ласково приказала Нюрке:
– Иди сюда, к маме, Нюселька!.. Скорее, скорее!.. Подними вон ту бумажку, принеси ее маме. Вот так… Иди к маме на ручки с бумажкой…. Скорее, скорее!..
И Нюрка заковыляла к бумажке, зажала ее в кулачок и, довольная, побежала к матери.
– Мама, на!.. на!..
Даша с оглядкой развернула бумажку и прочла (разве так может писать кто-нибудь, кроме Глеба?):
«Голубушка, я жив и здоров. Береги себя и дочку… Это сейчас сожги, а Ефим расскажет тебе все, что надо».
…Глеб, милый, родной! Если ты жив, здоров и благополучен – о ней беспокоиться нечего: она, Даша, тоже бодра и радостна.
А ночью пришел Ефим, пахнущий горами и лесом, и Даше чудилось, что не лесом он пахнет – а Глебом. Во тьме комнаты, у окна (только с неба капали звезды), сидела Даша рядом с Ефимом и дрожала от радости и любви к Глебу. А Ефим хриплым махорочным шепотом, с револьвером в руках, сразу же начал о деле:
– Ты помогай нам, Даша. Скажу прямо: Глеб пошел через белые силы до Красной Армии. Не болей сердцем: дойдет обязательно. Но не о нем разговор…
Даша дрожала и бормотала косноязычно:
– А может быть… скажи мне, товарищ Ефим!.. Вдруг он сгибнет… вдруг попадет в капкан?.. Ведь он же – один… а кругом – звери…
– Не о нем разговор, повторяю. Глеб наказал тебе: держися и помогай нам. Такое зыбучее время… Я буду всегда у тебя на виду. Ты же будешь наша зеленая баба. Вникай. Будут заданья для всей зеленой братвы. Значит, и для Глеба. Пущай наша братва будет тебе в течение время – за мужа. Помни. Гарнизуй зеленых всех вдов в хорошую силу. Иди сама по продовольственной части в заводской кооператив. Мы это устроим разом.
– А как же… а как же дочка моя?.. Нюрочка как же?..
– Сдай на руки доброй бабе. Нюрка от тебя воробцом не уфыркнет. Говори, что еще хочешь сказать…
Даша дрожала и только с трудом смогла вымолвить нужное слово:
– Товарищ Ефим, может быть, Глеб сейчас идет один… один меж зверей… и каждый час его караулит смерть… Ежели Глеб сам выбрал эту дорогу – я тоже, за ним, по этой же дороге…
Ефим усмехнулся во мраке, и рука его ласково потрепала ее по коленке.
– Хорошая баба… знаю… Заранее говорю: опасно. Но ты – не одна: ты – наша. У нас тоже дюжие руки…
И ушел так же неслышно и невидно, как и явился.
Нюрку сдала она на руки Моте за паек, и Мотя с охотой взяла к себе девочку. Хорошая баба Мотя, хорошая подруга, и Нюрка жила у нее, как у матери.
Стала Даша работать в кооперативной пекарне. Часто приходили к ней каменоломы и по бумажкам брали хлеб для «рабочих на горных стройках».
Каждый день захаживала она в гости к «зеленым вдовам». Половина из них были мешочницы. Одни проклинали бежавших мужей, сходились с другими и скоро забывали о прежних. Другие кормились стиркой белья на офицеров. Сбила она их около себя и дала им работу: в горы ходить на передачу зеленым одежды, обуви и всяких бумаг от разных нужных людей.
Особенно сдружилась Даша с тремя женщинами. Самая молодая из них была Фимка (девка-невеста, а брат Петро – в зеленых), нежным видом под барышню. Самая пожилая – Домаха, широкая костью, рыжая, с тремя ревущими детишками. Лизавета была бездетная молодка, с высокой грудью и жарким румянцем. Фимка была покорна и ласкова: она не отказывала ни мужику по бабьему делу, ни бабе по части продуктов. Домаха была сварлива и ненавидела всех за свои лишения. А Лизавета была гордой с людьми, молчаливой и недоступной. Вот кого сбила в кулак Даша: только с ними она и проводила свободные часы.
Приходил глухими ночами Ефим, бил револьвером по коленке.
– Знайте, товарищи-бабы, один верный закон: молчи, убей в себе всякую память. Прищеми язык свой зубами. Язык – самое проклятое мясо – человечий хвост. Накрыли, примером, и схапали – язык откуси и выплюнь. Вникай! Язык не поднимет горы, а слизнуть может целую крепость.
Вот кто был первый их учитель и друг.
Так прожила она около года. И за этот год она как будто родилась заново. Старая домашняя жизнь казалась ей уже обидно ничтожной и унизительной: к ней бы она никогда уж не возвратилась. А работа с женщинами и связь с зелеными вооружили ее и опытом и новыми мыслями.
Однажды утром, когда Даша была за прилавком, – а утро было ядреное, солнечное, – растолкали толпу офицеры с ружьями и ворвались в пекарню. Люди в страхе разбежались в разные стороны. А ее посадили на грузовик, в кучу офицеров, умчали на дачу – туда, где она была когда-то с Нюркой – и бросили в тот же подвал. И опять грудами лежали и сидели там люди, и опять все были ей чужие, – все – измученные и полубезумные от ожидания смерти.
Много думала она, как держаться, как не допустить себя до слабости. Через все могла пройти – через муки и, может быть, через смерть, – но переступить через Нюрку, вырвать ее из сердца не могла.
В плесенной мгле увидела она усы и брови, как шматки пакли. Ефим не узнавал ее, и она поняла: нельзя и виду показывать, что знает его. Недалеко, в куче людей, рыдала Фимка, а рядом с нею сидел ее братишка Петро, с мальчишечьими щеками, покрытыми пухом. Он гладил ее по волосам, по спине и что-то шептал. Лицо у него было как у отравленного.
И тут впервые узнала Даша ужас человеческих мук.
Потащили сначала Ефима, а вслед за ним – её. Тот же молодой полковник посмотрел на нее – сразу признал.
– А, опять ты угодила к нам в гости?.. Ну, теперь не уйдешь отсюда. Ну-ка, как ты кормила зеленых? Что ж ты врала, что не знаешь, где твой муж?
Даша притворилась дурочкой.
– Почем я знаю, где мой муж? Сами же его угробили, а теперь приплетаете мне зеленых…
– Это мы сейчас проверим. Отвести ее в кухню и покормить хорошенько!
Уволокли ее в другой, малый подвал. На полу было какое-то грозное месиво и смердело труппой гнилью. Голый, весь в крови, лежал на полу человек. Двое дюжих казаков, хрипя и рыча, молотили его шомполами.
Кто-то обжег ее огнем по спине.
– Рраз, рраз!.. Вот тебе, сволочь!.. Покажи этой стерве красавца…
Ей стало дурно, и она едва не свалилась с ног. Кое-как взяла себя в руки и простонала:
– Зачем вы меня мучаете?.. За что?..
– Покруче жарьте этого гуся!..
Опять замолотили Ефима шомполами, а он лежал пластом, крутил головою и молчал. И почуяла Даша великую силу и муку в этом его молчании. Только теперь поняла она, что значит выдержка: свое молчание она обязана нести как долг. Вот Ефим весь истерзан пытками, но они для него – ничто в сравнении с той великой тайной, которая защищает кровное дело революции и его самого возвышает как могучего борца.
– А ну, говори, чертова кукла, какие ты шашни имела с этим прохвостом? Скажешь – и мы его больше не тронем, а ты будешь свободна.
– Ничего я не знаю… Мне самой до себя… Что вы издеваетесь, звери?..
И опять насквозь прожег ее невыносимый огонь. Запеклось у ней сердце, и она закричала пронзительно:
– Да что же я вам сделала? За что же вы меня бьете?
– Говори!.. Иначе с тобой будет то же… Выбирай!..
И тут догадалась она: эти люди ничего не знают про нее – нет у них фактов. Взяли же ее так, по подозрению или по наговорам. Ни Домахи, ни Лизаветы здесь нет. А Фимка? Фимка – другое: за брата. Должно быть, накрыли его в ее комнате: он ведь часто заходил к ней по ночам.
– Мне нечего говорить… Что я скажу?.. Я живу одна и никому не мешаю…
– Еще поддай дяде лапши, так его, этак… Бей!.. Сильней! чтоб захрюкал и поел киселя…
Тело Ефима уже мертво лежало в грязи и вздрагивало остывающей судорогой. А казаки утомленно шлепали по кровавому мясу, и от шомполов отлетали тягучие брызги.
Мимо Даши кубарем полетел братишка Фимки – Петро. С животным страхом в глазах он вскочил на ноги, поскользнулся, упал, опять вскочил и побежал по кровавой грязи, шлепая босыми ногами. За ним с шомполами бросились два казака. Петре страшно заревел и со всего размаху ударился о стенку.
Безумными глазами глядела Даша на пытку товарищей и, немая, не могла оторвать от них взгляда. Смотрела и не видела ничего, кроме крови.
Пришла она в себя в той светлой комнате, где сидел и курил полковник, морщась от дыма.
– Ну что, молодка, понравилась наша кухня? А теперь давай побеседуем…
– Я ничего не знаю… Лучше не терзайте напрасно.
– И того парня не знаешь, и эту девку?
– Фимку я знаю и Петра… Я их знала еще малыми детьми…
Двое офицеров что-то зашептали ему в ухо. Он сначала нахмурился, а потом дернул щекою.
– Она за нами, полковник.
И, гримасничая, они направились к ней.
Она бросилась в угол комнаты и замахала руками.
– Не надо!.. Не надо!.. Лучше умру… лучше убейте сейчас же.
Полковник поднял руку и усмехнулся.
– Ну, хорошо… Этого не будет, если ты скажешь правду. Подойди сюда и рассказывай.
– Я ничего не знаю… ничего!.. Как вам не стыдно?..
Полковник откинулся на спинку стула и ехидно прищурился.
Оба офицера подхватили ее под мышки и уволокли в другую комнату.
…До полуночи лежала она, полумертвая, в подвале, с голыми ногами и грудью. Как бросили ее, так и осталась. Подползала к ней Фимка, стонала, стукаясь головою об ее грудь, и опять уползала. Два раза мерещилась Нюрка: топочет ножками, визжит, радуется… Даша тянулась к ней, кричала от страха и отвращения:
– Не надо!.. Ой, не надо же, Нюрочка… не надо!..
А потом, до последнего часа, Нюрка совсем не вспоминалась, будто была образом потухшего сна.
После полуночи – тоже помнит, как сквозь сон, – она очнулась от грохота грузовика. Сидела она на полу деревянного короба, а рядом с нею лежали и сидели немые люди. Узнала Фимку, Петра и Ефима. Вокруг стояли казаки с винтовками в руках.
И только одно ярко осталось в памяти – разноцветные искры звезд, и звезды были очень близко – на взмах руки.
Знала, что это – смерть: вот остановится машина, вышвырнут их на землю, отведут к морю на песок, и пулями разорвут ей грудь. Знала это, и сердце таяло у нее, как кусок льда. И не было ужаса. Казалось, что это не явь была, а обычный, скудный движением сон, в который не веришь, когда видишь, и знаешь, что эти образы скоро погаснут. И опять мерещилась Нюрка: бежала к ней с растопыренными ручонками и с одним коротким криком – ай!..
Тряслись мертвецами лежавшие товарищи: и Ефим, и Фимка, и Петро. И не было ей жалко никого, потому что в груди было не сердце, а кусок льда.
Когда остановилась машина, ее столкнули на землю. Около нее стала Фимка. Она дрожала в ознобе, хватала Дашу за платье и прижималась к ней, как ребенок. Ефим лежал мертвецом у их ног. Петро же топтался на месте, исковерканный поркой, крутил головой (лицо было черное от крови), мычал и сплевывал слюну.
Даша торопливо, сердито – точно не она, а кто-то другой – прошептала на ухо Фимке:
– Молчи и молчи… молчи и молчи… слепая, немая… молчи…
Почудилось, будто навалилась на нее большая толпа и отбросила в сторону.
Это четверо казаков толкнули ружьями Фимку и Петра.
И когда отошли немного, Фимка вдруг закричала и забилась птицей. Рванулась назад и замахала руками.
– Даша, моя родненькая Даша!.. Что же они со мною делают, Даша!..
Ее подтолкнули и заматерились, а она завизжала, забилась и упала на песок. Ее дернули за руки и опять поставили на ноги, Она прошла молча еще несколько шагов, потом опять остановилась и озабоченно крикнула:
– Да!.. Что я сделала?.. Я ж забыла шаль на ахтанабиле..
Но ее подхватили под руки и потащили во тьму.
Там, впереди, на песчаной косе, где море черной пашней уходило во мрак, видела Даша только мутные тени, и тени эти будто пьяно плясали на одном месте.
И опять метнулся визгливый крик Фимки:
– Не хочу, не завязывайте!.. Своими глазами хочу взглянуть на мою молодую смерть…
И вплоть до залпа не переставала кричать:
– Хочу… своими глазами хочу!..
И когда грохнули выстрелы, Даше казалось, что крики Фимки еще долго носились над морем. К Даше подошла упругая тень.
– В последний раз: укажи, кто орудует вместе с зелеными. Я даю тебе слово немедленно отпустить тебя домой. Или – вот… видишь? То же будет с тобой.
И так же, как раньше, Даша ответила тупо:
– Я ничего не знаю… ничего… ничего.
– Хорошо… Забирайте этого гуся!
Поволокли Ефима, и слышала Даша не залп, а только один выстрел.
И опять подошел упругий офицер.
– Даю полминуты…
– Ну, стреляйте… стреляйте… только не мучьте…
Чувствовала – пройдет еще мгновение, и она упадет и забьется, как Фимка.
Ее подхватили и бросили куда-то вверх. Она больно ударилась головою о железо.
Опять забарабанила машина, и опять вверху, очень близко, на взмах руки, звенели золотыми каплями звезды, а над горами огненным туманом горело небо.
Потом ввели ее в ту же комнату, где допрашивали, и тот же полковник, не глядя на нее, отчетливо и лениво сказал:
– За тебя поручился инженер Клейст. Мы верим не тебе, а инженеру Клейсту. Можешь идти. Но знай: попадешься – уж домой больше не воротишься. И еще знай: здесь с тобой не было ничего. И твои глаза не видели ничего. А если твой язык сбрехнет что-нибудь не под час, с тобою будет то же, что с этими собаками. Ну, убирай свои ноги – марш!
Никому ничего не рассказывала Даша, а слова научилась говорить кстати и к делу. Дома была только по ночам. Комната зашелудивела, и углы зацвели паутиной и пылью. Повяли и засохли цветочки на оконце, побледнело лицо, глаза стали холодными и прозрачными. Пропадала у Моти, у хорошей подруги, у приветной домашней бабы. Подружилась с Савчуком, подружилась с Громадой и подолгу сидела с горбатым Лошаком. Готовились незаметно к встрече Красной Армии. И Лошака, и Громаду, и Савчука завербовала она в свое тайное дело. Раньше они спали по ночам, а днем смотрели на горы. Теперь по ночам они страдали бессонницей, а днем притворялись слепыми.
С немым вопросом в глазах приходили солдаты. Поглядеть со стороны – дурака валять приходили, поиграть со вдовой молодой приходили. Придут раз-два, потом пропадают, а вместо них – новые. А куда пропадали прежние – ничего не могли сказать людям ясные глаза Даши.
В порту стояли английские корабли – грузили несметные толпы бегущих с севера богатых и знатных.
Откуда-то далеко из-за гор глухим подземным громом рокотала земля, и по ночам от этого необъятного грома огнем капали с неба звезды.
…И в весенне-горячее утро, когда море нельзя было отделить от неба, а воздух – от цветущих деревьев, – по смрадному мусору, между трупами лошадей и людей, сквозь ужас панической смерти, – прошла Даша в красной повязке в город искать коммунистов. Шла одна, когда обыватели и рабочие, еще ошалелые, не решались выходить из конур. Шла Даша, и глаза ее и повязка горели счастьем и гордостью.
Попадались навстречу конные красноармейцы с красными бантами на гимнастерках, и эти банты издали цвели пышными маками. Она смотрела на бойцов и смеялась, а они взмахивали руками, тоже смеялись и кричали:
– Ура – красной повязке!.. Женщине красной – ура!..
…Глеб подавленный, лежал неподвижно на коленях Даши и долго не мог вымолвить слова. Вот она, его Даша… Сидит около него, как родная жена: тот же голос, то же лицо, так же бьется, как раньше, ее сердце. Но нет той Даши, которая была три года назад: та Даша ушла от него навсегда.
И волна невыразимой любви к ней потрясла его болью. Он обхватил ее дрожащими руками и, задыхаясь, борясь со слезами застонал от ярости, бессилия к нежности к ней.
– Даша, голубка!.. Если бы был я здесь в эти дни!.. Если бы я знал!.. Мое сердце лопается, Даша… Зачем ты мне это сказала? Что я могу сделать с собою?.. Сейчас я как раненый, Даша… Как я могу пережить все это?.. Я и ты – ты… и офицеры… Даша! Между нами была смерть… А ты – живая… Ты пошла сама, и у тебя своя дорога борьбы… Но я… Я с ума схожу… Помоги мне понять, Даша…
– Глеб, какой ты хороший!.. Какой ты родной!..
И до ночи сидели они, как не сидели никогда с первых дней женитьбы.
XI. УЩЕМЛЕНИЕ
1. Хозяйские руки
Глеб до рассвета ходил по городу и лично руководил работой отряда. По улицам стояли с винтовками за плечами зоркие немые фигуры рабочих. По мостовым проходили отряды патрулей. Небо пылилось звездами, и они дрожали весенней капелью.
Жук тоже стоял в карауле. Это был уже не праздный соглядатай, не крикун-обличитель, а дисциплинированный солдат. Когда Глеб подошел к нему, он твердо держал винтовку. Через открытые двери особняка из глубины вырывались на улицу истерические крики женщины.
– Кто здесь работает, Жук?
– Тут – твоя жинка с Савчуком, товарищ Ивагин и двое чекистов. Зайди полюбуйся, как разворачивают буржуазию… Ударная работа!..
– Ну, как твои успехи в совнархозе, Жук?
– Хо-хо, друг!.. Сходи в гости к Чибису… Я бы сей день всех к стенке поставил. До чего же все сукины дети и глотыри! А Шрамма я все-таки раскрою – не я буду…
В стеклянном коридоре, в рассветном сумраке, стоял красноармеец с винтовкой, и в открытую дверь видно было, как корчилась раскосмаченная женщина на диване и рыдала, ломая руки.
Глеб вошел, но военной привычке, уверенно. Он оглядел внимательно стены, вещи, людей: не допущено ли какой грубости и оскорбления хозяевам? не пропустили ли ребята чего-нибудь важного в этом богатом и подозрительном доме?
– Ну как, товарищи? Никаких эксцессов? Делайте так, чтобы хозяева не предъявляли никаких претензий на ваше поведение.
Женщина в халате с ужасом глядела на людей с винтовками и на людей, которые раскрывали комоды, гардеробы и сундуки. К ее коленям прижималась маленькая голенастая девочка, с любопытством глазеющая на чужих людей, так внезапно и громко упавших из ночи.
Человек в подтяжках и туфлях, в золотом пенсне на носу, с длинной бородой винтом стоял растерянный, но одиноко важный у большого письменного стола и с судорожной усмешкой пожимал плечами.
Даша умелой рукой, как хозяйка, заботливо отбирала вещи и складывала на разостланные простыни и в дорожные корзины.
– Это – для детских домов… для детишек… для домов матмлада… Гляди, Глеб, сколько материи! Можно одеть сотню детей…
Савчук опустошал шкафы и комоды и ворчал:
– Вот, идоловы души, нагрохали всякого добра! Наши свинопасы клепали зажигалки и терли мешками горбы, а люди в этих хоромах жирели, как индюки. Ха, такая музыка – не балалайка, а портовая баржа (он почему-то сдвинул с места рояль).
Сергей стоял с винтовкой в руках: и не знал, что делать. В этом доме он бывал когда-то в дни юности. В прошлые годы адвокат Чирский был дружен с отцом. Социалист. Член Государственной думы всех созывов.
Сергей не глядел на него: боялся – вдруг подойдет к нему Чирский, протянет руку и заговорит с ним, как с близким человеком. Сергей делал вид, что не узнает его, и, до боли сжав зубы, старался быть твердым – таким, как товарищи, но чувствовал, что ноги его дрожат от предчувствия неизбежного скандала.
И то, что он считал ужасным и непоправимым, случилось просто и незаметно. Чирский смотрел на него в упор и кривил рот в брезгливую улыбку.
– Сергей Иванович, на нашем с вами языке это называлось когда-то разбоем. Отсюда вы пойдете, вероятно, к вашему отцу, Ивану Арсеньичу, и тоже будете производить подобную операцию. Там вы, очевидно, оставите папаше немного больше, чем здесь. Тут вы сдираете последние подштанники. Может быть, и мне по старой дружбе сделаете снисхождение?
А женщина протягивала к нему руки, и по обвислым щекам ее искорками ползли слезы.
– Сергей Иваныч… голубчик!.. Ведь вы были когда-то близки нам… Что вы делаете? Неужели это вы, Сергей Иваныч?
Стараясь быть невозмутимым и суровым, Сергей сжал до хруста в суставах винтовку и резко, со звоном в мозгу сказал, глядя мимо Чирского:
– Да, мой отец подвержен той же участи, что и вы. Так же, как и вы, он будет выдворен из дома и больше в него не возвратится.
И когда он сказал эти слова, стало вдруг легко, и человек, стоявший у стола, показался смешным в своем прошлом чванстве и важности.
– Так, так… Вы научились быть достаточно свирепым… Поздравляю!..
Даша нашла большую жирную куклу с совиными глазами и желтой шерстью на голове, улыбнулась и шагнула к девочке.
– Ах, какая замечательная кукла!.. Вот она бежит к тебе, крошка, – соскучилась… Какие вы славные обе!..
Она поставила куклу и повела ее, как живую. Девочка обрадовалась и схватила куклу в объятия.
Женщина злобно крикнула:
– Нина!.. Не смей!.. Ты видишь, они не стыдятся брать у тебя последнюю рубашонку… Брось им эту дрянь!..
А девочка, цепко прижимая куклу, бросилась на диван и закрыла ее своим тельцем.
– Моя кукла… моя!.. не дам!..
Даша нахмурила брови.
– Мадам, как вам не стыдно!..
Савчук сопел и ворчал. Он вытирал пот и волком глядел на людей и вещи.
– Вот идоловы души, сколь напхали!.. Такая работа хуже бондарного цеха… Будь оно проклято, сподручней работать на бремсберге…
Даша подошла к Глебу и деловито доложила:
– Все переписывается, Глеб. Изъято все, что надо… Из белья и одевки оставлено на две смены… Я решила изъять картины и книги (ох, этих книг, как черепиц на крыше!). Книги утром учтет и припечатает наробраз.
– Хорошо. Все остальное оставить на месте. Караул в два человека. Кончайте!
– Да мы уже кончили. Ожидаем подводы.
И Даша отошла с лицом строгой хозяйки. Глеб отвел Сергея в сторону.
– Где дом твоего старика? Я пойду к нему в гости.
Сергей не мог понять – шутил ли Глеб или издевался над ним. Он смущенно вскинул ремень винтовки на плечо.
– Я могу пойти с тобою, товарищ Чумалов: отсюда недалеко.
– Нет, тебе не годится, товарищ Ивагин. Старику будет тяжело.
Сергей крепко пожал руку Глеба и отвернулся.
В звездном рассвете голубели дома. С гор сугробами валились лавины тумана, и над заливом дымилась фиолетовая марь. Зачирикали утренние воробьи. И в стальном сумраке гор очень далеко и очень близко блуждали, гасли и опять зажигались таинственные факелы.
По верхней улице, размеренно отбивая шаг, походным порядком, в щетине штыков, плотными рядами шли красноармейцы. Шли они, должно быть, многими колоннами: необъятный шорох рокотал всюду – и над городом, и в пролетах домов, и по камням мостовой с хрустальным перезвоном катились телеги. Красная Армия, поход, боевая работа… Ведь это было так недавно! Родные ряды! Шлем Глеба еще не остыл от огня и походов. Лязгают штыки, сплетаясь в стройном движении. Почему он, военком, здесь, когда место свободно в этих рядах?..
Широким шагом, задыхаясь от волнения, он торопился к щтыкастым рядам, чтобы коснуться их упругого стройного потока и отдать им привет красного солдата. Но ряды оборвались и растаяли за углом, только двое красноармейцев один за другим, размахивая винтовками, догоняли товарищей.








