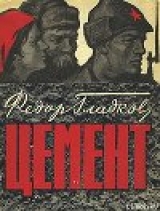
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Фёдор Гладков
ЦЕМЕНТ
«Я ЖИЛ И ДЫШАЛ ЭТОЙ БОРЬБОЙ…»
Отгремели громы гражданской войны, и советский народ с энтузиазмом перешел к хозяйственному строительству. Началась героическая битва на мирном фронте.
Главной задачей литературы социалистического реализма становится изображение великой созидательной работы, свободного труда советского человека.
В советской литературе к тому времени уже появились книги, посвященные теме труда. Завоевали народное признание классические произведения Маяковского, стихи Бедного, Безыменского и других поэтов. Что касается прозы, то здесь было сделано значительно меньше – объемный, художественно полноценный образ героя новой эпохи еще не был создан. А такой герои уже существовал в жизни, и читатель мечтал увидеть его в литературе. Федор Гладков первым из советских писателей откликнулся на этот зов времени.
Федор Васильевич Гладков (1883–1958), один из основоположников советской литературы, начал свою творческую деятельность задолго до Великой Октябрьской социалистической революции (первый его рассказ был напечатан в 1900 г.). Трудным было начало его жизненного пути, но именно оно определило основную тему его дореволюционного творчества. Бывшему нищему крестьянскому мальчонке из захудалой старообрядческой деревни Чернавка Саратовской губернии (ныне Пензенской области), ценой нечеловеческой борьбы за существование превратившегося в народного учителя и профессионального революционера, были близки и понятны страдания и чаяния простого народа. Свои произведения он посвящает жизни рабочего люда, крестьянской бедноты, каторжников, босяков. Самым значительным из них является рассказ «Пучина» (1916) – о неизбежности и закономерности роста революционного самосознания народа.
По свежим следам своего участия в революционных боях за Советскую власть и сражениях с белогвардейцами на Черноморском побережье Гладков пишет рассказ «Зеленя» (1921). отразивший события гражданской войны в казачьих станицах на Кубани.
Но по-настоящему талант Федора Гладкова раскрылся в романе «Цемент», напечатанном в 1925 году. О том времени, когда создавался роман, он говорил:
«Родились новые люди, зарождались новые формы быта, общественных отношении. Я жил и дышал этой борьбой, как рядовой партии и работник. И в этой борьбе впервые вспыхнула во мне новая система образов, я весь был захвачен поэмой «Цемент».
Роман «Цемент» явился первым большим произведением о героика хозяйственного строительства, созидательной силе социалистической революции, в котором по-новому был показан герой в его конкретном Деле, в его поступках, в героике и обыденности, небывалом размахе и богатстве его внутреннего мира.
А современность и своевременность романа были сразу отмечены А. М. Горьким. Он писал (23 августа 1925 года) Гладкову об огромном социально-историческом значении «Цемента»: «На мой взгляд, это очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема современности – труд. До Вас этой темы никто еще не коснулся с такой силой. И так умно».
Уже в самом заглавии выражен глубокий смысл романа: цемент – это символ несгибаемой воли партии коммунистов, которая цементирует, скрепляет, направляет живые, лучшие силы народа на победу и созидание.
Перед нами оживает целая эпоха народной жизни первой половины 20-х годов. Здесь и новая экономическая политика, и партийная чистка, и преодоление мелкобуржуазной стихии, и ломка старого и строительство нового быта, и привлечение к работе буржуазных специалистов, и процесс овладевания передовыми техническими знаниями, и борьба с вредительством и остатками белогвардейских банд.
Образ центрального героя романа – Глеба Чумалова, как и образы других героев, раскрывается в борьбе за жизнь завода, за его скорейшее восстановление. Этим прежде всего обусловлены единство, гармоническая цельность композиции «Цемента».
Узловыми моментами сюжета являются чаще всего массовые сцены. Показывая революционное мужество, благородство Глеба, автор нигде не противопоставляет своего героя рабочим. Глеб, революционер-коммунист, организует массы, ведет их за собою и в то же время наравне с ними участвует в общем деле. Это помогает ему всем своим существом почувствовать неотъемлемое и самое благородное качество рабочего человека – любовь к труду. Труд – святая святых, отнять его у рабочего – значит лишить жизнь всякого смысла.
– Понимаете, – говорил Гладков автору этой статьи, – на собственном опыте убедился, как сознание бездействия останавливает дыхание. Нечем дышать. Ложись и помирай… Страшное слово «безработица» – катастрофа, трагедия, разверзшаяся под ногами бездна…
С лирическим пафосом написана глубокая по смыслу финальная сцена романа: пуск восстановленного цементного завода. На торжественном митинге под грохот аплодисментов рабочие чествуют Глеба, называя его самоотверженным героем. Но Глеб, потрясенный радостью, не чувствует себя таковым:
«Что его жизнь, когда она – пылинка в этом океане человеческих жизней?.. Нет у него слов и нет жизни, отдельных от этих масс.
Он не помнил, что говорил. Ему казалось, что голос его был слабеньким, надрывным, глухим, а на самом деле слова его, усиленные эхом, гулко разносились по всему взгорью».
Это отнюдь не самоуничижение, а то высокое благородство скромности, которое вызвано чувством достоинства, гордым сознанием неразрывной связи с коллективом.
В образе Глеба Чумалова нашли свое отражение характерные черты передового рабочего первой половины 20-х годов. Именно поэтому роман стал достоянием читателей не только своего времени: широта и глубина обобщения обусловили ему долгую жизнь в литературе. Роман «Цемент» переведен на все языки Советского Союза и почти на все языки мира.
Однако сразу после выхода «Цемента» в свет вокруг него разгорелась острая полемика, характерная для сложной литературно-идейной обстановки тех лет.
Гладков стремился выразить в искусстве небывалые исторические сдвиги – события, по размаху, но силе, по содержанию знаменующие новую эру в мировой истории. Это новое сказалось во всем: в теме, в расстановке социальных сил, в выборе и характере героев, определяющих движение сюжета и композицию, а также в самом ритме, темпе произведения. Однако некоторые критики не хотели видеть этой новизны. Для них героико-романтический пафос «Цемента» был лишь «героическим штампом», литературным приемом, а Глеб трактовался как выдуманный, тенденциозный герой, якобы «перескакивающий» через трудности.
Одним из тех, кто дал сильный отпор критикам, не понявшим романа был А. В. Луначарский. Он неоднократно писал о «Цементе», называя его массивным, энергичным, первым пролетарским произведением, пронизанным духом нашего строительства, раскрывающим «почти в величественных формах» серию типичных событий и характеров периода восстановления и создания нашего социалистического хозяйства. В 1926 году в статье «Достижения нашего искусства» (журнал «Жизнь искусства», № 19) А. В. Луначарский сказал пророческие слова: «На этом цементном фундаменте можно строить и дальше».
На вопрос, заданный Гладкову в 1955 году, как он относился в свое время к полемике критиков, возникшей вокруг «Цемента», писатель ответил: «Ну, конечно, как все смертные, скорбел и терзался, когда меня хулили, не понимали, и ликовал, когда одобряли, хвалили. Но главное было не в этом: не только почти все время, но все эмоции уходили на яростную борьбу (и в устных выступлениях, и в прессе) за революционные принципы, за нового героя в жизни и литературе. Все «личное» отодвигалось на второй план.
Однако не думайте, что мы были аскетами: мы отличались чертовской жизнерадостностью и жизнеспособностью» (письмо к автору этой статьи от 8 июня 1955 года).
Социально-политическая обстановка того времени заставляла Гладкова бороться за свою тему, за своего героя и после выхода романа в свет. Молодая Страна Советов, восстанавливая разрушенное интервентами и белогвардейцами народное хозяйство, продолжала жить «лихорадкой борьбы», и Гладков горел в революционных боях с не меньшей силой, чем в гражданскую войну. Защищая свои принципы, он пишет в конце 1925 года (журнал «Журналист», 1925, № 10): «Подлинным писателем современности может быть только тот, кто способен не только объяснять ее, но и преображать, не только жить настоящим, но и уметь видеть будущее. Современный наш писатель неизбежно должен быть романтиком в революционном значении этого слова. Только такой художник и создает новую литературу».
И действительно, роман «Цемент» явился одной из основных вех на пути развития советской литературы. В годы первых пятилеток традиции «Цемента» нашли свое отражение в книгах, посвященных социалистическому преобразованию страны. Выдержав испытание временем, он продолжает жить и в паши дни – его традиции ощущаются во многих произведениях о коммунистическом строительстве, о рабочем классе.
…Более полувека прошло со дня выхода «Цемента» в свет. И вот в июльском номере журнала «Вопросы литературы» за 1975 год появилась неизвестная статья Луначарского[1]1
Эта статья в 1928 году была опубликована во французском журнале, редактируемом Анри Барбюсом. (Прим. авт.).
[Закрыть] (ее нет ни в собрании его сочинений, ни в библиографических справочниках), посвященная творчеству Эмиля Золя, где «Цемент» назван «одним из лучших коммунистических романов».
Коммунистический роман… Такого определении за все 50 лет не было ни в нашей, ни в зарубежной прессе. Оно звучит как призыв к дальнейшему изучению «Цемента», к раскрытию еще далеко не исчерпанной глубины идейно-эстетического содержания романа.
Б. Брайнина
I. ПУСТЫННЫЙ ЗАВОД
1. У порога гнезда
Так же, как три года назад, в этот утренний час раннего марта море за крышами казарм и аркадами завода кипело солнцем, а воздух между горами и морем был винный, в огненном блеске. И голубые трубы, и железобетонные корпуса завода, и рабочие домики Уютной Колонии, и ребра гор в медной окалине плавились в солнце и были льдисто-прозрачны.
Ничто не изменилось за эти три года. Дымные горы в отеках, оползнях, каменоломнях и скалах – такие лее, как были и в детстве. Издали видны знакомые разработки по склонам, бремсберги в камнях и кустарниках, мосты и лифты в узких ущельях. И завод внизу – тот же: целый город из куполов, башен и цилиндрических крыш, и та же Уютная Колония по склону горы, над заводом, с чахлыми акациями и двориками в две квадратных сажени у каждого крыльца.
Если войти в пролом бетонной стены, отделяющей заводскую территорию от городского предместья (была калитка, а теперь пролом), во второй казарме – квартира Глеба.
Сейчас встретит его жена Даша с дочкой Нюркой, вскрикнет и замрет на груди, потрясенная радостью. Даша не ждет его, и он не знает, что испытала она без него за эти три года. Нет в стране троп и дорог, не смоченных человеческой кровью: прошла ли здесь смерть только по улице, мимо рабочих конур, или в огне и вихре разметала и его гнездо?
За стеной, на пустыре, играли чумазые детишки, бродили пузатые козы со змеиными глазами и обгладывали кусты акаций.
А петухи изумленно вскидывали навстречу Глебу красные головы в сердитом окрике:
– Эт-то кто такой?
И сердцем слышал Глеб, что и горы в развалинах каменоломен, и трубы, и рабочий поселок гремят глубоким подземным грохотом…
С горы видно, как между каменными корпусами завода стекают вниз к морю, к пирсам, триумфальными арками, в виде гигантской буквы Н, бетонные устои канатной дороги. Струнами натянуты между ними стальные канаты с застывшими в полете вагонетками, и под ними – ржавая железная кисея предохранительной сетки. И там, на конце каботажа, над ажурной башней, – распластанные крылья электрического крана.
Хорошо! Опять – машины и труд. Новый труд – свободный труд, завоеванный борьбой – огнем и кровью. Хорошо!
Кричат вместе с детишками козы. Пахнет нашатырной прелью свиных закут. И всюду – бурьян и улочки, засоренные курами.
Почему – козы, свиньи и петухи? Раньше это строжайше запрещалось дирекцией.
Навстречу, по дорожке, шли гуськом из Уютной Колонии три бабы с барахлом под мышкой. Впереди – старуха, облика бабы-яги, а две позади – молодые: одна – пухлая, грудастая; у другой – глаза красные и веки красные, а на лицо козырьком натянут платок.
В старухе Глеб узнал жену слесаря Лошака; полногрудая – жинка слесаря Громады, а третья оказалась незнакомой.
Он козырнул в радостном волнении.
– Здравия желаю, товарищи женщины!
А они поглядели опасливо и обошли его. И только жена Громады весело огрызнулась:
– Ну, ну, проваливай мимо! Не наздравствуешься с каждым…
– Да что вы, бабы? Не узнали меня, что ли?
Старуха Лошака остановилась и басом сказала не ему, а себе:
– Да это ж – Глеб! Господи! С того света свалился…
И пошла спокойно, угрюмо своей дорогой.
А Громадиха засмеялась и ничего не сказала. Только издали, самой стены, оглянулась и затараторила:
– Торопись, Глеб Иванович, – беги! Поиграй в жмурки с своей Дашей… Найдешь – опять поженитесь.
Глеб поглядел на женщин и не узнал в них прежних приветливых соседок. Здорово, должно быть, потрепала жизнь заводских баб!
Та же оградка у дворика в две квадратных сажени, и тот же в улицу сортир будкой. Только покорежило ограду – и время и зимние норд-осты, – и сизая шелуха зашелудивила доски.
Вот сейчас с криком выбежит Даша. Как встретит она его, пришедшего из огня и смерти? Может быть, она считает его погибшим, а может быть, ждет его каждый день с того самого часа, когда он глухой ночью оставил ее одну с Нюркой в этой конуре?
Он бросил сумку на землю, а шинель на ограду. Постоял, вскинул руки вверх и в стороны, чтобы успокоиться, и вытер пот с лица рукавом гимнастерки.
И только что хотел подняться на крыльцо – дверь распахнулась.
Женщина в красной повязке, смуглая, густобровая, в мужской косоворотке, стояла в черном квадрате дверей и смотрела на него с изумлением. И когда она встретила улыбку Глеба, в глазах у нее вспыхнула испуганная радость.
Знакомый вздрагивающий подбородок, и чуть припухшие девичьи щеки, и яблочком нос, и поворот головы вбок при пристальном взгляде, и прежние упрямые брови – это она, Даша. А все остальное (что – не назовешь сразу) – чужое, не виданное в ней раньше никогда.
– Дашок, жинка!.. Родная! Ну!..
И бросился к ней, задыхаясь от бурного волнения.
А Даша как стала в дверях, на верхней ступеньке крылечка, так и застыла, только растерянно отмахнулась от Глеба, как от привидения. И тихо пролепетала, густо краснея:
– Это – ты… Ой, Гле-еб?.. Милый!..
А в глазах, в черной глубине, вспыхивал неосознанный страх. И как только обнял ее Глеб и впился в ее губы – сразу ослабела она и замерла до потери сознания.
– Ну вот… жива и здорова, голубка…
А она не могла от него оторваться и по-ребячьи лепетала:
– Ой, Гле-еб!.. Как же ты так… Я и не знала… Откуда же ты взялся?.. И так… неожиданно!
И смеялась, и прятала у него голову на груди. А он все прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, как вся она дрожит в неудержимом трепете.
Они отрывались друг от друга, опьяненно вглядывались в лица, в глаза, смеялись и опять бурно обнимались.
Глеб вскинул се на руки, как ребенка, и хотел унести в комнату, как бывало в первые дни женитьбы. Но Даша вырвалась и с лукавой усмешкой стала оправляться.
– Ух, как распалился!.. И я как сумасшедшая…
Причесывая гребенкой волосы и тяжело дыша, она пятилась от него к калитке. Но вдруг спохватилась и крикнула испуганно:
– Ой, опоздала!.. Бежать, бежать надо, Глеб!..
И уже серьезно, но еще взволнованно говорила:
– Зайди в завком и запишись на паек. Мне страшно некогда. Ах, Глеб… ах, товарищ!.. Даже не верится… совсем стал другой – новый… и родной и чужой.
– Что такое? Дашок!.. Ничего не пойму…
Даша уже стояла у калитки и улыбалась.
– Я обедаю в городе, в столовой нарпита, а хлеб получаю в парткоме. А ты зайди в завком, зарегистрируйся на хлебную карточку. Два дня я не буду – очень срочная командировка в деревню… Пока отдыхай с дороги. Сейчас выезжаю – ждет подвода. Никак не могу…
– Да подожди же, Дашок… Как же так? Не успел носа показать, а ты удираешь…
Он ринулся к ней и сгреб со всего размаху. А она с ласковой настойчивостью опять освободилась.
– Да скажи мне, Дашок, что это значит…
– А я – в женотделе, Глеб.
– Как в женотделе? А Нюрка?.. Где же дочка?
– Нюрка – в детдоме. Иди отдыхай. Мне ни минуты нельзя… Разговор у нас будет потом… Сам понимаешь: партдисциплина.
И побежала быстрыми шагами. Красная повязка упрямо дразнила его до самой стены, звала за собой и смеялась.
А потом, у пролома, Даша оглянулась, помахала ему рукой и сверкнула зубами.
Глеб подбежал к заборчику и крикнул:
– Дашок! А Нюрочка-то как же? Должно быть, большая… Я забегу к ней. В каком это доме?
– Нет, нет, не смей! Вместе сходим. А пока отдохни.
Глеб стоял на крылечке и, пораженный, смотрел на уходящую Дашу: никак не мог понять, что случилось.
Три года провел в громе гражданской войны. Эти три года горел он в вихре грозных событий… А как прожила эти годы Даша?
Вот он пришел к своему гнезду, откуда бежал когда-то в безлюдную ночь. Вот опять тот завод, где он гарью и маслом пропитался еще маленьким шкетом. А гнездо – пусто, и Даша встретила не так, как он мечтал.
Он присел на ступеньку крыльца и сразу почувствовал, что очень устал. И не оттого устал, что прошел четыре версты от вокзала, а устал от этих трех лет и от этой странной встречи с Дашей.
Почему эта необычная тишина? Почему стрекочет воздух и куриный шелест ползет по Уютной Колонии?
Не корпуса, а тающие льдины, и трубы голубеют стеклянными цилиндрами. На их вершинах уже нет копоти: сдули их горные ветры, а на одной из труб стрела громоотвода вырвана с корнем – бурей? человеческими руками?
Здесь никогда не пахло навозом, а вот теперь вместе с травой, ползущей с гор, гнилью зацвел пряный скотный постой.
Вон в том корпусе, под горой, – слесарный цех. Трехсаженные окна в эти часы ослепительно пылали когда-то солнцем в бесчисленных переплетах рам, а сейчас в разбитых стеклах – черная пустота.
И город за бухтой, на взгорье, – тоже иной: поседел, покрылся плесенью и пылью, сровнялся со склоном горы, – не город, а заброшенная каменоломня.
А вот оставленная Дашей открытая дверь в пустую комнату… Внизу, в долине, потухший, забытый завод…
Подошел к ограде петух, задрал голову и посмотрел на Глеба одним глазом, зло и нелюдимо.
– Эт-то кто такой?
2. Морок
Напротив, через улочку, в каменном домике с открытыми окнами скандалил пьяный бондарь Савчук. Истерически визжала Мотя, его жинка.
Глеб прислушался и оживился. Он поднялся и пошел к Савчуковой квартире. В комнате было грязно и смрадно. На полу были разбросаны табуретки и одевка. Жестяной чайник дрябло лежал на боку. И всюду была рассыпана мука. Мотя лежала на мешке с картошкой и прижимала его к груди, а Савчук, в разорванной рубашке, лохматый, рычал и колотил Мотю и кулаками и босыми ногами.
Глеб подхватил его сзади под мышки и оттащил назад.
– Савчук! Осатанел ты, что ли! Черт бородатый!.. Ну-ка, отдышись маленько…
Савчук озирался, как чумной, и рвался из рук Глеба.
Мотя опиралась на руку, а другою тянула юбку на голые ноги и визгливо плакала.
Савчук смотрел на Глеба и не узнавал его.
– Это что еще за идолова душа? Ну-ка, проваливай, пока я не набил тебе холку…
Глеб засмеялся, как свой человек.
– Савчук, друг мой!.. Пришел к тебе в гости – принимай, брат.
В ошалелых глазах Савчука вспыхнуло сознание. Он шлепнул по полу грязной ногой и взмахнул руками.
– Хо, идолова душа!.. Глеб, брат ты мой, Чумалов!.. Какая тебя сатана выдрала с того света?.. Сукин ты сын!..
И облапил его со всего размаху. Он тыкался мокрой бородой в лицо Глеба и хрипло дышал смрадом сивухи. Потом отпрянул от него, толкнул ногой Мотю и засмеялся.
– Вставай, Мотька! Отложим до другого разу. Посижу я с ним, с идоловой душой, Глебом, поплачу. Вставай. Целуй друга-товарища Глеба, а остальное – до другого разу… Мотя сидела на мешке и плакала. Глеб подошел к ней и протянул ей руку.
– Ну, Мотя, молодчина. За права свои ты здорово дерешься, Здравствуй, дорогая!
Она злобно огрызнулась:
– Отваливай, пожалуйста! Много вас прохлаждается на чужой счет.
– Не уйду, Мотя! Угощай пышками, жаревом, чаем с сахаром – ты же мешочница…
Глеб смеялся, играл с Мотей – ловил ее руки, ласково подставлял себя под удары.
– Чего ты меня гонишь, Мотя? Я и так три года был на войне. Нет, чтобы обрадоваться… так, извольте-с, я же ей и враг… А вспомни, какая ты девка была боевая!.. Хотел я на тебе жениться, да отшиб Савчук, окаянный бондарь…
Мотя опомнилась, испугалась, точно впервые заметила Глеба.
– Ой, что же это такое?.. Ведь это же ты – Глеб Иванович… Савчук пьяно захохотал.
– Это же – не баба, Глеб, а жаба. Ежели ты – мой друг, застрели ее из своего пулемета… – И вдруг застонал в отчаянии: – Нет у меня жизни, Глеб, а она жизнь свою спрятала в мешок… Ограбили нас, Глеб!..
Мотя встала и измученно прислонилась к стене.
– Ведь у меня были дети, и я была богатая мать… Где они, Глеб Иванович?.. Зачем я такая живу?..
Она смотрела на Глеба мутными от слез глазами. И дрожащими, руками одергивала юбку на коленях и теребила кофту на груди.
Да, не та стала Мотя. Когда-то была ласковая, приветливая, ясная. Помнил ее Глеб в крикливом выводке ребятишек, нежной хлопотухой, воркотуньей-наседкой.
Савчук сел на табуретку и ударил кулаком по столу.
– Дожили, брат, доехали, Глеб!.. Страшно мне, братуха: не смерти боюсь, смерти мне нет. Морока мне страшно и дикого места. Вот он – гляди… Не завод, а сорная яма, козье гнездо… Нет его… А ежели нет его – где же я, Глеб?..
Мотя смотрела на него застывшими глазами. И вдруг конфузливо улыбнулась.
– Оденься, буйвол… Возьми вон рубаху… Ведь босяк босяком.
Глеб засмеялся.
– Чудаки вы, ребята!
– Мотька, жинка!
Савчук подошел к ней, поднял ее, как девочку, и поднес к Глебу.
– Вот тебе моя Мотька… целуйтесь, идоловы души!..
Из-за горы бездымные верхушки труб прозрачно хрусталились пустыми стаканами. И по ребрам горного массива, мохнатого от бурых зарослей держи-дерева и туи, по ржавому бремсбергу мертвыми черепахами валялись ковши вагонеток.
– Завод… Что было и что сеть, друг ты мой Глеб!.. Вспомни, как в бондарнях пели пилы. Какая была музыка!.. Красота!.. Эх, товарищ милый!.. Я же вылупился здесь из яйца…
Тосковал по былому заводу Савчук, оплакивал могилу минувшего труда, и глаза его заливались слезами. И в скорби своей он похож был на слепого, с той же слезной улыбкой и высоко поднятой головой.
Стояла рядом с ним Мотя, и была она такая же, как он, – слепая и слезная.
– Я – вся для дома… Я – вся для гнезда и детей. Зачем же ты рушишь последнее?..
– Мотька, чтоб я делал то же, что другие?.. Зажигалки? или кадушки клепал для мужиков?.. Пускай ты – бродячая собака… Лучше я сгибну, а не продам души своей черту…
И он опять ударил по столу кулаком и заскрипел зубами.
А Мотя стояла и бредила, как во сне:
– Было у нас богатое гнездо, Глеб Иванович… Было… А где оно? Сгибли, сгорели наши ребятки… Ну куда я такая? На что я годна? Разве можно так жить? Вся изошлась я слезами… Не могу я, не могу, Савчук!.. Вот пойду по дорогам и подберу безродных дитят…
Взволновался Глеб и обнял Савчука.
– Ты – мой старый товарищ, Савчук. Еще ребятами пошли мы с тобою на работу. И не наша ли подруга была Мотя? Ты сидел здесь совой и кликал беду по ночам, а я дрался с врагами… Пришел вот – и гнезда своего нет, и завода нет… Мотя – хорошая баба… Будем собирать силы, Савчук… Мы биты, но мы научились и бить… Здорово научились, Савчук… Поверь!..
Савчук ошалело глядел на него и крутил головою.
Мотя прислонилась к Глебу, охватила рукою его шею.
– Глеб, родной… Савчук – хороший… Он, ей-бо, очень хороший… Ах, Глеб, мне ничего не надо… Только бы опять моя грудь налилась молоком… Какая судьба, Глеб!..
– Мотька, не ласкайся к нему невестой: он еще не твой кавалер…
Глеб пожимал руку Моти и смеялся.
– Чудаки вы, ребята!








