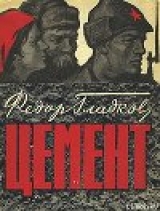
Текст книги "Цемент"
Автор книги: Федор Гладков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
2. Детдом
Утром сквозь сон почувствовал Глеб, что в комнате играет солнце. От окна к двери и от двери к окну гулял воздух, насыщенный весной. Даша стояла у стола и закручивала на голове огненную повязку.
Она поглядывала на него и улыбалась.
– Я уже, Глебушка, успела набросать доклад о детских яслях. Выработала смету, а взять негде… Такие мы голоштанные!.. Надо бы маленько ущемить буржуазию. Да! ведь ты еще не видал Нюрки. Хочешь, пойдем вместе в детдом? Он здесь рядом!
– А ну-ка, Дашок, пойди сюда!..
Даша подошла с лукавым вопросом в утренних глазах.
– Ну? А дальше что?
– Дай руку. Вот. – Оба помолчали, улыбаясь и прислушиваясь друг к другу. – Черт тебя поймет: будто и прежняя, а все-таки – новая… А может быть, и я сам – не слесарь? Хорошо… будем учиться. Теперь и солнце работает не тем боком.
– Да, Глеб, может быть, и солнце стало другим. Все изменилось – это правда. И ты стал иным: не то моложе, не то старее – не знаю… А у меня все внутри перевернулось… Ты вот на меня злишься, а ведь сам виноват: ты и не поинтересовался, как я жила и в каком огне горела. Если бы ты хоть немножко меня узнал и почувствовал, не так бы грубо со мной обращался. Эх ты, детина!..
И она засмеялась и выбежала из комнаты на крылечко.
– Ну, ну, сражайся! Я жду тебя…
Вплоть до детского дома Даша шла впереди, по дорожке, которая виляла в кустах туй и кизила. Она пряталась в них и опять вспыхивала красной повязкой.
Детский дом имени Крупской громоздился в ущелье, в охапках садовых деревьев. Стены были сложены из дикого камня грубой, крепкой кладки, с потоками цемента. Окна большие, как двери, – были открыты, и из темных пустот вырывался птичий разноголосый гам. Массивная лестница шла на второй этаж изломами, с цементными вазами на тумбах. На веранде спелыми дыньками зрели на солнце головенки ребят, а лица их издали казались мертвенно-исхудалыми. Кто они – мальчики? девочки? – не поймешь: все в серых длинных рубахах. И няни – тоже серые, в белых косынках – млели на солнце.
А вправо, за корпусами и над корпусами, небесной синью кипело в ослепительных искрах море.
Черным жучком-плавунцом бежал от пирса и каботажей портовой катер, и между ним и каботажами натягивались нити треугольника. И город, и горные дали были четки и близки.
…Вот оно – и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты, – вся Россия – мы… Все эти громады – и горы, а завод, и дали – поют в недрах своих о великом труде… Разве руки наши не дрожат от предчувствия упорной работы? Разве сердце не рвется от напора крови?.. Это – рабочая Россия, это – мы, это – новая планета, о которой мечтало а веках человечество…
Даша стояла у лестницы и пристально улыбалась ему навстречу.
– Какой воздух хороший, Глеб, – будто море!.. Весна! Нюрка живет на втором этаже.
И опять пошла на несколько ступеней впереди. И шла, как домой, и была она здесь своя, как дома.
С веранды увидел Глеб детишек, которые рыскали в кустарниках, в чаще чахлых деревьев. Кучками барахтались в земле – рылись жадно, торопливо, по-воровски, с оглядкой. Копают, копают – рвут друг у друга добычу. А вон там, у забора, детишки копошатся в навозе.
Глеб кивнул на ребятишек и, пораженный, уставился на Дашу.
– Ведь они передохнут у вас с голоду, Дашок… Расстрелять вас надо за вашу работу…
Даша удивленно подняла брови, взглянула вниз, и подбородок у нее дрогнул от улыбки.
– Ах, это? земляные работы?.. Это не так страшно: бывает хуже, Если бы не было глаза – все передохли бы как мухи. Пооткрывали дома, а кормить ребят нечем. Персонал, дай волю, перегрыз бы горло детям. Впрочем, есть кое-кто хорошие… нашей выучки…
– И Нюрка – тоже? И она так же копается в земле и в навозе, как эти голодные чушки?
– А чем же Нюрка лучше других? Бывала и с Нюркой беда. Если бы не наши женщины – детей бы съели вши и зараза.
Когда они шли с горы, дети были уже на веранде, а когда поднялись на веранду – и дети и няни пропали. Должно быть, побежали передать весть о гостях.
В зале было много солнца, и воздух был густой и горячий. Топчаны стояли в два ряда, в белых и розовых одеялках в прорехах и заплатах. Дети одеты были в серые балахончики. На стенах висели мазюльки – клубные работы ребят. Няни почтительно останавливались.
– Здравствуйте, товарищ Чумалова! Заведующий сейчас придет.
Даша чувствовала себя здесь хозяйкой.
– Нюрка, я – здесь!.. Нюрка!..
Девочка в балахончике (маленькая – меньше всех) уже с визгом и смехом бежала навстречу. Дети тоже визжали и неслись за нею.
– Тетя Даша пришла!.. Тетя Даша пришла!..
…Нюрка! Вот она, чертенок, какая – совсем не узнать: чужая, но что-то узнается родное.
Она с разлету вросла в мать и утонула в се юбке.
– Мама! Мама моя!.. Мама!..
Даша тоже смеялась. Она подхватила ее на руки, закружилась с ней и зацеловала ее.
– Нюрочка моя!.. Девочка моя!..
…Опять – прежняя Даша, – та, которая была дома, когда с Нюркой встречала его вечером. И нежность, и ласка – прежние, со слезою глаза, и певучий голос с нервной дрожью…
– А вот – твой папа, Нюрочка… вот он… Помнишь своего папу?..
Нюрка нелюдимо уставилась на Глеба синими глазенками и насупилась.
Он засмеялся, протянул руку и почувствовал, как горло у него сдавила судорога.
– Ну, поцелуи меня, Нюрочка. Какая ты стала большая!.. Как мама, большая…
А она отшатнулась назад и опять впилась в мать пристальным взглядом.
– Это – папа, Нюрочка.
– Нет, это – не папа. Это – красноармеец.
– Но я же – папа, и я же – красноармеец.
– Нет, это – не папа.
Глаза Даши налились слезами, но она улыбалась.
– Ну пускай, для первого разу я – не папа. А ты все же – моя дочка. Будем товарищами. Я принесу тебе в другой раз сахару. Из горы выкопаю, а принесу. Но мама чем лучше меня? Ты – тут, а она – там.
– Мама – тут. И днем – тут, и не днем – тут. А папы нет. Я не знаю, где папа… папа бьется с буржуями…
– Овва, вот откатала знаменито!.. Ну, дай же я тебя поцелую…
Дети с любопытством пялились па Глеба, смеялись и жадно ждали, когда обратит на них внимание тетя Даша. Девочки, стриженные под мальчат, вперебой тянулись к ней ручонками с кудрявыми пучками фиалок, и каждая непременно хотела первой вложить цветочки в ее руку.
– Тетя Даша!.. Тетя Даша!..
Где-то далеко в комнатах барабанили на пианино, и детский хор разноголосо кричал изо всех сил:
Вставайте, дети обновленья,
Всех стран свободные юнцы…
Даша смеялась, трепала ребят по головенкам, и видно было, что они привыкли к этой ласке и ждали ее так же, как обычной порции еды.
– Ну, детишки, что вы кушали, что вы пили, у кого – брюхо полное, у кого – пустырь?.. Говорите!..
А они кричали ей в ответ и царапали головенки и животы. Чумазый дитенок шмыгал носом, глотал сопельки и, выпучив глазенки, кряхтел и чесал грудь. Глеб подошел к нему и поднял рубашку. Мальчишка заорал и в испуге убежал за топчаны, в угол. Из-за топчанов видна была одна голова и выпученные глаза.
– А-та-та-та!.. Вот лютый герой, шкет, – разом кроет на баррикады!..
Все весело смеялись. А солнце играло в открытых окнах – больших, как двери.
С Нюркой за руку Даша пошла впереди. Глебу было больно: и здесь он – чужой. Даша, с Нюркой на руках, звенела среди ребят колокольчиком. А он и здесь и дома был одинок и бездетен.
Да, надо и тут завоевывать жизнь…
Прошли по всем этажам: были в столовой, где – посуда и дети, и в кухне были, где – пар и запах шрапнели и тоже дети; заглянули и в клуб, где – пусто, а стены – в плесени и мазюльках, Это здесь сбитые в кучу около стриженой девицы, с бурым родимым пятном во всю щеку, дети разноголосо пели:
Вставайте, дети обновленья…
Вы – мира светлого творцы…
Домаха и Лизавета – соседки – тоже здесь хозяйничали. Ив них Глеб увидел что-то новое, не виданное никогда, Домаха была на кухне и помогала стряпать. Распаренная, с засученными рукавами, она хлопотала, как у себя в комнате. Встретила она Дашу поцелуями.
– Ну вот, пришла наша атаманша. Ты пробери там этот паршивый наробраз: надо дело делать, а не сморкаться в платочки. А продком – особо, лбом об стенку: где это видано, чтоб детей кормить червями и мышиным дерьмом?.. Что, опять благоверный навязался? Гони его в шею!.. Мой не пришел – и ладно: черт с ним! Не пужай своим колпаком!.. А в продком я сама пойду и ботинкой буду бить им хари…
Даша похлопала ее по широким лопаткам и засмеялась.
– Ну, загорланила, гусыня… Лихая же ты баба, Домаха, уф!..
– Морды всем надо колошматить… Все они, черти, глядят только в свою утробу. Я им всем там штаны спущу.
Глеб смеялся.
Лизавету нашли в кладовой, у завхоза. И завхоз и Лизавета были обе высокие, гордые; обе – опрятно одетые, похожие на сестер милосердия. Только завхоз была черная, с армянскими усиками, а Лизавета – белобрысая, полнотелая (голод, разруха, а вся – налитая). Отвешивали продукты, проверяли, записывали.
И с Дашей встретилась Лизавета гордо, а улыбнулась одной вспышкой в глазах.
– Пройди, Даша, к кастелянше. После стирки белье превратилось в тряпки. Дети – без смены. Они ходят в горы за топкой, а падалку всю подобрали рабочие – не на чем разварить шрапнель. Кого бить по башкам?
Даша записывала слова Домахи и Лизаветы с серьезной морщиной на лбу.
– Ты, товарищ Лизавета, обследуешь все дома и доложишь в женотделе. Рыть землю надо – верно. И бить надо – тоже правда.
А Лизавета только один раз толкнула взглядом Глеба, а потом больше его не замечала.
И опять всюду ходили женщины в белых косынках и без косынок, и все почтительно и льстиво улыбались Даше. А на Глеба подозрительно косились. Кто он? Может быть, один из надоедливых ревизоров, к которому надо присмотреться и узнать его слабые стороны?
Глеб ловил ручку Нюрки и просил:
– Нюрочка, ну дай же ручку!.. Маме ручку дала, а почему мне нет?..
Но она опасливо прятала руки. И когда он нечаянно поцеловал ее и вскинул на руки, она вдруг стала покорной и впервые пристально и вдумчиво поглядела ему в лицо.
– Ваша Нюрочка – славная девочка…
Это сказала заведующая, юркая мышка, пестренькая, в искорках, ускользающая, с золотыми зубами.
Даша смотрела мимо нес, и лицо ее опять стало сурово я жестко.
– Что – Нюрочка… Здесь все – одинаковые. Все должны быть славные…
– Да, конечно, конечно!.. Мы делаем все для пролетарских детей… Теперь пролетарские дети должны быть центром нашего внимания. Советская власть так много заботится…
У Глеба заскрежетало в челюстях.
«Брешет. Надо обследовать, какой здесь элемент».
А потом полились жалобы, жалобы, жалобы…
И на жалобы Даша тоже отвечала строго и неприветливо (такого голоса раньше не слышал Глеб):
– Не плачьте, пожалуйста, товарищ завдомом! Вы покажите дело, а не плачьте. Плакать – это еще не суть важное…
– Ну, конечно, конечно же, товарищ Чумалова!.. С вами так хорошо и весело работать!..
Даша ходила по всем закоулкам, нюхала, задавала вопросы, Не утерпела – толкнулась и в комнаты персонала.
– Вот это та-ак… Почему же стулья, кресла, диваны в этих чуланах? Тут и цветочки, и картины, и статуи… и всякое такое… Я же говорила: нельзя отнимать у детей… Это – безобразие!.. Разве им плохо подчас поваляться на диванах и на коврах? Так нельзя!..
– Видите ли, товарищ Чумалова… вы правы, конечно… Но воспитательская практика… Это – вредно: развивается лень… всякая пыль и зараза…
В глазах заведующей дрожали иголки, а Даша, не глядя на нее, говорила тем же голосом, с красными пятнами на щеках:
– А наплевать мне на вашу практику! Наши дети жили по-свински… А сейчас – побольше им света, воздуха… и мягкую мебель и картины… Все надо дать им, что можем… Обставить, украсить клуб… Им надо есть, играть, любоваться природой. Нам – ничего, а им – все: зарежь, удуши себя, а дай!.. А чтобы не ленился персонал, надо загнать его в драные чуланы… Вы мне, пожалуйста, не заливайте глаза, товарищ завдомом: я понимаю, кроме вашей практики, и кое-что другое…
Юркая пестренькая мышка сверкала золотыми зубами и смеялась в восторге (а в глазах играли острые иголки).
– Ну кто же в этом сомневается, товарищ Чумалова?.. Вы – редкая женщина по чуткости и внимательности. При вашем руководстве все хорошо, все будет прекрасно…
И когда уходили, опять Даша ласкалась к Нюрке, и опять к ней липли детишки с разноголосым криком.
Нюрка опять долго, вдумчиво смотрела на Глеба.
– Домой хочешь, Нюрочка? Там будешь играть, как раньше… И папа и мама…
– Мама – тут… Вот она… А папы – нет… Моя постелька вон там. Мы сейчас кушали молоко и будем ходить под музыку.
И впервые робко и мягко обняла Глеба, а в глазенках (мамина глазёнки) тлелась искорка нерешенного вопроса.
От детдома до шоссе Даша молчала. Лицо се светилось неостывшей лаской. На шоссе она с сожалением сказала:
– Ну, я пошла в окружком. Работы много – приду поздно. Нам, женотделу, суток не хватает. Не детей обрабатывать… нет! Надо обрабатывать наших проклятых баб… Если бы не глаз и руки – всё бы разграбили до последней крошки… Сами!.. По-рабски! Уф! Везде – враги… Ой, как много врагов… Тем, золотозубым, уж так положено… а свои… свои, Глеб!.. По-рабски!.. Ну, так как же ты думаешь насчет ущемления буржуев?
А Глебу было невыносимо: чужая, новая, незнакомая женщина…
Угрюмо, почти враждебно, он пробормотал:
– Додумаем… Это просто не решается… Как посмотрит бюро губкома…
Даша улыбалась исподлобья, и у нее чуть-чуть вздрагивал подбородок. Она испытующе спрашивала его о чем-то глазами, а он мрачно смотрел в сторону.
III. ОКРУЖКОМ
1. Товарищ Жук, который кроет
Дворец труда громоздился кирпичной казармой в два этажа на набережной, у длинной ажурной эстакады, убегающей черными сваями в бухту. Бетонная стена ломаной лентой улетала в обе стороны от фасада и отрезала набережную от железнодорожной территории. В проломы и разрывы стены видно было, как вытягивались и ветвились железные жилы ржавых и накатанных рельс. Сарайно пластались лабазы вплоть до вокзала, и далеко, на упорах предгорья, древними башнями глядели омшелые вышки элеватора. А он громоздился под горами, как гигантский храм.
По мостовой, вдоль стены, грохотали телеги, и серые массивы пристаней с циклопическими кольцами для причала океанских кораблей, с звенящим, блеском рельсовых путей в мусоре вагонного лома, пустынными мысами и молами резали бухту на каменные кварталы. А вдали, в дыму весенней мглы, гавань играла радужными пленками, и вспыхивали чайками рыбачьи белопарусники. Переваливались дельфины с бычьими спинами, и прыскала серебром на солнце кефаль.
…Тоскующие пристани, голодное море… В каких водах и странах блуждают плененные корабли?..
У Дворца труда перед порталом с высокой пирамидой ступеней был когда-то цветник и росли каштаны. Но теперь цветов уже нет, ограда разрушена и каштаны срублены на топку.
Высоко над крышей, на красных взмахах флага, зажигались и гасли белые ромашки: РСФСР.
Глеб вошел в коридор. Прямо, в зале заседаний, видны были знамена и транспаранты. Накрест тянулся другой коридор – темный и пыльный. Направо помещался окружном, налево – совпроф.
От табачной мути воздух был грязный. И стены были грязные, в пятнах, с расковырянной штукатуркой. Всюду бродили с голодными лицами рабочие, злые и покорные, а между ними шныряли какие-то хлопотливые люди.
Далеко и близко в комнатах рокотали голоса и смех, трещали машинки, щелкали винтовочные затворы – должно быть, в отряде особого назначения.
Глеб пошел по коридору направо.
У стеклянных дверей окружкома стояли два человека. На матовых квадратах стекол их головы вырезались четкими силуэтами. Один – лысый, с турецким носом. Верхняя губа – коротенькая, рот – полуоткрыт в улыбке. Другой – курносый, с маленьким лбом и толстым подбородком.
– Стыд и срам, товарищи дорогие!.. Стыд и срам, и позор!..
Это обличительно говорил курносый.
– Чиновничество заело… бюрократизм…
– Вы ошибаетесь, товарищ Жук. Не это важно… совсем не это… Врагов много, товарищ Жук. Нужен беспощадный террор, иначе республика будет между жизнью и смертью. Вот о чем нужно думать. Я вас понимаю, товарищ Жук, но у Советской власти должен быть крепкий, выверенный аппарат… пусть бюрократический аппарат… но он должен работать наверняка.
– И ты – туда же… Все – туда же… А куда же рабочий класс? Эх, товарищ дорогой, Сережа!.. Нутро болит…
– Теперь только одно, товарищ Жук: работа среди масс. Работа, работа и работа… Массы должны немедленно насытить весь рабочий аппарат республики вплоть до самой верхушки. Крылатая фраза товарища Ленина о кухарке должна быть твердым бытовым фактором. В этом – все… И вы ошибаетесь…
– Эх ты, Сережа!.. Преданный, называется, коммунист, а слепой. Сердца надо побольше рабочему классу, а насчет врагов – черт с ними: крутили и будем крутить.
Глеб узнал в этом курносом обличителе своего давнишнего приятеля токаря Жука с завода «Судосталь». Он, оказывается, и сейчас кричит и жалуется, как три года назад…
Глеб подошел к нему и ударил его по плечу.
– Здорово, друг!.. Кричишь? Обличаешь?.. По-старому?.. Когда перестанешь обличать? Командовать надо, а ты скулишь, курносый.
Жук выпучил глаза от изумления. Он со свистом вдохнул и выдохнул воздух.
– Товарищ дорогой!.. Глеб!.. Шатия!.. Вояка!.. Мать ты моя родная!..
Он кинулся обнимать Глеба.
– Да как же это ты, а?.. Друг!.. Да мы сейчас с тобой всех покроем… Всех на место поставим… Какая тебя планида, а? Сережа, вот тебе – мой самый верный друг… из страды и крови…
Глеб и Сергей потрогались руками, сплелись пальцами осторожно, по-чужому. И в пальцах Сергея почувствовал Глеб мягкость и девичью робость.
У Сергея вились рыжие кудри вокруг лысины, в глазах сияла улыбка. И не поймешь: не то эта улыбка была насмешливой, не то застенчивой.
– Я уже знаю вас, товарищ Чумалов. Видел в прошлый раз, когда вы были на регистрации. О вас ставился вопрос в комитете. Вы пришли кстати. Пройдите к секретарю, товарищ Чумалов. Там заседание, но секретарь распорядился немедленно вызвать вас телефонограммой. Пройдите… Жидкий – фамилия…
– Ну, уж ты сам проводи его, Сережа: тебе с руки. И я пойду с вами – погляжу, как они возьмут его голыми руками…
– Я занят, товарищ Жук. Сейчас – совещание в агитпропе, потом заседание коллегии ОНО, потом – выступление…
– Эх, Сережа!.. Образованный ты человек, а хуже монаха: в великом послушании и смирении…
Прямо у окна, за столом, с карандашом в руке, в синей косоворотке сидела товарищ Мехова, завженотделом. Из-под красной повязки кудрявились волосы и играли на солнце. Верхняя губа – с пушком, как у мальчишки, и брови переливались и пылились искорками. Она задержала на Глебе большие глаза в длинных ресницах, и брови ее вздрогнули от улыбки.
Сбоку, у стола, стояла Даша и говорила бойко и звонко. На Глеба она бросила только короткий взгляд. Около нее и по стенам толпились женщины. Они слушали доклад Даши.
Жук засмеялся, схватил за рукав Глеба.
– Опасный перегон, друг Глеб, – бабий фронт: заклюют, зацарапают… Берегись!..
Сергей улыбался конфузливо.
Даша вскинула голову, замолчала и сложила руки на груди. Ждала, когда уйдут мужчины.
Товарищ Мехова отмахнулась от них и, улыбаясь, сердито приказала:
– Проходите, товарищи, – не мешайте. Продолжай, Даша. А потом сразу же перебила ее:
– Товарищ Чумалов, на обратном пути зайдите ко мне. Я хочу поговорить с вами…
Глеб приложил руку к шлему и бойко ответил:
– Есть!
Даша докладывала о сети детских яслей по городу.
2. Конкретное предложение
Как только Глеб отворил дверь в комнату Жидкого, на него хлынули духота и табачный чад.
Солнце играло здесь в зеленых волнах дыма. Вспыхивали искорки пыли.
Жидкий был чисто выбрит и сидел в кожаной куртке внакидку. Напротив него, откинувшись на спинку стула, курил трубку предчека Чибис, тоже бритый. У Жидкого на щеках – вертикальные складки, а нос – азиатский, с широкими ноздрями.
На подоконнике, опираясь ногами о косяк, сидел юноша с кофейным лицом, очень худой, в черной рубахе – предсовпроф Лухава. Он молчал и слушал, упираясь подбородком о колени.
Глеб приложил ладонь к шлему, но Жидкий не обратил на него внимания: мало ли ходят к нему членов партии – здороваться некогда.
– Ну, есть лесосеки. Ну, есть райлес. Ну, заготовки. А дальше?
И он отстукивал точки карандашом.
– Чего же дальше?.. Ведь все дело в том, чтобы доставить дрова. Они – за перевалом, они – по побережью. Дровяная повинность проваливается. Надо найти верный и быстрый способ доставить топливо до зимы. К черту кустарничество и паллиативы: надо брать быка за рога в широком масштабе. Тут должно быть огромное напряжение, сюда должны быть брошены все силы. Райлес не выполнил возложенной на него задачи: там засела всякая сволочь – шкурники и стервятники, которых надо расстрелять. Рабочие на лесосеках скоро поднимут бунт, потому что издыхают с голоду. Дайте дрова, иначе мы детей рабочих будем складывать в штабеля. Тупик, ребята. Через неделю – заседание экосо: мы должны быть готовы. Говори, Лухава!
Чибис ни на кого не смотрел, и нельзя было узнать, думает ли он или отдыхает скучая.
Лукава прижимал руками колени к груди и смотрел на Жидкого с самоуверенной насмешкой.
– Нет и не может быть тупиков, Жидкий, есть только задачи. Ты в панике, дружок.
Ноздри Жидкого раздувались, и от этого казалось, что он смеется.
– Надо использовать механическую силу завода…
Сергей протянул руку и попросил слова:
– Я хотел, кстати… насчет предложения Лухавы…
Складки на щеках Жидкого заиграли от улыбки, и Глеб увидел в этой улыбке снисходительную и ласковую насмешку.
– У Сережи конкретное предложение, товарищи. Формулируй!..
– Я хотел в связи с предложением товарища Лухавы указать на товарища Чумалова. Обсуждение этого вопроса может выиграть во времени, если товарищ Чумалов выскажет по этому поводу свое мнение, как рабочий завода… А сейчас мне нужно….
Жидкий оборвал его на полуслове взмахом руки.
– Стоп, стоп!.. – Сережа, как всегда, чувствительно декламирует и наливает румянцем свою лысину…
– Мне сейчас нужно на совещание агитпропа, потом – в коллегию ОНО, потом…
Чибис усмехнулся и сказал лениво, с пристальным взглядом в Сергея:
– Интеллигент… это «потом» а его устах звучит, как молитва. А по ночам он не спит от проклятых вопросов… Интеллигенты – всегда чувствуют себя пришибленными и виноватыми.
Сергей густо покраснел и растерялся.
– Но ведь вы – тоже интеллигент, товарищ Чибис.
– Да. Я – тоже интеллигент.
Жидкий пригласил Глеба к столу.
– Ну-ка, товарищ Чумалов… шагай сюда ближе… Придется стоять – стульев нет.
Глеб подошел к столу и стал по-военному.
– Демобилизован как квалифицированный рабочий. Нахожусь в распоряжении окружкома.
Не отрывая глаз от лица Глеба, Жидкий подал ему руку.
– Ты, товарищ Чумалов, назначен секретарем вашей заводской ячейки. Она дезорганизована. Мешочники и спекулянты. Все помешались на козах и зажигалках. Идет открытое разграбление завода. Ты, вероятно, уже в курсе дела. Укрепи ее на военную ногу.
– Постараемся. Но всякая дисциплина, товарищ Жидкий, требует своей базы.
– Это верно. Вот и создай эту базу.
Лухава опять заклевал подбородком колени, жевал папироску углом рта и смотрел на Глеба вприщурку. В глазах его горели угольки и вызывающий острый вопрос. В ответ на слова Глеба он небрежно бросил Жидкому:
– Направь этого товарища в организационно-инструкторский. Мы не можем прерывать заседание посторонними пустяками.
Глеб встретился глазами с Лухавой, но ничего не сказал.
Чибис взглянул на него сквозь ресницы.
– Ты – квалифицированный рабочий… военком… Зачем ты бросил армию, когда завод остыл на года?
Глеб усмехнулся и внимательно оглядел Чибиса.
– Куда к черту – остыл! Хуже. Гнусное место – свалка, скотный двор. Будем говорить прямо, товарищи. Вы хотите взять за горло рабочих и разогнать коз. А где производство? Вы требуете крепкой организации? А где у вас для этого предпосылки? Дайте лозунг о пуске завода, и все пойдет как по маслу. А без этого рабочие будут не рабочие, а свинопасы.
Лухава пренебрежительно фыркнул.
– Героям Красного Знамени, кроме храбрости, нужно еще научиться реальному пониманию вещей.
Чибис сидел, опираясь на спинку стула, холодный и замкнутый, и сквозь пыльный налет на лице нельзя было узнать, следит ли он за беседой или отдыхает скучая.
На щеках у Жидкого вздрагивали складки от улыбки.
– Итак, будем продолжать обсуждение вопроса о топливе.
От слов Лухавы, таких же вызывающих, как и его усмешка, Глеб едва владел собою от раздражения. Жидкий напустился на Глеба:
– Товарищ Чумалов, у нас нет ни полена дров. Мы дохнем от голода. Дети в детских домах вымирают. Рабочие дезорганизованы. Какой тут к черту завод? Что ты городишь ерунду! Не об этом идет вопрос. Что ты можешь сказать о доставке топлива с лесосек? Можно ли использовать для этой цели завод?
– Без топлива, без машин и электричества тут ничего не сделаешь – это ясно.
– Ты говори, как подойти к этому практически.
Глеб помолчал, посмотрел в окно рассеянным взглядом.
– Я думаю, что можно только так: нужно соорудить бремсберг на перевал. Провести организацию воскресников по профсоюзам. Это займет недели две. Раз заработают вагонетки, дров можно навалить сколько угодно.
– Жук цеплялся за Глеба и скалил зубы от радости.
– Сидите вы тут, кубышки… солите, мусолите… А он вот как… утробой… по-рабочему…
Его не слушали, и весь он, привычный, ежедневный, исчезал в буднях, как мелочь. Он всегда был на глазах, но его не видели, и его крики не доходили до слуха.
Жидкий чертил карандашом прямые и кривые линии на бумаге и рассекал их на части. И оттого, что лицо его стало спокойным и скучающим, он вдруг постарел и осунулся.
– Ты кажется, об этом хотел говорить, Лухава?
Лухава спрыгнул с окна, прошел мимо Глеба и опять возвратился к окну.
– Я был близок к мысли товарища Чумалова. Он формулировал ее лучше меня. Принять его предложение без прений и поручить ему сделать доклад в экосо.
Жидкий встал и бросил на стол карандаш. Карандаш прыгнул к Глебу и упал ему под ноги.
– Утопия, товарищ Чумалов. Брось болтать о заводе: завод – каменный гроб. Не завод, а – дрова. Завода нет, а – пустая каменоломня. Для нас завод или прошлое, или будущее! Будем говорить только о настоящем – о доставке дров.
– Я не знаю, что, по-вашему, утопия, товарищ Жидкий. Если вы не скажете первого слова – завод, его скажут рабочие. Что вы толкуете: завод – будущее или прошлое!.. А на заводе вы были? Знаете, чем дышат рабочие? Почему они грабят завод? Почему дожди и ветры грызут бетон и железо? Почему идет разрушение и громоздится свалка? Рабочий не хочет заниматься антимониями. Плевать ему на барахло, которое валяется без цели и надобности. Вы тут внушаете ему, что завод – не завод, а брошенная каменоломня. Как же ему поступать после этого? И хорошо делает, что обдирает машины: все равно попадает к черту в зубы… Вы его сами толкаете на это. Во имя чего он будет охранять завод? Какой вы идеей его взволновали, чтобы он был не шкурник, а сознательный пролетарий?
Жидкий с живым интересом слушал Глеба и насмешливо раздувал ноздри.
– Завод ты делаешь своим идолом, товарищ Чумалов. Какого черта – завод, когда у нас бандитизм, голод и советские учреждения кишат предателями и заговорщиками? Кому теперь нужен ваш цемент и всякие цехи? На постройку братских могил? Вы агитируете за овладение производством, а мужик прет на город татарской ордой.
– Товарищ Жидкий, я понимаю это не хуже вас. Нельзя подходить к работе без всякой конкретной цели и строить ее на голых людях. Эти методы вашего крохоборства – к чертовой матери: теперь надо бороться за восстановление хозяйства. Пушки уже замолчали. Люди идут по домам, к своему долу. Теперь в разгаре дискуссия о профсоюзах и новой экономполитике. Вопрос этот надо ставить всерьез. Надо обсудить, с какого боку подойти, и организовать подготовительные работы. Мы уже дождались Кронштадта. А махновщина? А казачья контрреволюция? Белогвардейщина спит и видит, как бы накрыть нас врасплох, лопоухих…
Чибис поднялся и пошел к двери. Потом остановился и сказал многозначительно:
– Наш отряд особого назначения – плох. Если говорить о восстановлении завода, почему нельзя поставить вопрос о казарменном положении?
Он отворил дверь и ушел неторопливо.
Жидкий смотрел на дверь и улыбался понимающими глазами.
– Не будем спорить, товарищ Чумалов. Дело – в идее и в организации масс. Правильно.
Он крепко пожал руку Глебу.
– Выдрессируй, кстати, и Жука, товарищ Чумалов, а то он похож на голодную крысу.
Глеб взял под руку Жука и пошел с ним к двери.
– Товарищ родной!.. Глеб!.. Да мы с тобой, друг, горы ходить заставим… все бурки зарядим… факт!..
А Жидкий дружески крикнул:
– Товарищ Чумалов, не мешает тебе крепко поговорить с Бадьиным, предисполкомом.
В дверях Лухава сжал локоть Глебу.
– Я о вас слышал от Даши. Ваш план мы обсудим совместно и сделаем его основной задачей нашей работы. Надо действовать не словами, а фактами. Будущее – в мозгах, настоящим оно становится в мускулах.
Они пристально посмотрели друг на друга и разошлись.
Даша… Лухава… Почему бы и Лухаве не быть третьим лицом в его драме? Возможно это? Нет, это слишком уж глупо…








