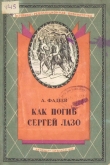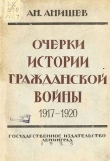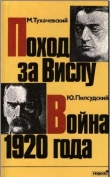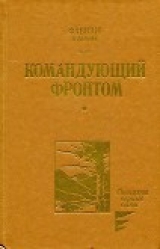
Текст книги "Командующий фронтом"
Автор книги: Фабиан Гарин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
– Значит, расстаемся?
– Выходит, что так.
Над городом нависли сумерки. Вот-вот потемнеет небо и зажгутся первые звезды. Дойдя до угла улицы, Жарков остановился и сказал:
– Прощай, Сергей Георгиевич! Желаю тебе успеха.
– Прощай и ты, Никанор Алексеевич! Тихону передай от меня низкий поклон и скажи, что я буду верен нашему делу.
6
Мобилизованных студентов обмундировали на скорую руку. Сергей получил гимнастерку, бриджи, фуражку защитного цвета, солдатские сапоги и шинель из крепкого ворсистого сукна. Он долго не мог привыкнуть к крючкам, которыми приходилось застегивать полу.
Со сборного пункта мобилизованным предстояло идти строем до Лефортова. Вел их командир учебного взвода, старший портупей-юнкер.
– Отставить разговоры! – предупредил он. – На вас не студенческие шинели, а юнкерские. Идти в ногу! Не озираться!
Здание Алексеевского училища в Лефортове, выкрашенное в светло-желтую краску, не отличалось привлекательностью. Перед зданием простирался обширный и унылый плац, на дальнем краю его стояли невзрачные дома. На покосившихся оконцах висели кисейные занавески, на подоконниках – герань.
Длинные и пустые коридоры училища пугали новичков. Шаги отдавались гулким эхом из конца в конец.
Сергей с легкой грустью вспомнил свою комнату. Вот тебе и революционная работа…
Среди юнкеров Сергей оказался самым способным и прилежным, вызвав к себе внимание преподавателей. Полковник Добронравов, замкнутый и малоразговорчивый офицер, с тщательно расчесанным пробором и лоснящимся от жира носом, считался знатоком артиллерийского дела. На занятиях он нередко обращался к Сергею.
– Юнкер Лазо, – говорил он, – объясните роте принципы стрельбы с закрытых позиций.
Юнкера любили слушать Сергея: он рассказывал живо и увлекательно, приводя примеры из прочитанных им книг. Добронравов даже намеревался предложить начальнику училища назначить Лазо своим помощником, но неожиданный случай заставил его отказаться от своего намерения. Остановив однажды Сергея в коридоре, полковник спросил:
– Вы из офицерской семьи?
– Никак нет, ваше высокоблагородие. Я родился в деревне, в семье землевладельца.
– Откуда же у вас такие знания?
– Интересовался многими науками, в том числе военными и общественными.
– Общественными? – повторил полковник. – Этак можно и всякой революционной дребедени начитаться.
Сергею следовало промолчать, и тем бы, вероятно, все кончилось.
– Революционной дребедени не бывает, ваше высокоблагородие, – ответил он прямо.
– Вы революционер? – повысил голос Добронравов и уставился на Сергея холодными и строгими глазами.
– Никак нет, выше высокоблагородие.
– Вы же ересь несете, да еще в Алексеевском училище… Да я вас…
Полковник, не договорив, быстро повернулся и пошел строевым шагом по коридору.
После этого разговора начальство стало присматриваться к Лазо.
Тяжело потекла жизнь в училище. Военная муштра давила человека. Каждый день одно и то же: подъем, строевые занятия, скучные лекции, ночные дежурства. Только два часа после однообразного обеда можно провести по своему желанию.
Сергея зачислили во вторую роту. Ею командовал капитан Золотарев, затянутый в рюмочку офицер, с прилизанными волосами и усиками, от которых всегда несло запахом фиксатуара, с припухшими веками. Встречая юнкеров, капитан смотрел им прямо в лицо и бросал коротко:
– Здравствуйте!
– Здравия желаю, ваше благородие! – отвечал юнкер.
– Четкости мало! Голос вялый! – упрекал Золотарев.
Юнкер повторял приветствие громче, а в глазах капитана уже горела злость.
– Сидели бы в своих вонючих институтах, – бурчал он, – а то вот где вы, господа студенты, сидите у меня! – и бил себя ладонью по затылку.
Особенно придирался Золотарев к Лазо. Сергей не сомневался в том, что Добронравов посоветовал капитану следить за ним.
По воскресеньям, после утренней молитвы и переклички, капитан медленно проходил вдоль строя, зорко всматриваясь в каждое лицо. Потом он раздавал юнкерам письма.
Однажды, раздав письма, капитан крикнул:
– Юнкер Лазо!
Сергей вышел из строя на два шага. Золотарев измерил его строгим взглядом с головы до ног и ехидно сказал:
– Увольнительной не будет!
Капитан ожидал, что Лазо попытается просить, спорить, и тогда он, Золотарев, вкатит ему несколько нарядов, но Сергей спокойно ответил:
– Слушаюсь, ваше благородие!
В следующее воскресенье капитан снова отказал Лазо в увольнительной, Сергей и на этот раз ответил:
– Слушаюсь, ваше благородие!
Из строя самовольно вышел юнкер Скопин.
– Ваше благородие, – сказал он, – юнкера второго взвода вверенной вам роты отказываются от увольнительных.
Лицо у капитана вытянулось и побагровело, на лбу вздулись жилы.
– Это почему?
– Потому что вы, ваше благородие, юнкера Лазо вторую неделю оставляете без увольнительной.
Скопин говорил смело, не робея перед капитаном. Он знал, что отец, участник русско-японской войны, сумеет защитить его и, если надо, поехать объясниться с начальником училища. Сергей удивился: только раз Скопин обратился к нему за помощью – разъяснить задачу, а сейчас он выступил от имени всего взвода в его защиту. «Чем это кончится? – подумал Сергей. – Глупо все получилось. Просидел бы я еще одно воскресенье в училище, побродил бы по пустым залам и коридорам, и подлец Золотарев в конце концов успокоился бы».
– Разойтись! Второму взводу остаться! – приказал капитан.
Скопин стал в строй. По его бледному лицу было заметно, что он волнуется и готов сгоряча наговорить капитану кучу дерзостей.
– Бунтовать вздумали? – заревел Золотарев, оставшись со вторым взводом. – Вы тоже студент? – обратился он к Скопину.
– Никак нет, ваше благородие! Я сын генерала Скопина.
«Не к добру приведет это дело, – подумал Золотарев. – Генерал Скопин может добиться моего увольнения, и тогда – прощай училище! Придется ехать в действующую армию».
– Чем объяснить ваше поведение, господин юнкер?
Так почтительно Золотарев ни к кому из юнкеров не обращался. Видно, дрогнуло у него сердчишко. От Скопина не ускользнуло смущение капитана, и он решил сильней припугнуть его.
– Воскресные дни юнкер Лазо проводит обычно у нас дома, – соврал он без запинки. – В прошлый раз отец спросил у меня: «Где же Сергей?» Я ответил, что командир роты, капитан Золотарев, оставил его без увольнительной. «Провинился?» – спросил отец. «Нет», – ответил я. «Странно, – сказал отец, – у вас командир роты самодур, что ли?» А что я сегодня скажу отцу, если Лазо не придет?
Никогда капитану Золотареву не приходилось решать более сложной задачи. Совершенно очевидно, что генерал Скопин может накликать на него беду: он даже позволил себе при сыне назвать его самодуром, а сын повторил при всем взводе. Уж лучше помириться, пусть неуклюже, но все же помириться.
– Вы бы так и сказали, – пробурчал капитан. – Идите все! И вы, Лазо!
На улице Сергей заметил Скопину:
– Не стоило из-за пустяка выдумывать небылицы.
– Ловко я его напугал, – рисуясь, сказал Скопин. – Только помни, если спросит – подтвердишь, что был у меня в гостях.
Сергей долго добирался из Лефортова до Третьяковской галереи. Его заинтересовали картины Репина. Он долго рассматривал «Бурлаков». С какой выразительностью были написаны фигуры бурлаков, лохмотья их одежд, залитый солнцем окружающий пейзаж с ярко-желтым песком и синей лентой Волги. Под лохмотьями был виден человек. На память пришли некрасовские слова:
Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется —
То бурлаки идут бечевой.
Особенно понравилась картина «Не ждали». Поглощенный мыслью художника, Сергей пытливо рассматривал каждую фигуру – он был потрясен правдивостью изображенного. В уютную комнату вернулся отец семьи, революционер. На его лице неуверенность. Как примут его старушка-мать, жена, дети после того, что он принес семейную жизнь в жертву революционному долгу? Он в грубом арестантском армяке, в сапогах, от него веет дальними дорогами, тяжелой жизнью «мертвого дома», а в семье так тихо и спокойно. Он пришел из другого мира, заросший и грязный, его армяк и сапоги резко отличаются от одежды матери, жены и детей. Мать, узнав сына, встала и пошла ему навстречу. Видна только ее спина, но и по этому можно судить о ее душевном состоянии. Жена, сидящая за роялем, обернулась в сторону мужа, не рискуя броситься к нему. В ней, очевидно, борются противоречивые чувства, впрочем, она не верит глазам своим, что муж вернулся. Сын, вытянув шею и повернув голову к вошедшему, смотрит на него с любопытством. Где ему знать, что вернулся отец? Дочка глядит исподлобья, она испугана появлением чужого, страшного на вид человека.
Сергей отошел от картины, но вскоре возвратился к ней. Посмотрев на полотно со стороны, он улыбнулся и облегченно вздохнул. Ему хотелось сказать вслух то, о чем подумал и что решил, но он был один в зале. И вот неожиданно Сергей увидел рядом с собой маленького пожилого человека в черном длиннополом сюртуке. Морщины, избороздившие его лицо, убегали за белый крахмальный воротник.
– Нравится? – обратился незнакомец к Сергею мягким голосом. – Талантливо написано?
Лазо вместо ответа непосредственно спросил:
– Как вы думаете, примет его семья или нет?
– Репин предлагает решить этот вопрос самому зрителю, – уклончиво ответил старик.
– Я для себя решил – родные поняли и оправдали поступок революционера. Так и чувствуется: мгновенье – и прервется молчание, все заговорят, кинутся друг другу в объятия.
Старичок, улыбаясь маленькими глазами, подмигнул Лазо:
– Вы, молодой человек, взгляните вот на эту картину! Тоже репинская – «Протодьякон».
С холста смотрело властное старое лицо протодьякона, с пронзительным и жестким взглядом. Одна его рука была прижата к толстому животу, другая сжимала посох.
– Прямо из жизни выхвачен, – сказал Сергей, – так видно, что он далек от простоты и смирения, поста и молитв. Бесспорно грубиян, сладострастник и чревоугодник.
Незнакомец усмехнулся:
– Картину собирались послать на международную выставку, но кое-кто запретил.
– Кто?
– Президент Академии художеств. Он так и сказал: «Хотите опозорить русское духовенство – шлите репинского «Протодьякона». Но я не позволю…»
– Дурак этот президент.
– Тсс! – незнакомец приложил палец к губам. – Президент-то великий князь Владимир, дядюшка государя императора.
– Тогда правильно, – неожиданно, с иронией, переменил мнение Лазо, попрощался со старичком и направился к выходу.
Сергей вышел на улицу, его обдало холодным ветром. За Москвой-рекой проступали в сумраке очертания кремлевской стены, а над ней купол Ивана Великого. Тускло светили фонари. В этом городе Лазо чувствовал себя одиноким.
Перейдя через мост, он добрался до Таганки, переулками – к Проломной заставе, откуда рукой было подать до училища. Он знал, что скоро придется покинуть Москву и уехать в армию, но не жалел об этом. «Попомнят они меня, – подумал он про Добронравова и Золотарева, – я такую агитацию разведу среди солдат, что всем этим «шкурам»» не поздоровится».
Война уносила миллионы жизней. На улицах городов Российской империи в рваных солдатских шинелях, опираясь на костыли, просили подаяния защитники отечества. В лавках толпился народ, но полки пустовали. Приезжавшие с фронта рассказывали о недостатке оружия, снарядов и обмундирования. На трех солдат приходилась одна винтовка.
Зато в фешенебельных ресторанах вино лилось рекой. Так кутили откормленные фабриканты и помещики, флегматичные с виду интенданты, обделывавшие темные дела.
Поезда шли с опозданием. Нередко эшелон со снарядами угоняли якобы по ошибке на Урал. Из дома в дом ползли слухи о царице, говорили, что она передавала военные тайны немцам. Все помнили трагическую гибель двух русских корпусов на Мазурских озерах. Имя военного министра Сухомлинова не сходило с уст. Его открыто называли немецким шпионом, а вместе с ним и других министров и высокопоставленных сановников.
Цензура свирепствовала, оставляя на газетных полосах белые места. Придворная знать замышляла дворцовый переворот: вместо Николая Романова хотели посадить на трон брата его, Михаила Романова.
В народе поговаривали: «Хрен редьки не слаще». В эти месяцы военные училища лихорадочно готовили прапорщиков. Фронт требовал младших офицеров. Срок обучения в Алексеевском училище сократили. Преподаватели комкали учебные программы, не придирались к ответам юнкеров. Важно было как можно скорее выпустить очередной курс и мобилизовать студентов младших возрастов.
Золотарев уже не преследовал Сергея и давал ему по воскресеньям увольнительную записку.
На Красноказарменной улице, примыкавшей к боковой стене училища, Сергей познакомился с пожилой вдовой Таисией Васильевной, которой отдавал стирать белье. Проникшись к ней доверием, он перетащил в ее квартирку свой сундучок с книгами, чемодан с вещами и студенческую шинель.
7
В Бессарабии стояла еще теплая осень, когда Елена Степановна получила от Сергея письмо, в котором он сообщал, что его скоро отправят на фронт. Сначала она решила поехать в Москву со Степой, но потом раздумала и стала собираться в дорогу одна. Для Сергея были испечены два пирога и ванильные пряники, а в корзинку уложены яблоки и виноград. Сборы длились несколько дней. Елена Степановна сама пекла, готовила, суетилась и все время не переставала думать о предстоящей встрече с сыном, которая не сулила радости уже только потому, что его отправляли на фронт, откуда обычно возвращались калеками, а то и вовсе не возвращались. Отъезд первенца в армию безмерно волновал Елену Степановну и доводил ее почти до отчаяния.
В Москву она прибыла в октябрьский прохладный день. Выйдя из вагона, Елена Степановна, увидев Сергея, готова была броситься ему в объятия и заплакать, но сдержала себя. Он сам привлек ее к себе и обнял. Мать выглядела такой, какой он видел ее в последний раз, но в волосах уже блестела седина.
– Дожила, – сказала она и всхлипнула. – Института не дали закончить и гонят в окопы. Думаешь, матери легко?
Сергей попытался успокоить ее:
– Я ведь живой еще… Не надо плакать.
– Чему же радоваться? Я вот поговорю с твоим генералом. Могла я уломать когда-то Клоссовского…
– Не место здесь толковать об этом, мама, – мягко сказал Сергей и, подхватив в одну руку чемодан, а в другую корзинку, двинулся по перрону, увлекая за собою Елену Степановну.
Поселил он ее на квартире у Таисии Васильевны и ежедневно приходил к ней.
День выпуска приближался. Юнкера ожидали со дня на день, что им объявят об отъезде.
Отпуская юнкеров на воскресный день, капитан Золотарев предупредил:
– В последний раз гуляете.
Весь день Сергей провел с матерью. Она рассказывала ему о братьях, вспоминала его детские годы в Лазое, лишь бы отогнать мысль о предстоящем расставании. Таисия Васильевна, сидя за столом, слушала словоохотливую Елену Степановну, изредка вставляя:
– И не говорите! Растишь дитя, а его забирают…
– Помнишь, Сережа, – обратилась Елена Степановна к сыну, – как ты мечтал ездить верхом на Буланке, стрелять из охотничьего ружья? Как будто совсем недавно…
Она не договорила из-за душивших ее слез.
– Будет вам убиваться, – успокаивала ее Таисия Васильевна. – Вернется ваш сын живой и невредимый…
Утром на построение явился начальник училища, генерал с горбатым, покрытым густыми сизыми прожилками носом. Он поздоровался с выпускниками, вынул из обшитой красным сафьяном папки лист бумаги и, откашлявшись, стал вызывать по фамилиям. Молодые прапорщики, на плечах которых уже золотились погоны, выходили из строя и настороженно вслушивались.
– Прапорщик Седов, закончивший с отличием, дисциплинированный, назначается в действующую армию, в сто семьдесят второй Лидский пехотный полк. Прапорщик Курнаков, отличившийся послушанием, назначается в действующую армию, в шестьдесят первый Владимирский пехотный полк.
Дошла очередь до Сергея.
– Прапорщик Лазо назначается в пятнадцатый Сибирский пехотный запасный полк с отправкой в город Красноярск Енисейской губернии.
Сергей удивленно посмотрел на генерала.
…Позади остался Ярославский вокзал. В окне мелькали подмосковные дачные местности. Поезд мчался на восток, в Сибирь. Заходило холодное солнце за лесом, золотя макушки берез, рядом с железнодорожным полотном бежала дорога, по которой тянулись крестьянские возы.
В вагоне было шумно и накурено.
Поместившись на верхней полке, Лазо достал записную книжку и записал:
«Вот все старое оборвано внешними событиями…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
За Курганом в вагон ввалился чиновник ведомства почт и телеграфов с пузатым чемоданом, перевязанным крепкой бечевкой, и с гитарой под мышкой.
– Чуть не опоздал, черт побери! Ни одного извозчика, едва дотащился до станции.
Кляня город, он снял пальто, осмотрелся, и взгляд его остановился на Лазо, лежавшем на верхней полке.
– Господин прапорщик, – произнес он бесцеремонно, – вы помоложе меня, помогите поставить мой чемодан вон туда, в уголок, а я уж как-нибудь пристроюсь.
Сергей привстал и охотно отозвался:
– Пожалуйста!
Чиновник еще долго возился с гитарой, не зная, куда ее приткнуть.
– Вы бы лучше сыграли, – предложил Сергей.
– Сперва порядок наведу, чайку выпью, а уж потом, с вашего позволения, пройдусь по семиструнной… Далеко едете, господин прапорщик?
– В Красноярск.
– На побывку?
– Нет, служить.
– Вот как! Ну что же, познакомимся! – Чиновник протянул руку и с видимым удовольствием отрекомендовался: – Уроженец Красноярска Алексей Алексеевич Семибратов, почтово-телеграфный чиновник, коренной красноярец.
Сергей пожал руку словоохотливому спутнику и назвал себя.
– Спускайтесь вниз! – предложил Семибратов. – Расшибусь, а чаек устрою. Поверьте, без этого, – чиновник щелкнул указательным пальцем по воротнику, – проживу, а без чаю никак не могу. Отец мой, бывало, в один присест выпивал десять, а то и дюжину стаканов. А дед – тот целый самовар мог одолеть.
– Ничего плохого в этом нет, – сказал Сергей, чтобы поддержать разговор.
Семибратов, поставивший с помощью Лазо чемодан на самую верхнюю полку, снова полез за ним, развязал бечевку, достал жестяной чайник, чашку и сверток, из которого извлек ситный хлеб, колбасу и сахар. Держа все в руках, он обратился к женщине, сидевшей у окна за столиком:
– Надеюсь, мадам позволит двум интеллигентным людям – мне и прапорщику – поужинать?
Женщина безмолвно отодвинулась, уступая место у столика.
– Покорнейше благодарю, мадам, – с подчеркнутой учтивостью сказал Семибратов.
Сергею не понравились слащавость и в то же время бесцеремонность чиновника, но он не прочь был побеседовать с коренным жителем Красноярска и расспросить его про город. Было уже довольно поздно, когда они, напившись чаю, уступили место женщине, а сами, пристроившись на краю скамьи, закурили.
– Откуда едете? – поинтересовался Лазо.
Семибратов глубоко затянулся и, выпустив несколько колец табачного дыма, отлетевших к вагонному фонарю, в котором колебалось пламя стеариновой свечи, ответил:
– Я, видите ли, человек холостой. Невесту в нашем городе сыскать трудно. Жителей тридцать тысяч, а подходящих невест, честное благородное слово, нет. Если найдется какая, то бесприданница. Толку мало, сами понимаете! Так вот я ездил по совету моего знакомого в Курган смотреть невесту.
Сергей улыбнулся и спросил:
– Ну и как, удачно?
– С первого раза трудно сказать. Девица как будто с образованием, скромная и, по словам матери, хорошая хозяйка. Отец ее по акцизному ведомству работает.
– А вы-то ей понравились?
– Не с лица воду пить, господин прапорщик. Засидится девица, потом спохватится, ан поздно будет. Я человек не особенно видный, не купеческого звания, но аккуратный, домик от отца достался, жалованье получаю по шестому разряду, наградные на праздники. Чего еще больше? Будете жить в Красноярске, заходите, убедитесь.
– Город большой? – спросил Сергей.
– Не ахти какой, – ответил Семибратов, – но хаять не буду. Лет через двенадцать ему минет полных триста лет. Я про свой родной город все знаю. Когда-то московский дворянин Андрей Дубенский основал на месте нынешнего города острог и был его первым начальником. Прибыл он к успеньеву дню с тремястами казаков и двумя пушками к Красному яру и Татушеву острову, на котором жил аринский князь Татуш. Казаки отмерили площадь, обнесли ее рвом и валом, построили стены с двумя проезжими башнями и тремя башнями на столбах.
Семибратов помолчал и, пожевывая влажными губами мундштук потухшей папиросы, спросил:
– Может, вам неинтересно, так я…
– Что вы, Алексей Алексеевич, очень интересно, – поспешил ответить Сергей.
Семибратов, польщенный тем, что прапорщик назвал его по имени и отчеству, отодвинулся на самый край скамьи и сказал:
– Садитесь поудобнее! Так вот, Дубенский приказал построить внутри острога амбар для хлеба, съезжую избу, тюрьму и зимовья для казаков – на каждый десяток по избенке. Три года расчищали казаки густой березняк, завели пашни, покосы. Но по правде говоря, казаки голодали. Почему голодали? Да потому, что из Енисейска доставка продуктов и жалованья длилась очень долго. Голод не тетка… Народ взбунтовался и утопил в Каче – у нас с одной стороны города течет Енисей, а с другой река Кача – своего атамана, кравшего продукты…
– В городе институт есть? – перебил Сергей.
– Нет! Мужская гимназия есть, женская, есть учительская семинария, духовная, городское трехклассное училище и железнодорожное техническое.
– А театр?
– Даже цирк и городской сад. И газета выходит, «Енисей» называется.
– Рабочих много?
– Мало, а вот политических ссыльных хоть отбавляй.
– Вот как, – заметил как бы удивленно Сергей.
– Да-с, милый человек! Как чугунку построили, политических сюда целыми партиями гнали. Одних в городе оставили, других – в таежные углы. А город наш тихий. По правде говоря, скучная в нем жизнь. Или, может, мне кажется, потому что я не пью и в карты не играю.
– Хорошо делаете, Алексей Алексеевич, – одобрительно отозвался Сергей.
– Правду говорите?
– Какая же охота лгать – водка да карты до хорошего не доведут.
– Истинная правда, милый человек. Уж лучше книги читать, романы или что другое.
– А что другое? – многозначительно спросил Сергей и тут же добавил: – Горького? Уж очень хорошо он пишет про любовь и правду, которые не находят себе места на земле.
– Про это говорить опасно, – произнес Семибратов.
– При мне не опасно, – успокоил его Сергей.
Чиновник внимательно посмотрел на Лазо, пытаясь при тусклом свете свечи прочесть в его глазах, искренне ли он это сказал.
– Вы вот про город рассказывали, но не все, – добавил Сергей. – Разве вы не помните, как в шестом году из Москвы к вам пришел с казаками генерал Меллер-Закомельский, а с востока Ренненкампф? Шли они навстречу друг другу, а по пути пороли, вешали, расстреливали. Крови-то народной сколько пролилось, Алексей Алексеевич! А за что?
– Я про эти дела ничего не знаю, милый человек, – ответил нехотя чиновник и сладко зевнул. – Пора спать…
Сергей встал и легко поднялся на верхнюю полку.
2
В Красноярск приехали рано. Здесь уже слегка подморозило, на крышах белел иней. Город, как полуостров, примыкал к конусообразной и вытянутой в глубину Черной сопке. По Енисею бороздил колесный пароход, оставляя позади себя свинцовую рябь. По обе стороны города лежала тайга, и из глубины ее неслось неумолчное гуденье. В самом городе с тремя площадями и тридцатью улицами жили тихо, бесшумно, с закрытыми на ночь ставнями. И только когда кто-либо из красноярских купцов выдавал замуж дочь или женил сына, город шумел и бурлил три дня, по улицам проносились тройки, запряженные в розвальни, из которых доносились крики, игра на гармошках, песни и улюлюканье, а потом все затихало до очередной купеческой свадьбы.
За Вокзальной площадью, в старых казармах с прогнившими половицами и облупившейся штукатуркой, квартировал пятнадцатый Сибирский пехотный запасный полк, а на другом краю города – казачий дивизион. В городе знали, что командир дивизиона Сотников дружит с купцом Гадаловым, берет у него взаймы деньги и ухаживает за его дочерью-перестаркой, бесталанной девицей, с трудом закончившей гимназию, но обладавшей приданым в сто тысяч рублей.
Командир четвертой роты пятнадцатого Сибирского полка, подпоручик Смирнов, отчаянный картежник, из тех, кто тщетно искал случая, когда ему улыбнется счастье, недвусмысленно предупредил Лазо при первой же с ним встрече:
– Пройдете испытание – офицеры вас примут в свою семью. Не пройдете – пеняйте на себя.
Поселился Лазо в офицерском доме, заняв одну комнату. Это был обыкновенный дом из сруба, поставленный много лет назад каким-то предприимчивым купцом и проданный им втридорога военному ведомству. Кроме железной кровати с тюфяком, на котором виднелись клопиные следы, шкафа с незапирающейся дверцей, хромоногого стола и двух стульев, в комнате у офицера ничего больше не было. В сенях стояла кадка с водой, которую ежедневно наполнял дежурный солдат, и табурет с тазом для умывания.
На другой день Лазо, придя на занятия, увидел, как фельдфебель тыкал кулаком тщедушного солдата и грозил:
– Я из тебя, сукин сын, дурь выколочу! Молчать! Не разговаривать!
Лазо поздоровался со взводом и сказал:
– Раньше чем начать занятия, хочу вас предупредить об одном: рукоприкладства не признаю и буду за это строго наказывать. Это относится в первую очередь к фельдфебелю.
Фельдфебель, у которого усы на упитанном, лоснящемся лице торчали щеточкой вверх, с удивлением выслушал предупреждение офицера.
– Солдата надо любовно и упорно учить, а не бить, – добавил Лазо.

Вечером, проходя по коридору в казарме, Лазо услышал, как один солдат говорил другому:
– Таких у нас еще не было.
Кто-то добавил:
– Долго не продержится. Свалят его за любовь к серой скотинке.
В мутном от мороза воздухе курилась вершина Караульной горы.
Вот уже четвертое воскресенье Лазо бродил по городу, присматриваясь к горожанам. Уж больно много в городе пьяных. Вот прошли с песней, в обнимку, нетвердым шагом двое в поддевках и ушанках. У одного голос низкий, у другого – писклявый, плачущий:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
Из ворот выбежала девушка, укутанная в полушалок, и веничком сгребла снежок, опушивший за ночь окно. Молодая женщина в поношенной короткой шубейке, в меховой шапочке, с муфточкой торопливо прошла мимо и сунула Лазо в карман шинели записку. Пока Лазо собрался окликнуть, женщина исчезла, и он, покраснев – столь велика была его застенчивость, – подумал: «Так начинаются все провинциальные романы».
Дома, сбросив шинель, он не спеша повесил ее на гвоздь, торчавший в стене у двери, стянул сапоги, сел на кровать и развернул записку. Она была написана четким и красивым почерком на четвертушке бумаги школьной тетради. С каждой минутой лицо у Лазо все больше озарялось, словно его освещали изнутри.
– Счастливый день! – сказал он вслух. – Но до следующей встречи еще шесть томительных дней. – Потом он перечитал записку, но уже вслух: – «Нам известно, что солдаты вас любят и уважают. Офицеру заслужить у них признание не так просто. Значит, вы любите людей из народа, значит, вы против произвола, который чинит над ними самодержавный строй, значит, вы с нами, борющимися против этого строя. Если это так, то идите к нам! Я жду вас в будущее воскресенье на Воскресенской улице у лавки с вывеской «Иван Погоняев и сын».
Лазо зажег спичку и поднес ее к записке. Бумага запылала, сгорела, скорчилась и рассыпалась пеплом по полу.
Солдат Назарчук из взвода, которым командовал Лазо, мало отличался от других солдат, одетых в одинаковые серые шинели, тяжелые башмаки на шипах и обмотки. Однако, приглядевшись к Назарчуку, можно было прочесть в его больших серых глазах выражение недовольства. Он послушно выполнял все требования фельдфебеля, но за глаза ругал его в присутствии всех солдат на чем свет стоит, называл «душегубом». В этом человеке жила ненависть к фельдфебелю и к офицерам за мордобой и издевательства над солдатами. «Придет время, – говорил он только тем, кому доверял, – мы с них спросим за все».
Назарчук случайно познакомился с одним из политических, и тот почувствовал, что у солдата бьется горячее сердце. Умелым разговором он привлек его к себе. Так Назарчук, получая по воскресеньям увольнительную, приходил тайком на чаепитие к ссыльному, которого звали дядей Глебом. Здесь он познакомился с молодой барышней по имени Ада. Дядя Глеб и Ада обстоятельно расспрашивали у него о поведении офицеров, настроениях солдат. Однажды они дали ему несколько листовок и попросили раздать их солдатам.
Как-то Назарчук пришел в приподнятом настроении, что не ускользнуло от внимательных глаз дяди Глеба. Увидев в комнате незнакомого человека, Назарчук подозрительно посмотрел на него.
– Это наш, товарищ Николай, – успокоила его Ада. Она взбила пышные каштановые волосы и добавила: – Вы сегодня не такой, как всегда. Что-то случилось?
– Так точно! – весело отчеканил солдат. – Помните, я рассказывал про нового прапорщика?
– Погодите, – прервала его Ада, – я сначала самовар поставлю.
Она вернулась через несколько минут из кухни раскрасневшаяся, и только сейчас Назарчук заметил, что у нее привлекательное лицо, с большими синими глазами, и над верхней губой лежал едва заметный пушок. Сев за стол, она устроилась поудобней и сказала:
– Теперь я могу слушать. Так что вы хотели рассказать про прапорщика? Его, кажется, зовут Лазо?
– Так точно!
– Неужели другим стал? Волю рукам, что ли, стал давать?
– Никак нет, барышня. Третьего дня он отослал куда-то фельдфебеля, собрал нас потесней и стал рассказывать, с чего загорелась война с Германией, как буржуи друг у друга землю хотят отхватить, как даром проливается народная кровь.
– Значит, другая «словесность» пошла, – заметил незнакомый Назарчуку товарищ Николай.
– Так точно! Хорошо говорил! Ну, понятно, и мы стали вопросы задавать. А прапорщик, видно, позабыл, что он командир взвода, и давай ругать начальство. «Войну, говорит, могут прекратить только солдаты, они – главная сила». А когда прощался, спросил: «Думаю, что среди вас доносчиков и шпионов нет?» Тут я не выдержал и ответил: «От имени всего взвода, ваше благородие, смею доложить, что мы народ честный и вас в обиду не дадим». Пожал он каждому руку, – вот те крест! – и пошел. Вот какой человек!
– Надо с ним познакомиться, – сказал дядя Глеб.
– Может, приведешь? – спросил Николай.
– Мне никак нельзя! С чего это я самовольно подкачусь к командиру взвода?
– Назарчук прав, – подтвердил дядя Глеб, – это дело возьмет на себя Ада. Опиши подробно его приметы, а еще лучше – покажи.
– Вот это верно, – согласился Назарчук. – Прапорщик завсегда по воскресеньям гуляет по городу, ходит в порт. Я возьму увольнительную и буду толкаться возле погоняевской лавки. Когда прапорщик пройдет, я его барышне покажу.