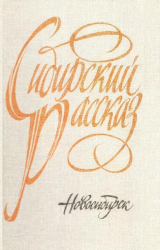
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
СКАЗКА
И опять я в Русском Устье.
Когда-то, лет сорок назад, исписал я о нем ворох тетрадей русскими досельными былинами-старинами, песнями, сказками о Настасье-Замориявне, Беломонет-богатыре, слуге Торопе, Голубой Кавалерии, Коте-Баюне, Крест-Цепочке, Палкин-воре, Громобое, Ольке Шемахе, Арко Арковиче… Когда-то, слушая говор русско-устьинцев, которым сказывались сказки и пелись песни, я изнемогал от удивления и удовольствия, что давнее слово какого-нибудь XVII века в досельной огранке произношения могло вживе сохраниться и не собиралось умолкать. Но с тех пор много чего случилось. За сорок лет не только Индигирка несла свою воду в океан, не только она подмывала крутые берега и вместе с водой уносила обжитую землю, но и жизнь сама столько утвердила изменений и новизны, что лишь молодому уму, не загруженному воспоминаниями, под силу их и понять.
Вот и Русское Устье теперь на другом месте и под другим названием. Прошла в свое время в этих краях кампания под графой «поселкование» – и свезли прежние «дымы» с вековыми русскими именами со всех трех индигирских проток в одну кучу и нарекли ее высоко и громко Полярным. Недавно в Полярном засветились домашние «голубые экраны», поразившие воображение досельных людей, с которых в манере капризной фаворитки властвует Алла Пугачева. Поэтому и было у меня опасение: а поют ли еще русско-устьинцы свои песни, сказывают ли сказки, не оставили ли «рассоху» и «омуканчик», красивые, с нежной пластикой, лирические танцы о северной жизни, которым аплодировала и Москва?
Я прилетел в Русское Устье на вертолете и первым делом попросил, чтобы мне показали танцы. Меня здесь помнили и согласились без лишних уговоров, сразу указав и дом, куда вечером следовало прийти. Среди многих изменений жизни, которые замечались во всем и всюду, дом этот, перевезенный, должно быть, из одного из старых поселений, сохранял планировку во всей незыблемости векового опыта: сначала я вошел в сени, затем через дверь в прихожую – неотапливаемое помещение, где снималась меховая одежда, чтобы не линяла в тепле, и только потом через третью дверь в светлогорницу с печкой, со многими небольшими квадратными окнами и нарами по сторонам под ситцевыми пологами. Горело электричество, под которым темно и таинственно взблескивали в правом углу иконы. Женщины, собравшиеся на танец, расположились на табуретках, меня приятно удивило, что среди них были и совсем молодухи, державшиеся смело и независимо. Возле печки, вырезанной из железной бочки, дымили, держась особняком, три старика с одинаково жиденькими бородками, в одном из которых я признал Микуньку, еще во времена своей молодости поражавшего меня знанием сказок.
Я сразу окунулся в разговор – господи! – в какой разговор, каким дивьем, какой узорочью звучащий, каким звоном приплескивающий, каким ветром прибаюкивающий! И будто отлетели сорок лет, когда я ходил с тетрадками, захлебываясь этим языком, и еще четыреста лет отлетели, когда из северной Руси, из Вологодчины и Новгородчины, принесен он был сюда негрузно и выжил, выстоял необузно, слово в слово, тон в тон передаваясь из поколения в поколение, связывая их самой прочной и кровной связью.
– Э, бра, какая шепеткая лопать! – сказано было про мою новую, в броском узоре, рубашку.
Хозяйка, подавая девочке тальниковый веник, чтобы та подмела пол, запела – зашелестела взмашисто, словно и голосом прихватывая мусор:
– Девка, мост пахай-да, гумаги-чи, гряжно, гость пришол, грех, букишка… Оленка, кому говору… дошпей бистро… сама-от, арахлейка. Чэ-э…
Зашедшему после меня старику сказали дружно:
– На, бра, бача Шеня прияхал! Кум, вше, кабуть?
На что старик Семен озабоченно отвечал:
– Э, кабуть, кабуть, только дедушко Метрахан шибко шильно не может, знако живой не будот. Анемениш бул, я, к нему, ласно, онну пору помре. Шухума баить не буду, жинка взаболь гребчится… бердит. Дибияви я, не плачот. Жиччо трунное, хана, гуврит, онной-то…
Потом мне показали по уговору «омуканчик» и «рассоху». Омук – якутское слово, означает оно «другой народ», а в этом случае «человек из другого народа», торжествующий победу на охоте и объясняющийся в любви к своей девушке. Рассоха – речка на Колыме, давшая имя танцу, в котором смешалось все – и классические элементы, и народные русские, и северные, и притопы и прихлопы. В старом Русском Устье музыкальных инструментов не водилось, их заменяла «игра на белендрясах»: сидят рядом два старика и выделывают на губах такие кренделя, прукая, вскрикивая, помогая пальцами и языком, что хоть в пляс, хоть в круг. Под такую музыку и свадьбы игрались, и праздники справлялись. И сейчас, когда зазвучала она, сначала слабо, неверно и неохотно, и с каждой минутой все выправляясь и накаляясь, – накинули женщины на плечи платки, подтянулись, преобразились и пошли, пошли, вздымая руки, возвещая свое преображение, заходили нога в унтах из ровдуги, заплескались краски, засияли лица – обо всем на свете было забыто, кроме необыкновенной и страстной жизни в танце. Под конец не выдержал и я – тоже принялся притоптывать, прихлопывать и подпевать.
«Ассамблея» наша – так здесь назывался веселый праздник – продолжалась долго и дружно. Я просил песни – запевали старину, которую знали и молодые, заказывал частушки – и они незамедлительно являлись, бодро выставляясь друг перед другом то в тугих девичьих, то в глухих стариковских голосах. Старички мои от усердия вспотели, но в глазах их был подстегивающий радужный блеск: еще, еще… Девочка, дочь хозяйки, и натанцевавшаяся и напевшаяся вместе со всеми, пошатываясь, сморенно ходила по кругу и слабенько всплескивала руками. В перерывах между песнями и частушками то и дело слышались сладостные вздохи. Телевизор дремал в углу, накрытый для верности выцветшей тряпицей, радио молчало, торжествовал восемнадцатый век…
Мы расходились, когда подошел ко мне Микунька и сказал, что в прошлый раз он не поведал мне еще одну интересную сказку. В прошлый раз – это сорок лет назад. Я сразу вспомнил старое Русское Устье, широкий огибень Индигирки, ранние сумерки в начале осени и Микуньку, молодого тогда мужика, ведущего меня с берега к себе на сказку. Больше всего записей в те годы я сделал от Семена Петровича Киселева, по прозвищу Кунай. Живи Кунай поближе к центрам, мне кажется, он был бы известен на всю Россию, как Федосова, Кривополенова или Господарев. Без всяких усилий, будто из общинной кладовой, извлекал он из своей памяти и былины, и сказки, и песни, и присловья, многое из чего нигде больше не сохранилось, кроме как здесь, на краю света, и исполнял на удивление просто и мудро. Нам, фольклористам, это был подарок судьбы. Но, как самородок не может явиться вдруг, не из ничего, без сопутствующих россыпей, так и Кунай в независимом одиночестве не донес бы до нас старинное народное богатство. В Русском Устье пели и сказывали многие. Когда я впервые попал туда, да посмотрел, да послушал, да побывал на свадьбе, потом на похоронах, да поучаствовал в обрядах – это тоже было как сказка, звучащая изо дня в день во всем многоголосье жизни.
Звонкой ночью, в великолепном и ярком убранстве неба, прошли мы с Микунькой в мою «хоромину», отведенную мне на постой, на скорую руку подогрел я чай, усадил своего гостя поудобнее, чтоб никакая мелочь не мешала рассказу, и приготовился слушать. Хорошо знал я по опыту, что такие удачи на другой день не откладываются, все отложи – и сон, и дела, и немочь, но это, когда просится слово, ни в коем случае.
Вот сказка, которую в дополнение к старым записям, сохранил для меня Микунька.
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-бул царь. Дже[5]5
Дже – якутское «ну». Русско-устьинцы любят щегольнуть якутским словцом, как якутские сказители олонхо-былин русским.
[Закрыть], бога просит, молебны служит, приклады прикладывает: «Дай бог сына или дочь, при младости на утеху, при старости на замену и при смертном часу на помин души».
Немножко пожили. Жена у нево стала в интересном положении. Дни, часы ее исполнились – родился мальчик. Вжяли ево, купали, окрештили, по имени дали Иван-царевич. Дже, этот Иван-царевич раштет не по годам, не по мешецам, как пшеничное жерно на опаре приздымается, так и он кверху. Определили особую няньку к этому Ивану-царевичу. Дже, он большенький стал, по надворью ходит, лучком, стрелкой стреляет, с ребятишками играет.
Жили, жили. Приходит к своей няньке. «Почему, – говорит, – ходят по городу у нас люди и таскают за собой палочки и подпираются этила палочками?» Она отвечает: «Они соштарились, этима палочками подпираются и тоже нам тово будьот». – «Ланно, – говурит, – если ты говуришь, что они соштарилися, то я тогда побегу от штарости». – «Ну, – говурит, – куда же ты добегешь?» – «Нет, – говурит, – побегу». Ну, сколько унимала, унимала, не могла унять, собрался и побежал».
Сказка началась невесело, и чувствовалось, что не будет в ней ничего веселого до самого конца, но так открыто, беззатейно и улыбчиво рассказывал ее Микунька, так мягко и светло прикладывалось у него слово к слову, что и на моем лице невольно всплыла и озарила все во мне широкая улыбка.
«Бежал, бежал Иван-царевич, долго ли, коротко ли, вдруг увидел: стоит юрта. Вошел в юрту – сидит девка: «Здравствуй, Иван-царевич!» – «Драстуй». – «Ну, скажи, куда ты пошел именно?» – «Именно, – говурит, – я побежал от штарости, чтоби штарость меня не нашла. А ты штарость знаешь?» – «Знаю я шебе штарость. У меня есть, – говурит, – три амбара, потолком налитые пустые иглы. Ешли все иглы кончу, тогда из штарости умру. Если ты побежал от штарости, живи у меня. Три амбара – это на три века и поболе того».
Дже, стал у этой девки жить. Жил, жил… Стала девка иглы терять, стала иглы ломать, и под конец дело дошло, уж два амбара кончила. Иван-царевич: «Ну, чево же, – говурит, – к чебе штарость пришла. Я лучче дальше побегу». – «А, ланно, сам знаешь», – говурит.
Вишол, побежал. Бежал, бежал… Видит – девять лайдов (полян) видится с сеном. Немножко подальше стоит конь. Вдруг конь забаял: «Што, Иван-царевич, куда пошел?» – «Я побежал от штарости, – говурит, – а ты чево, штарость знаешь?» – «Знаю, – говурит, – вот как сено с девяти лайдов съем, тогда и штарость придет». – «А ты чево, давно стал ишти?» – «А я, – говурит, – нешколько лет этта стою, и даже трэччю часть онной лайды съешть не могу». – «Ну, тогда я с тобой штану жить». – «Живи», – говурит.
Дже, пожили. Вот конь стал ишти, и как это Иван-царевич пришел, сено стало кончаться и онна лайда осталась. «Ну, Иван-царевич, – говурит, – штарость приганила». – «Ешли она приганила, то я побегу». – «Ну, – говурит, – сам знашь».
Микунька приостановился, глянул на меня внимательней, что-то во мне увидел и кивнул виновато, соглашаясь, что почти так оно все и выйдет, как я догадываюсь. По закону сказки Ивану-царевичу предстояла еще одна, третья остановка, перед тем как окончательно удостовериться в тщете своих побегов, но меня сейчас больше всего интересовало, кого он встретит на этот раз и чем обманется – это должно было быть чем-то особенным, какой-то крепостью, для его врагов неподступной.
«Дже, побежал Иван-царевич, бежал, бежал, вдруг видит, два холма видится. Прибежал к этим холмам – два ушкана-зайца округ бегают. «Ну, што, Иван-царевич, куда пошел?» – «Побежал от штарости. Как, вы штарость знаете?» – «Знаем. Коли эти два холма собьем, то шостаримся и умрем». – «И много сбили?» – «А ничуть. Школь годов бегаем – на мижинчик не убавились». «Ну, тогда, – говурит Иван-царевич, – и я с вами стану жить». – «Живи».
Дже, стал с ними жить. Жил, жил, вдруг эти холмы стали убавляться. Убавлялись, убавлялись, меньше полу остались. «Ну, – говурят, – штарость приганила». Иван-царевич пошидел. Подальше стоит юрта. Пошел в эту юрту. Как двери открыл – из переннева места покатилась пустая голова. И поганила Иван-царевича. Иван-царевич побежал. Прибежал к двумя ушканами. «Што бегишь, Иван-царевич?» – говурят ушканы. «Меня голова гонит». – «Ну-тко, шадись на нас, мы чебя повезем». Он сел, ушканы понесли. Несли, несли и принесли к коню. У коня вокше шено кончилось. «Ну, што, ушканы, кого несете?» – «Ивана-царевича. Ты понеси дальше». – «Давайте, – говурит, – понесу, шадись на меня, Иван-царевич». Иван-царевич сел. Как сел он на коня, два ушкана вокше пропали. Штарость поймала. Принес конь Ивана-царевича к девке, где три амбара иглы було. Тут она последнюю иглу шломала. Шломала и померла. И конь пропал.
Иван-царевич побежал, агде ево город бул. Как до городу добежал…»
Очень хотелось Микуньке, чтобы была другая концовка. Очень. Он прервался опять виновато, прокашлялся и быстро, решительно договорил.
«…Как до своего городу добежал, вскочил к своей няньке – и голоса за ним. Тут она его и поймала. И он умер. Только».
Меня почему-то поразило последнее слово, произнесенное твердо и резко, словно бы и не Микунькой, а кем-то другим.
– Только? – невольно спросил я.
– Только! – отвечено было мне не менее решительно.
Мне показалось, что и сам Микунька растерян и озирается: кто это мог вмешаться и закончить за него столь властно и категорично, совсем не в духе сказки.
Я вышел проводить гостя. Далеко-далеко вокруг, во все стороны сливаясь с небом, простиралась матушка-тундра. Наверху, над самой моей головой, обозначилась таинственная красная круговерть. Начиналось северное сияние. В тундре среди ночи легко думается о вечности, о том, например, что никаким ушканам не удалось сбить ее за многие и многие тысячи лет… Однако я оборвал свои мысли, вернулся в тепло, но растревоженный и чем-то недовольный, долго не мог уснуть.
«А чего было бегать? – думал я. – Не убежишь. И зачем бояться ее? Не лучше ли, как я, вовремя к ней приготовиться, встретить с достоинством и жить-доживать, ну, если не душа в душу, то без обид и страха. – Меня потянуло философствовать: – Ведь она – это я, только…»
«Только!» – коротко сказано было мне.
Перевод с якутского В. Распутина.
Цэрэн Галанов
СЛЕДЫ НА СНЕГУ
I
В Нижнеангарск Галдан прилетел еще утром, здесь он сел в автобус и примерно через полчаса был уже в Северобайкальске, северном городке строителей Байкало-Амурской магистрали, расположенном на берегу древнего сибирского моря. На БАМ он приезжает не в первый раз, однако все прежние приезды были связаны с какими-то делами, и потому у него почти не оставалось времени, чтобы побродить по городку, посмотреть… Но нынче он не в командировке, и это приятно, тем более что спешить некуда: на железнодорожной станции ему сказали, что поезд в Новый Уоян идет в девять часов вечера.
Галдан до полудня ходил по городку, с интересом разглядывал высокие, в пять этажей, какого-то бледно-синего цвета дома, изредка останавливался, с тем, чтобы дать ногам передохнуть, а потом шел дальше. Он пообедал в рабочей столовой и скоро очутился на тихом, безлюдном в эту пору берегу Байкала. Сидел на сером мшистом валуне и, прищурившись, смотрел вдаль, на душе было спокойно и легко и не хотелось ни о чем думать. Незаметно для себя Галдан задремал, а когда очнулся, уже смеркалось, и небо над головой было не то яркое и глубокое, а серое и тусклое. Он поднялся с валуна, и медленно, то и дело проваливаясь в зыбучий песок, пошел на вокзал, а спустя немного оказался в вагоне, и подле него были люди, все больше молодые, гомонливые, и ему показалось странным, что они берут чистое белье: ехать-то здесь всего ничего – часа три, быть может. В свое время, когда учился в одном из московских институтов, он часто ездил в столицу и почти всегда обходился без постельных принадлежностей. – за которые надо было платить. Впрочем, чему же тут удивляться, люди нынче живут лучше. Галдан вспомнил, сидя в тамбуре и глядя в окошко, за которым на многие версты раскинулась таежная глухомань, еще и о том, как непросто было раньше попасть в Уоян. Разве что, если повезет, на вертолете… Ну, а если нет, то только верхом на лошади. Пока доедешь, растрясет всего.
Да, многое изменилось за эти годы, чудно, однако ж, что случившиеся перемены нынче кажутся обычными, люди не удивляются им, словно бы так и должно быть. В характере, что ли, нашем быстро свыкаться со всем, а пуще того, с комфортом. Галдан зашел в купе проводника, чтобы взять белье…
Но постель Галдану так и не понадобилась: только собрался подремать, как объявили, что поезд подходит к Новому Уояну. Народу на перроне было много, слышалась разноязыкая речь. Вокзала в Новом Уояне еще не было, а вместо него тут же, на перроне, стояли три вагончика, откуда то и дело выходили люди с рюкзаками да сумками. Помедлив, Галдан зашел в один из вагончиков; посреди него стояла железная печка, она дымила, и Галдан наклонился, поплотнее прикрыл раскаленную дверку. Чуть в стороне, за тонкой перегородкой шла бойкая торговля железнодорожными билетами. Галдан постоят возле печки, а потом вышел на низкое, наспех сколоченное из толстых досок крыльцо, глянул в ту сторону, где зажатый с боков высокими снежными гольцами лежал Байкал. На темном небе появилась луна, и в ее лучах море искрило, словно бы посеребренное. Галдан вздохнул и стал рассматривать поселок, который утопал в электрических огнях. Он помнил то время, когда здесь росли вековые деревья, а теперь они отступили, и на берегу Байкала появился поселок, в котором, как слышал Галдан, живет несколько тысяч человек, а скоро будет построен новый вокзал, и люди, приезжая сюда, станут отдыхать в теплых залах, и едва ли кто-нибудь из них подумает, что раньше здесь ничего этого не было, а шумело море и вековые деревья пошевеливали ветвями.
Когда Галдан, чувствуя в душе своей что-то странно щемящее, спустился по ступенькам крыльца, небо сделалось и вовсе темным, луна скрылась и пошел снег… Белые хлопья падали на серый, потрескавшийся бетон, таяли на лице, забивались под воротник куртки. Галдан поежился и тут увидел отца – он стоял в стороне от него и держал за ошейник большую рыжую собаку.
– Отец! – сказал Галдан.
Тот поднял голову, и подле губ у него промелькнула улыбка, но скоро исчезла.
У Галдана появилось такое чувство, что он приехал не на север Бурятии, где теперь живет отец, а в родную деревню, и он хотел бы сказать об этом своем чувстве, но отчего-то не сказал и лишь неуверенно посмотрел на отца и вздохнул.
Отец приблизился к нему, обнял, но тут же и отступил, словно бы застеснявшись, и, слегка нахмурившись, сделал знак следовать за ним, потом торопливо спустился с перрона на белую землю и углубился в тайгу…
Они недолго шли по узкой, пробитой в снегу, тропке, но вот отец обернулся, сказал:
– Дай сюда сумку.
– Зачем?.. Я сам…
Но отец не послушался, забрал у него сумку. Ему уж и лет немало, а он словно бы не хочет считаться с этим и все еще думает о себе как о сильном мужчине. И попробуй-ка сказать, что это давно уже не так, и он стал стар, и у него пошаливает сердце.
Мать Галдана умерла еще до войны, когда ему было всего четыре года, все заботы по семье легли на отца, но он никогда не жаловался на судьбу, упрямо и терпеливо нес свою нелегкую ношу. А когда началась война, оставил детей у старшей сестры…
– Ну, как там в городе жизнь-то? Как чувствует себя моя старшая сестра?
Галдан помедлил, собираясь с мыслями, сказал, что все хорошо, тетка не болеет и собирается в скором времени приехать сюда. И отец остался доволен и начал говорить о том, что и у него дела идут неплохо, завтра он отправится промышлять белку и соболя.
– А не хватит ли промышлять-то?.. – недовольно сказал Галдан. – Силы-то у тебя уже не те, а места здесь чужие, снежные, тебе придется нелегко.
Галдан не видел выражения лица у старика, но, кажется, тому не поправились слева сына, он что-то пробурчал под нос, и тотчас собака, которая неотступно следовала за ними, забеспокоилась, тихонько заскулила, а потом подошла к Галдану и, недовольно урча, обнюхала его. Галдан улыбнулся, он с малых лет привык к тому, что собаки у отца толковые и чутко реагируют на настроение хозяина. «Мои глаза и уши», – случалось, говорил про них отец, и это было верно.
Галдан не сразу, но вспомнил, что эту собаку зовут Булганом – Соболем, значит, а мать ее осталась на старом подворье и теперь сторожит их родной дом. Та собака совсем постарела, но отец не забывает ее, случается, приезжает в деревню и кормит бараньими костями.
…В доме младшего брата стол уже был накрыт, дымилась горячая похлебка. Галдан не виделся с отцом полгода. За это время отец вроде бы внешне не изменился, однако же при внимательном взгляде на него можно было заметить и что-то новое, появившееся в его облике. Он слегка похудел, черты лица стали острее и в глазах какое-то грустное выражение.
Галдан проснулся рано. Так велел отец. Нынче идти на охоту. Они наскоро позавтракали, стали собираться. Но тут начали подходить люди, все больше молодые, охотники, рыбаки… Заговорили о тайге да о северных реках, о том, что надо бы побережливее относиться ко всему этому. Они рассуждали как хозяева, это было приятно Галдану, и он не заметил, как втянулся в разговор. Изредка Галдан взглядывал на отца и видел заметное оживление на его лице. Старику трудно было усидеть на месте и он то и дело выходил в сени, а то вдруг начинал отмерять быстрыми шагами комнату. «Волнуется, – подумал Галдан. – Впрочем, перед охотой он всегда волнуется». Только прежде, и это тоже заметил Галдан, он не был такой суетливый и не подходил ежеминутно к поняге, проверяя, не забыт ли чего…
И такого вот тоже не случалось… Старик вдруг схватился за голову, потом вышел во двор. Его долго не было, когда ж он вернулся, лицо у него было и вовсе растерянное.
– Что-то потерял? – спросил Галдан.
Старик даже не посмотрел в его сторону. И в это время в избу вошла собака, держа в зубах старые болотные сапоги. Отец смахнул со лба дот, улыбнулся виновато. Галдан нахмурился. Он видел эти сапоги в сарае, и старик тоже видел, с утра они вместе как раз ходили туда и говорили, что надо взять их. Стареет отец. До охоты ли нынче, коль стал такой непамятливый, вдруг да и заплутает и не отыщет старые метки?..
Но он ничего не сказал отцу, не посмел, старик может обидеться и уж тогда вовек не простит.
Галдан знает: сразу же по приезде в Новый Уоян старик заключил договор с промысловым хозяйством и должен поставлять ондатру и белку, а также соболя. В лесу он построил зимовье на тот случай, если придется подолгу жить в тайге.
– Нам надо проверить его, – сказал старик, глядя на Галдана. – Дров заготовить, припасы завезти. Думаю, что в этом году будет много белки и соболя. Недавно выходил за деревню, видел следы пушных зверьков, есть даже тропки… – Он помолчал, снова посмотрел на сына: – А ты можешь не идти, если не хочешь…
– Вот еще! – нахмурился Галдан. – Пойду… Чего же я?..
Еще летом Галдан обещал отцу приехать на охоту, и старик все ждал его, а не то он уже давно был бы в тайге. Кстати, старик несколько раз звонил ему в город и все спрашивал, когда он приедет. И это тоже было нечто новое в характере отца, прежде он не был так настойчив.
Галдану отчего-то вспомнился его первый приезд в Уоян. Было это десять лет назад, когда вся страна заговорила о строительстве северной стальной магистрали. В зимнюю стужу он приехал сюда с молодежным строительным отрядом. Правда, не в этот поселок, а в старый Уоян, где, как знал, живут хамниганы[6]6
Хамниганы – потомки одного из бурятских родов.
[Закрыть].
Вертолет высадил его на площадке, разбитой посреди леса, чуть в стороне от поселка, и снова набрал высоту… Было уже поздно, гасли звезды в небе. И, пока Галдан дошел до поселка, стало темно. Он с трудом отыскал сельсовет, но на двери старого бревенчатого дома висел большой ржавый замок. Он помедлил и пошел дальше, раздумывая, что делать… Подул сильный ветер, и мороз усилился. Гостиницы тут или общежития наверняка нет. Можно было, конечно, чуть раньше уехать с парнями, которые прилетели с ним, и переночевать у них в палатках. Но ему хотелось поговорить с местными жителями, приглядеться к тому, как живут они. Вот и остался…
Он шел по улочке поселка, раза два встречал припозднившихся людей, спрашивал, где отыскать председателя сельского Совета, но те лишь понимали плечами. Галдан вовсе растерялся и уж подумывал, что придется ночевать под открытым небом. Странно, что и ночь эта казалась ему необычной, вроде бы была она суровее и непрогляднее всех тех, что видел в своей жизни. Вконец смутившийся, он подошел к какому-то большому, под тесовой крышею, дому с закрытыми окнами, помедлил, постучал в ставень. Долго прислушивался, не отзовется ли кто-нибудь. Не дождался. Прошмыгнул в калитку, поднялся на крыльцо, торкнулся в дверь. Оказалось незаперто. Сквозь щели пробивался желтый свет лампы. Он словно бы подмигивал и приглашал войти. И Галдан уж собирался так и сделать, негромко кашлянул и взялся за скобу, и в это время откуда-то выскочили две здоровенные собаки и с громким лаем набросились на него. Галдан вскрикнул и побежал назад, к калитке. И тут он услышал, как кто-то закричал: «Воры! Воры! Караул!..» А потом раздался выстрел из ружья, и Галдану почудилось, что пуля просвистела у него над головою, но, может, это было и не так вовсе, потому что Галдан был словно бы не в себе, не соображал, что с ним и куда он бежит в этакую темень. Когда же пришел в себя, увидел, что находится в глухом лесу и одежда на нем насквозь промокла. Надо было разжечь костер да обсушиться, а то и вовсе станет худо, задубеет одежда и покроется ледяной коркою. Но Галдан не курил и у него не оказалось при себе спичек. Он вздохнул, подумал с досадою: «Сам виноват… Надо было пораньше прилететь. Были же еще вертолеты. Так нет же, промешкал… А местные жители что ж, они, наверно, напуганы разговорами о том, что строители дороги изведут тайгу, зверей всех погубят и оставят их без промысла, которым занимались прадеды, деды, и они сами с малых лет».
А одежда меж тем покрылась ледяною коркою, и Галдану ничего другого не оставалось, как идти обратно в поселок. Помедлив, он так и сделал. И, окруженный собаками, которые, не переставая, лаяли на него, Галдан подошел к сельсовету, поднялся на невысокое крыльцо и надавил плечом на дверь… Кажется, он сломал замок, весь дрожа от озноба, ввалился в избу и упал возле печки, К счастью, в сельсовете было натоплено, и спустя немного озноб плошал. Галдан почувствовал себя лучше, разделся и развесил одежду на стульях.
Чуть свет его разбудил председатель сельсовета. Им оказался один из самых старых хамниганов, нерослый, худой, с редкими черными волосами на подбородке. Узкие глаза его недружелюбно блестели, когда он сказал:
– Это что же получается? Без спросу зашли в сельсовет, сломали замок… Я обязательно доложу про вас начальству. Черти что!.. Уж очень много появилось в последнее время в нашей тайге людей, навроде вас, которые ни с чем не хотят считаться. – Галдан попытался объяснить, кто он и зачем приехал сюда, но старик не захотел и слушать: – А чего искать меня? Я все равно не был вчера дома, ездил в гольцы проверять оленье стадо.
– Я бы, конечно, не сделал так, но… – виновато проговорил Галдан. – Зашел в какой-то дом, хотел попроситься переночевать, а на меня набросились собаки. Потом кто-то стрелял. Странные люди. Нашли вора!..
– Еще легко отделались!.. – усмехнулся старик. – А что до воров, так… Вон в прошлом месяце лошадей украли, а позавчера зашли в один дом и утащили ружье и охотничий нож. Так что воры есть нынче. Понаехали!.. До недавнего времени мы двери-то не закрывали в избах. Привычки такой не было.
Взгляд у старика был тяжелый, давящий какой-то и Галдану сделалось не по себе, но все же он поднял голову, и старик не выдержал его взгляда, отвернулся.
– Нельзя каждого нового человека принимать за вора, – сказал Галдан. – Пора привыкать к людям… Скоро у вас тут начнется такое строительство… фабрики появятся, заводы… Так что привыкайте жить среди людей.
Старик сделал вид, что не услышал, о чем идет речь, однако ж это было не так, и потому, как глаза у него пуще того сузились и сделались колючими, злыми, Галдан понял, что он все услышал. В тот раз Галдан побывал во многих местах, где пройдет железнодорожная магистраль, и везде ему чудились глаза старого хамнигана, и на душе делалось неспокойно.
С тех пор прошло десять лет, уже проложена северная железная дорога, построено немало новых городов и поселков, многое забылось за это время, а вот глаза старика хамнигана все еще помнятся… Вот и теперь он мысленно увидел их, вздрогнул от неприятного ощущения, и это не осталось незамеченным.
– Что с тобою? – сказал отец. – Ты вроде бы с лица спал… Может, устал с дороги и не пойдешь со мною в тайгу? Так ты скажи, я пойму…
– Нет, нет, – испугался Галдан. – Я ж специально для того и приехал, чтобы день-другой побыть с тобою.
– И ладно, – сказал отец. – Значит, скоро и тронемся…
II
Их было четверо, отец с Галданом и двое русских парней. Машина подвезла их к самому подножию высоченной горы, поросшей низкорослым, почти карликовым на самой вершине ее, лесом. Вообще-то поначалу они решили взять с собою еще и собаку, но потом раздумали. Раньше времени собаке в лесу делать нечего, может распугать белку, и та уйдет. Случалось и такое.
Того парня, что постарше да в плечах пошире, звали Егором, а светловолосого, с большими голубыми глазами – Пашкою. У них была лицензия на отстрел зверя, и они хотели взять его, будь то сохатый или изюбр, до начала белкования. И теперь негромко говорили о том, где лучше всего это сделать, на какие солонцы надо будет сходить.
А потом они заговорили, какою тропою нынче идти до зимовья: тою ли, что протянулась до самой вершины, или же идти в обход горы. Галдан слушал, ловил на себе обеспокоенные взгляды парней и долго не мог понять, что тревожит их.
– Лучше, конечно, идти в обход. Земля уже подмерзла, и болото не страшно, – сказал Егор, поглаживая ладонью рыжие, обвисшие у рта усы.
– В случае чего, и шесты там есть, я еще в прошлом году сделал, – проговорил Пашка. – Так что ничего страшного…
Отец молчал и только изредка поглядывал на сына, словно бы ждал, а что скажет он. Но Галдану нечего было сказать, для него тайга в диковинку, он и не знает ее вовсе. К тому же он вдруг понял, отчего в глазах парней то беспокойство, с каким они смотрели на него. Конечно же, те думают, глядя на него, располневшего и не больно-то поворотливого, что он не выдержит трудного пути, раскиснет. «Ну уж нет! – мысленно сказал Галдан. – Я еще…» Не скоро, но он все-таки совладал с досадою и спокойно произнес:
– Пойдем так, как лучше. И не бойтесь вы за меня. Я, слава богу, походил по земле…
– Тем лучше, – обрадовались парни и стали пристраивать за спины большие, пуда до два, рюкзаки.
Отец едва приметно улыбнулся, и Галдан догадался, что отец оттого и не принимал участия в разговоре, что ждал, как решит сын. И как он решит, так и будет.








