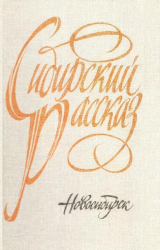
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
ДОЛЖНИК
– Считай, Петровна, считай, – говорил управляющий Шаимским промыслово-охотничьим отделением Прокопий Кузьмич Барышев бухгалтерше, полной светловолосой женщине.
– Тридцать пять тысяч перечислили строителям, – докладывала бухгалтерша. – Семь тысяч геофизикам за…
– Знаю, знаю, – остановил ее управляющий. – Ты мне Пакишева давай. Смех ведь на всю округу: четвертый год не можем с мужиком рассчитаться.
Костяшки конторских счетов с громким стуком набирали какое-то грозное число. Управляющий нервно постукивал пальцами о стол.
– И зачем Пакишеву такие деньги? – разговаривала с собой бухгалтерша. – Ну, в Москве бы жил… А то в тайге, в болоте… Семнадцать тысяч! – вдруг суровым и решительным голосом сказала она, словно сердясь, что вот не хотела, а все-таки пришлось назвать эту сумму.
– Семнадцать тысяч, – шепотом произнес управляющий, – это же для меня сейчас разор! Это я что буду делать?! – жаловался он бухгалтерше. Та молчала.
– Дядя Прокопий, дядя Антэй идет! – раздался с порога многоголосый хор. У двери, будто стайка морозных снегирей, теснились малыши. – У него за спиной красные лисицы и соболи, – дружно продолжали они.
Управляющий торопливо поднялся из-за стола, досадливо махнул рукой.
Малыши, толкаясь, с шумом высыпали на улицу. Бухгалтерша подошла к окну, глядящему на таежную дорогу маленького поселка.
Прокопий Кузьмич думал. Кустистые брови его ощетинились, морщины на лбу набегали, как волны, одна на другую.
– Петровна, скрывайся! – скомандовал он. – Хоть в подвал лезь, но чтоб никто не сыскал тебя.
Бухгалтерша торопливо оделась и – как растаяла. Минут пять спустя в контору устало вошел невысокий человек с ружьем на плече. Его старая солдатская шапка, с метами огня ватник, подпоясанный широким кожаным ремнем, на котором неразлучно соседствовали патронташ и нож в деревянных ножках – все выдавало в нем следопыта.
Управляющий встретил охотника, будто брата родного: обнял, чмокнул в пахнущую хвоей щеку, дружески похлопал по плечу:
– Пася, пася[30]30
Пася – здравствуй.
[Закрыть], Антэй Иванович. Проходи. Будь дорогим гостем. Рассказывай, как лес живет.
– Ате[31]31
Ате – разговорное восклицание.
[Закрыть], погоди немного, – сказал охотник, снимая ружье и напу[32]32
Напу – заплечное приспособление для переноски груза.
[Закрыть] с притороченными к ней шкурами красных лисиц и соболей.
Управляющий отошел на середину комнаты, сел за свой начальнический стол. Молчал, внимательным взглядом следя за гостем.
Охотник опустился на скамью, что стояла у окна, напротив стола управляющего. Взгляды гостя и хозяина встретились. Столько доброй печали стояло в глазах следопыта, что управляющий невольно поежился. Подумалось: «Один ведь, как дерево на откосе… Тоскует, поди…» Этот печальный и волнующий взгляд просил, как показалось управляющему, участья и помощи.
– Сколько? Сколько, Антэй Иванович, выдать тебе… Пять, семь тысяч? – виноватым голосом начал Прокопий Кузьмич. – Больше не в силах. Войди в наше положение…
– А я не прошу, Прокопий Кузьмич. – тихо сказал охотник. – Хлеб, сахар есть. Остальное тайга дает… Куда мне деньги? Храните, используйте…
– Ну-у! Так не годится, – нахмурился управляющий, покачав головой. – Деньги твои, тебе и распоряжаться жми.
Охотник с горькой усмешкой махнул рукой.
– Избушки вот совсем развалились. Подправить надо. Сам я, видишь… – и он показал управляющему руки, потемневшие, в бесчисленных рубцах морщин.
Прокопий Кузьмича будто солнцем осветило.
– Какой разгово-ор! Мы хоромы отгрохаем тебе, Антэй Иванович.
– Прокопий Кузьмич… – с укоризной глянул на него охотник.
– Завтра же, завтра пошлю к тебе парней. Они тебе бор переставят, если надо, – будто орехи, сыпал слова управляющий.
– Завтра не надо. Денька два отдохнуть надо. Ноги болят.
– Как хочешь, Антэй Иванович, так и будет. Отдыхай на здоровье. Заслужил.
Минула неделя после этого разговора. И в тайгу к Антэю Ивановичу вертолет доставил двух парней, мастеров плотницкого дела.
– Дворцы тебе строить приехали, Антэй Иванович, – шутили парни.
Охотник улыбался. На редкость доброй была у него улыбка. Его узкие глаза манси будто источали лучи ясного душевного света.
В уютной охотничьей избушке Антэй Иванович угостил парней тетеревиным супом, морошковым вареньем, чаем, настоянным на чаге. Гости с азартом и аппетитом принялись за вкусные таежные блюда.
– Этот тетерев, видать, самыми вкусными ягодами питался.
– Какой аромат у морошки! Несравни-и-мый!
– После такого чая бревна, как ветки, носить буду.
Антэй Иванович счастливо улыбался. После обеда он сказал гостям:
– Однако, ребята, соболя погляжу. Отдыхайте пока.
Шершавый мартовский снег не давал скольжения лыжам. Экономя силы, охотник шел ровно, неторопливо. Дорогу он вел кедрачом. Выйдя на берег небольшой речушки, Антэй Иванович остановился и, схоронись за степу пахучих веток, в просветы их стал пристально вглядываться в разлапистый дуплистый кедр, стоявший по ту сторону крутого увала, на обрыве.
«Так и есть – в дупле хоронится», – подумал охотник и пошел обратно в глубь бора. Обогнув увал, он круто повернул лыжню на север, снова к речушке. Вот и дуплистый кедр. Теперь охотник видел дупло сбоку. Видел его одутловатые морщины. «В самый раз место, – подумал Антэй Иванович. – Сейчас одной дробиной свалить можно», – и стал нацеливать мушку на срединный край дупла. Охотник приготовился к долгому и терпеливому ожиданию: ствол ружья покоился на толстой ветке, широкие лыжи держали надежно и удобно. И лучи солнца помогали: они сквозили со стороны спины, четко высветляя дупло.
Черная шустрая головка зверька выглянула на мгновенье из дупла и, видимо, захлебнувшись потоками грянувших запахов, скрылась. Охотник выжидал спокойно. Он знал характер соболя. Успокоившись, соболь решил по-серьезному почувствовать день. Он положил лапки на переднее ребро дупла, вытянул головку. В этот миг грянул выстрел…
– Эх, Прокопий Кузьмич, Прокопий Кузьмич… – говорил охотник, гладя узловатой рукой теплую шелковистую спинку соболя. – Это я – должник. Чем же я буду расплачиваться с тайгой?..
ТИМПЕЙ
В четвертый раз отправился Тимпей искать себе жену. Надел белую, расшитую мансийским орнаментом рубаху, подпоясался старым комсоставским, со звездой, ремнем, палку в руку – и застучал посох по корневищам расступившихся деревьев, указывая путнику верное направление.
Был Тимпей для своих пятидесяти с лишним лет моложав. Крепенький, жилистый, густобровый. Одно горе – слеп.
Дивились в деревне Тимпею. Неугомонный. Куда иному зрячему до него. Огород содержит в порядке сам. Какая помощь от престарелой матери? Видимость одна. Бродни шьет сам. Ремонт в доме делает сам. Ну, если, к примеру, крышу чинить, то здесь без подмоги трудно. Детвора деревенская по такому случаю гурьбой собирается к Тимпею. Кто гвозди ему подает, кто тесину поддерживает, чтоб ловчее ее было приколачивать.
И рыбу удил Тимпей. И в кино ходил. Перед началом сеанса обязательно осведомится у киномеханика: «Об чем кино? Соль какая?» А потом сидит настороженный. На слух ловит. Словом, жил он с виду, как все в деревне.
Ослеп Тимпей в тридцать лет. То ли контузия, полученная на фронте, сказалась, то ли простуда головы: провалился во время рыбалки в полынью, но зрение он потерял навсегда. На эту беду и жена ушла от него. Ох, и горевал Тимпей. Хотел застрелиться. Раздумал: мать стало жалко. И так она из-за него исстрадалась. А наложи он на себя руки – не выдержит мать горя. Выбросил он ружье в реку. Притих. Вроде смирился с бедой. Выйдет утром на завалинку, сидит, будто каменный. Слово не обронит. Только вздыхает и думает о чем-то. Иссушили бы горькие думы Тимпея. Спасибо председателю колхоза Терентию Егоровичу Пикуреву. Собрал он членов правления, сказал:
– На наших глазах, мужики, погибает Тимпей. Помочь надо. Не приведи господь такую беду любому из нас. Занять надо делом человека. Нужным обществу сделать. Тогда и думы тяжелые спадут.
Приставили на первых порах к Тимпею подмогу – пятнадцатилетнего Мишку Шилова. Чинили они на пару конскую сбрую, мастерили кибасья для невода, пайбы, да мало ли какая работа найдется в большом хозяйстве. Так, постепенно, со временем и втянулся Тимпей в жизнь колхоза, деревни. Стал незаменимым по исполнительности и мастерству рук человеком. Сам окреп духом, поверил в себя…
Стучит посох по корневищам. В четвертый раз идет Тимпей в соседнюю деревню сватать себе жену. Идет Тимпей. Нервность чувствуется в его лице. Запахи, краски леса и неба начинают атаку на слепого. Запах несет цвета. Они приходят почти одновременно: запах – цвет, запах – цвет. Вот наплыл нежно-горьковатый разливистый аромат. Густо-бордовые ягоды замерцали перед глазами. «Брусника цветет», – шепчет Тимпей. Все ему знакомо. Ветром нанесло густой смолистый запах, и, почти обгоняя мчащиеся цепочкой ягоды, замельтешила густо-изумрудная, в голубой оболочке хвоя кедров…
Дорога лежала в тени, поросла травой. Кому ходить по ней? Деревня предпочла пеший ход подвесному мотору. Но Тимпея не заманишь в лодку. Что почуешь на воде? А тут хоть жизнь леса чувствуешь, ощущаешь. Хорошо сидеть в прохладной траве. И вздремнуть можно. Положив голову на руки, Тимпей уснул.
И поле приносило слепому отдых, душевное успокоение. Ветер по-матерински ласкал лицо. Рожь, будто живое существо, десятками пальцев, ощупывала его, вселяя бодрость и терпение.
Вернулся Тимпей в деревню поздно вечером. Его вела под руку среднего роста, с задумчивым тихим лицом пожилая женщина. Дорога из леса шла к избам под уклон. Отсюда, с опушки, деревня проглядывалась из конца в конец. Путники остановились.
– Кажись, туман, Кланя? И луна… чую.
– Туман, Тимоша… Как хорошо-то, озерно вокруг.
Туман и вправду висел над деревней сизо-голубыми озерами. Луна лила и лила в эти сказочные чаши серебряный свет.
– В эту пору, Кланя, рыба, говорят, не спит. На луну ей налюбоваться надо. Вынырнут из глуби окуни, зырк-зырк и – обратно. И так всю ночь.
– Надо же…
Глаза Тимпея словно прозрели: в них угадывалась радость и благостное волнение души.
– Мою избу отсюда видать, Кланя. Влево смотри. У сломанного кедра она. Лонись молнией снесло верх.
– Вижу. Огонек светит в окошке.
– Мать ждет.
Путники пошли на огонек.
ОБМАН
«Мама, – писал Сталине Егоровне старший сын Андрей, – пришли мне чего-нибудь домашнего. Ну, шанежек, сахарных дорожников, калачиков сдобных. Осточертела мне эта столовая. Девчонки-повара молоденькие, готовить ничего не умеют. Да и блюда одни и те же каждый день. Так что выручайте, а то сбегу…»
– Не сбежи-ит, – почему-то повеселев, сказала Сталина Егоровна, женщина лет сорока пяти. Лицо ее хранило явные следы косметики: припудрено, подкрашено, подрисовано, и трудно сказать, какое же оно – настоящее.
Письмо Сталина Егоровна читала вдвоем, с десятилетним сыном Юрой. Сын, в отличие от матери, посерьезнел, сказал:
– Скучает, наверно, Андрей. Давай, мама, напекем ему всяких постряпушек и отвезем?
Мать помолчала, вздохнула:
– Доедем до Рябинова, а оттуда как? Ноги у меня больные. Дорога – не приведи бог.
– Там я один доберусь, – решил Юра. – Переночую – и обратно. В обед ты за мной приедешь, а, мам?
– Разве только так, – подумав, согласилась Сталина Егоровна. – Смотри, чтоб в обед был на берегу. Я буду ждать.
– Обязательно, мама.
Разговор этот произошел в полдень безоблачного июньского дня.
Назавтра, на заре, маленькая осиновка, подгоняемая легким попутным ветром и двумя веслами, вышла в озеро Туман. До Рябинова, заброшенного поселка, рукой подать – восемь километров. Доехали быстро. Высадив сына на берег и закидав его наказами, Сталина Егоровна отправилась в обратный путь. Юра долго смотрел вслед матери. Ему стало тоскливо. И, чтобы скорее избавиться от этого щемящего душу чувства, Юра – с паевкой за плечами – быстрым шагом вышел на таежную дорогу, глухую, всю в колдобинах, залитых водой. Деревья стояли тут в три яруса. Возвышаясь над мелколесьем, огромные кедры и ели закрывали небо. Мрачно, сыро и одиноко. Хоть бы птицы пели, и то веселей. Но ни свиста рябчиков, ни стука дятлов. Словно вымерло все живое. Зато комаров – тучи.
В угрюмом месте пролегла дорога между Рябиновом и Сосновским леспромхозом, где работал бензопильщиком брат Юры. И хотя дорога сплетала шестнадцать верст, мало охотников находилось на этот путь. Обычно из Юриной деревни в леспромхоз добирались на моторках кружным путем – через Туман и Черную речку, на которой стояло Сосновое. Но у Юры не было мотора, да и будь он – никто не отпустил бы парнишку одного на просторы коварного озера. А этой, пешей дорогой, Юра уже однажды ходил, правда, вместе с братом. Знакомым путем как-никак увереннее шагать.
Брат, кряжистый, округлый, с насмешливыми карими глазами, встретил Юру с восторгом. Обнял и все приговаривал:
– Ну, геро-ой! Ну, молоде-ец! Такой лес одолел. Не боялся?
– Не-е, – смущенный похвалой, тихо сказал Юра.
– Вот и хорошо, – Андрей усадил брата на табурет. – Принес крендели-калачики?
– Вон, целая паевка.
Андрей схватил паевку и, улыбающийся, веселый, стал доставать, выкладывать на стол домашние яства: пирог из сырка, фаршированную щуку, стряпню.
– Осчастливил ты меня, браток, осчастливил, – сиял Андрей. – Спасибо.
…Утром, когда еще Юра спал, Андрей сходил в контору. Вернувшись, разбудил брата.
– Вставай, Юрок. В проводники меня к тебе назначили.
– Как… в проводники? – не понял со сна Юра. Потом, взглянув на лицо брата, обрадованно схватил его за руку:
– А-а, к Туману проводишь, да?
– До Сенькиного увала. Времени в обрез, Юра.
Дорогой Андрей рассказывал смешные истории. Юра от души смеялся. Настроение у него было отличное. Да и как иначе: рядом брат, погода ясная, значит, мать приедет вовремя встретить его. А какие подарки несет он в паевке! Себе – черный костюм к учебному году. И для матери есть обнова – дорогое зеленое платье. Расставаясь, Андрей обнял брата, сказал:
– Ну, счастливо тебе добраться, матери поклон!
Озеро Туман встретило мальчика ровным плеском волны, свежим и душистым дыханьем синего простора. Вдали летали чайки. Лодки с матерью почему-то не было. «Наверно, рано пришел», – утешил себя Юра, оглядывая берег, в надежде найти обдуваемое со всех сторон место – спасенье от комаров. Он увидел в воде старую, видно, недавно упавшую с обрыва сосну. Она держалась над водой на высоких сучьях – подставках. «Тут и вздремнуть можно», – подумал Юра. Он спрятал паевку в корневище, сам, с фуфайкой в руке, взобрался на ствол. Пристроив фуфайку над головой, мальчик удобно улегся в вершине дерева – в своеобразном пологе из сучьев и веток, И уснул.
Проснулся Юра от чувства смутной тревоги, словно кто-то толкнул его. Он испуганно поднял голову, огляделся. Под ним, набирая силу, шумели волны.
– Мама, я здесь! – закричал Юра.
Берег молчал. Юра схватил фуфайку, пробежав по стволу, спрыгнул на песок. Лодки не было. «Где же мама? Что с ней?» – с тревогой и наплывающим страхом спрашивал он себя, вглядываясь в потемневший далекий мыс, за которым была его деревня.
Странная, настороженная тишина стояла над лесом. Туман ворчал, темнел. Чайки как в воду канули.
Позади Юры громыхнул гром – глухо и вяло. Мальчик оглянулся. С запада, закрывая небо, медленно надвигалась черная туча. По спине мальчика пробежали холодные мурашки. «Гроза. Что же делать?»
– Мама, мама, что с тобой?! Где же ты?! – снова закричал Юра, не спуская глаз с далекого темного мыса. Слезы страха, обиды и жалости подступили к горлу. Гулкий раскат грома словно подстегнул Юру. «Что же делать? Что делать?» И пришло упрямое и ясное решение: «Пойду пешком».
Пеший путь от Рябинова до Юриной деревни все-таки был. Но три глубоких, хотя и небольших речки, которые пересекали эту дорогу, практически закрывали ее для пешеходов весной и летом. Речки впадали в Туман. Они-то и стали теперь опасной преградой на пути к дому. Юра ловко и быстро соорудил маленький плотик – ветками ивы связал три доски. Положил на них одежду, паевку и поплыл.
Первая речка шириной метров пятнадцать. Толкая перед собой плотик, Юра довольно легко одолел ее. Наспех одевшись, закинул паевку за плечи, побежал что есть силы. Гром торопил мальчика. Туча, закрыв полнеба, посерела.
Вторая речка встретила Юру суматошным криком ворон. Не по себе стало ему от их тревожного гама.
– Чего раскричались?! Без вас тошно! – кричал Юра, бодря себя. – Кыш, проклятые!
Вода была черной до жути. Толкая плотик, мальчик старался не смотреть на нее, погрузился до плеч и поплыл.
Достигнув берега, пошатываясь от усталости и напряжения, Юра окинул взглядом Туман. Воды его были в шапках кипящей пены. Завывал ветер. Свирепел гром. Юра, мокрый, задыхаясь, бежал и бежал.
Метров на сто разлилась третья речка. Обычно на этом, Юрином, берегу стояла лодка. Сколько помнит Юра, она всегда была тут, словно навек причаленная к двум красным соснам. Вон и сосны. Где же лодка? Лодка стояла на той стороне. Без нее разве одолеешь такую ширь?
Юра заплакал. Слезы так и хлынули из его глаз, видно, много их накопилось в душе мальчика за этот путь.
Гром раздвинул небо над головой, капли дождя смешались со слезами Юры. «Если сплавать за лодкой? – мелькнуло в голове мальчика. – Доплыву, доплыву…» – непонятная злость вдруг охватила его.
Когда он плыл, он не ощущал своего тела. Оно словно одеревенело – столько страха, обиды, упорства и желания добраться домой было в нем.
В лодке, с веслом в руках, Юра, словно очнулся, словно заново обрел ощущение реальности – себя, неба и воды. Гром ревел, как медведь. Дождь лил сплошным потоком. Гроза разбушевалась во всю свою молодую яростную силу.
Юра не помнил, как он добрался до спасительного берега деревни. Его била дрожь. Зубы стучали. Кое-как одевшись, он, словно безумный, побежал с распахнутыми, застывшими в ужасе глазами.
Опомнился Юра, когда увидел мать. Она сидела за столом в компании мужчин, веселая, с рюмкой в руке. Увидев белое, изможденное лицо сына, Сталина Егоровна охнула, рюмка звенькнула об пол.
– Мама… Почему ты стала обманщицей? – спросил Юра сухим дрожащим голосом.
Митхас Туран
ТОПОЛЯ
Сколько ездит дед Сарап этими проселками, никак не привыкнет к надрывному реву мотора и страшной тряске. Вот и сейчас все вокруг переворачивается, перебалтывается, кувыркается. Даже деревьям на горных склонах, должно быть, нет покоя от лязга и грохота на этой проклятой ухабистой дороге. Пыль лезет во все дыры старенького автобуса, густо оседает на пассажирах и через те же дыры вылетает из него, смешиваясь со смерчем, поднимающимся позади машины. Но люди все равно едут и едут, держатся, кто как может, и глотают пыль, и клянут и автобус, и дорогу, и жаркую погоду, как кляли бы дождь, потому что тогда бы машина елозила по грязи, застревала в глубоких колеях и рытвинах, а вода заливала всех через те же дыры.
Дед Сарап крепко держался за блестящий поручень на переднем сиденье, будто самым главным для него было не выпустить эту железку из рук.
Несмотря на сущий ад, пассажиры не переставали разговаривать между собой, обращались изредка и к старику, но тот, зная свою глухоту, не слушал, о чем ему говорили, и на любой вопрос отвечал односложно: «Ы-ы, я-я…», вроде бы поддакивая и заранее соглашаясь с собеседником. Кое-кто знал его. Знакомые люди и усадили деда в автобус, освободили для него место и наказали крепче держаться за поручень перед собой.
Старику было приятно, что люди отнеслись к нему с уважением. Его радовало, что даже автобус торопится скорее везти – вон как растрясло! Он чувствовал, что приближается к родным местам, где вырос и прожил долгую жизнь. От всего этого и самого деда потянуло на разговор.
– Торай, наверно, уже дома, – обратился он к сидевшей рядом молодой женщине и насторожился: не покажутся ли ей смешными его слова? Такое не раз случалось… Соседка не отозвалась. Зато обернулась другая – постарше, в цветастом платке.
– Кто-кто? – спросила.
– Торай, говорю, дома уже должен быть. Он на войну ушел, мой сын. Разве не знаете?
Старик уставился на нее слезящимися глазами.
– На какую войну?
– Ну, которая при Сталине была… – в голосе старика звучала укоризна: как можно такое забыть! И тут же он заметил, как женщина в платке толкнула соседа, как они перемигнулись.
Опять то же самое! На него стали украдкой показывать пальцами: дескать, из ума дед выжил!.. Тоскливо стало от того, что многого люди не хотят понять, думают только о себе, будто только они и делают все правильно, а другие, как вот он, например, сам не знает, что плетет… И снова стало казаться, что ни дороге, ни тряске, ни забившей глаза и глотку пыли конца не будет. И он еще крепче вцепился в поручень, потускневший от пота и грязи, – только бы с сиденья не сбросило…
Когда-то темно-голубой, автобус все-таки остановился, окутавшись непроницаемым облаком пыли. С всхлипыванием и скрежетом отворились двери. Со ступенек ловко соскочили двое молодых людей – длинноволосый парень в туго обтянувших ноги джинсах и девушка в ярко-красной широченной кофте. Кроме них, никто не выходил, но шофер дождался, пока дед Сарап выставил из автобуса свой посошок, опустил с подножки на землю одну ногу, приставил вторую, пока не сделал несколько шагов. Лишь тогда захлопнулась с тем же скрипом и скрежетом дверь, мотор глухо, как собака под крыльцом, рыкнул, и автобус, постреливая вонючим дымом, умчал вперегонки с дорожной пылью.
Поначалу дед даже не понял, где он вылез, – уж не ошибся ли? Очень изменился его аал. Покривились еще сильнее старые избушки, крытые лиственничной корой и дранью, а некоторые вообще остались без крыш. Но за штакетными оградами выросло много нарядных домов.
Увидев в верхнем краю аала ряд высоких тополей, старик успокоился, поправил узелок за спиной и засеменил, торопливо переставляя ноги. Его посошок бодро постукивал в такт шагам по плотно убитой дороге. Новенькие, еще не разношенные ботинки сначала шаркали, почти волочились по земле, а тут затопали, точно настоящие солдатские сапоги, торжественно ступающие на марше.
Старик очень спешил. Казалось, он торопится уйти, убежать от всего, что клонит его к земле, – выскочить из суконного пальто, большого не по росту и не по погоде, избавиться от заплечного груза, не такого уж и большого, выкарабкаться из своих долгих-предолгих лет в этот солнечный полдень, сбросить особенно тягостные и нудные своим однообразием последние годы. Но разве убежишь от себя? И сердце не выдерживало. Он останавливался, тяжело, со свистом дышал. Снова спешил к тополям, возле которых был его дом, и снова останавливался.
Он снял поношенную шляпу, повесил на палку и оперся грудью. Вытащил из кармана белый платок, встряхнул его, чтобы весь развернулся, провел им по белой голове, по белому, заросшему редкими волосами лицу, вытер почти прозрачную морщинистую шею. А сам неотрывно глядел на тополя, до которых оставалось совсем недалеко. Осторожно протер платком мутные, как запотевшее стекло, глаза с вывернутыми веками. Задышливо прокашлялся. Прислушался, словно надеялся услышать шелест листьев на тополях, и опять заторопился, будто всей целью его нескончаемо длинной жизни были эти деревья. Как они разрослись! Какие большие листья на них! Как машут они ветвями, словно зовут к себе… А вон, за тополями, и крыша его дома… Вон сам дом… Уже и крыша видна.
Дед Сарап своими руками поставил этот дом на яру, над рекой. В нем жена его Хызина родила пятерых сыновей и дочь. Сыновья – все пятеро – ушли на войну. Ушли и не вернулись. На четверых – Арапа, Маркиса, Сарапина и Кабриса – пришли похоронные. С этим старик согласен.
У народа много сыновей полегло на той войне. Что поделаешь? Но самый младший, Торай, написал, что обязательно вернется. Незадолго перед победой пришло от него письмо. И вот уже сколько лет прошло, как война кончилась, а его все нет и нет…
Какие бы ни проносились над землей ураганы, как бы ни свирепствовали морозы и разливались реки, – люди живут. А дороги могут быть всякие. Мало ли что может задержать человека в пути? И если Торай не смог добраться до родного дома все эти годы, то нынче-то обязательно вернется! Его же отец с матерью ждут.
Пока были силы, Сарап и Хызина жили здесь, в своем доме, – ждали Торая. А когда не могли больше управляться с хозяйством, дочь Нони увезла их к себе, в тот аал, куда вышла замуж. Зять их из рода алжыбай, из хороших людей. Чабан. Жить с ним легко. Но у Сарапа свой род, свой дом, свои заботы. Торай должен вернуться к родительскому очагу, и потому каждое лето старики приезжали сюда.
Нынче старуха сильно сдала, пришлось положить ее в больницу. Дед Сарап поехал один. Прежде брал для Торая много гостинцев, и обязательно самое его любимое – хурут и хаях-пичиро[33]33
Хурут – домашний сыр; хаях-пичиро – специально приготовленный хурут с топленым маслом.
[Закрыть]. В этот раз, так уж вышло, прихватил с собой только засохшие каральки и конфеты.
Кто-то показался впереди на дороге. Старик хотел пройти мимо, не заметить: ни к чему лишние встречи, лишние разговоры, они не приближают главного, а он спешит.
– Боже мой! Никак дед Сарап! – Паюса-килин, невестка брата Охчына, испугалась, назвав старика по имени, – не положено так обращаться к старшим, но дед, похоже, и не слышал ее возгласа, шел прямо, постукивая палочкой.
– Отец Торая! Куда вы? – громко окликнула его Паюса и, переваливаясь уткой, кинулась к старику, ухватила за рукав.
Сарап выкатил пепельно-серые глаза, поморгал красными без ресниц веками, молча протянул дрожащую ладонь.
Она долго трясла его рыхлую слабую руку. Сарап покряхтел, встопорщил жиденькую, слегка курчавящуюся бороденку. Уставился на Паюсу, спросил не очень уверенно:
– Это ты, Паюса-килин?
– Я, я, отец Торая.
Теперь старик разобрался. Перед ним стояла и по-родственному его встречала жена Сыбоса, единственного сына Охчына. Охчын помер молодым от тяжелой болезни, а Сыбос с фронта не вернулся. Все по порядку вспомнил старик. У Сыбоса и Паюсы тоже был сын. Он уже вырос и, кажется, женился. А Паюса ни за кого больше замуж не вышла, осталась родней и потому так приветливо и радостно встречает его. Постарела Паюса! А глаза такие же черные и пугливые. Над ней раньше смеялись – не боится ли она на зиму без дров остаться? Смех-то смехом, а для вдовы дрова на зиму – главная забота… И теперь смотрит, словно боится чего.
Дед Сарап не выказал ни радости, ни удивления.
– А-а, – протянул он и бросил взгляд на дом под тополями. Осталось только подняться на взгорок, и он дома. Скорей бы…
Он ни о чем не расспрашивал Паюсу. Весь вид его говорил: да, я узнал тебя, ты моя родня, живешь, оказывается, тут по-прежнему. Только у меня свой путь, и ты уж не мешай мне… Сарап нетерпеливо переступил, подал посох вперед, но Паюса держала его за локоть.
– Отец Торая, погодите! Пойдем к нам, чайку попьем. Зачем туда, в пустой дом…
Старик резко обернулся и устремил взгляд на тополя. Только что дружно гомонившие на деревьях скворцы разом смолкли. Губы и бороденка Сарапа нервно задергались. Он умоляюще посмотрел на Паюсу и спросил, как выдохнул:
– Торай не приехал?
Теперь у него тряслась нижняя челюсть. Ответа не дождался. Сам прошептал:
– Не приехал…
– Пусть видит сотворивший беду… – Паюса смахнула уголком платка слезы.
Сразу сникший, дед Сарап поплелся за Паюсой-килин. У дороги на бревне сидела бабушка Мыкчан, жена двоюродного брата Сарапа. Старик поздоровался – она ответила.
«Люди уходят и возвращаются. Надо, не надо, – все торопятся. Куда? Зачем? Чтобы вот так сидеть на бревне?» – казалось, размышляла бабка, проводив их равнодушным взглядом.
Скворцов на тополях – черным-черно. Они снова загомонили, словно переругивались. Паюсе показалось, что из окна пустого дома Сарапа кто-то выглянул, а потом торопливо метнулся по ограде. Что бы это могло быть? Женщина постаралась унять охватившую ее тревогу, убеждала себя, что ей просто показалось. Кому и откуда там взяться среди бела дня? Но сердце колотилось, а в голову лезли несуразные мысли. В аале поговаривали, будто по ночам в доме деда Сарапа светятся окна. Матрона-вдова, которая пасет частный скот, сама видела, как там горел свет, когда поздним вечером искала в лесу корову. Таниза, дочка сторожа Табита, подменяя загулявшего отца, объезжала ночью посевы и перепугалась, завидев огонь в окнах.
Многие этому не верили, говорили, что аальские хулиганы безобразничают. Но никто в таком баловстве никогда замечен не был. А всезнающая бабка Манит, ворожея, твердила, что это неспроста, что дух человека, если обидеть его, начинает тревожить живых людей. Кто-то из пяти братьев, чей-то дух, должно быть, наведывается к родному очагу, а там некому сделать приношение через огонь, задобрить дух, сжигая ту пищу, какую люди едят. Нашелся бы шаман, он смог бы отвести черную душу от дома деда Сарапа.
Паюса хотела верить в это. Хотела, потому что вот так же мог вернуться и дух ее убитого на войне мужа Сыбоса. Она осталась верна мужу, будет верна ему всю жизнь. Если бы еще чувствовать его рядом с собой…
«Шторки на окнах задернуты», – подумала она, лишь бы отогнать беспокойные мысли.
Скворцы на тополях все никак не могли сговориться и продолжали перебранку, будто решали что-то важное и не могли прийти к единому мнению. Вдруг один из них звонко тинькнул, и вся стая вспорхнула с деревьев.
Старик стоял под тополями. Он оперся на палку, огладил бороденку, как бы говоря: «Ну, вот я и пришел…», постучал посохом по таловому тыну и, молодея на глазах, весело хмыкнул. Он всегда делал так, возвращаясь в свой дом. И теперь он был переполнен заботами и надеждами.
Сарап обошел двор, заросший бурьяном, шагнул к двери, подергал замок.
Незапертый, замок сразу открылся.
– Худай-хайраххан! Боже праведный! Не суди нас… – причитала Паюса, ступая за стариком с таким чувством, будто сейчас увидит труп давно потерянного и только что найденного утопленника. В дверях она наклонилась, чтоб не задеть головой низкой притолоки.
– Есть тут кто? – громко звал старик, и от дребезжащего голоса его зазвенел одичавший воздух пустого дома.
Он потрогал палкой печь, стол, буфет. Взмахом палки приподнял пеструю занавеску, разделявшую дом на две половины. Снова крикнул в глубь избы:
– Кто тут есть?
– Береги, береги нас бог! – шла, причитая, за стариком Паюса, готовая в любую минуту прийти ему на помощь.
На улице стояла жара, а в доме было так нелюдимо холодно, что продирала дрожь.
В передней половине, по левую сторону, впритык к стене – широкая кровать с панцирной сеткой, а на ней самотканый матрас и шуба, изношенная и изъеденная молью. Казалось, на кровати совсем недавно кто-то лежал и только что, отбросив шубу, поспешно ушел, оставив в постели свое тепло. На старом истертом столе, что стоял между окнами, – обрывки капроновой лески. Окна закрывали пропыленные шторки из цветастой материи. Их повесила дочка Сарапа Нони. Она же оставила на стенах портреты братьев. Каждый в отдельной рамке под стеклом. Все в солдатской форме, бравые, молодые, будто не отошли от шумной беседы, смеха и шуток, будто, смутившись нежданным приходом людей, забрались в рамки, но продолжают улыбаться. Спроси о чем-нибудь у любого, – не моргнув глазом, ответит. Только старший – он в шлеме – чем-то удивлен…








