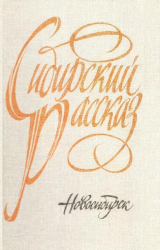
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Сибирский рассказ. Выпуск V
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Очередной, пятый по счету, выпуск «Сибирского рассказа», издание которого Новосибирское (Западно-Сибирское) книжное издательство регулярно осуществляет с 1975 года, на сей раз носит особый характер. Сборник целиком, от начала и до конца, посвящен художественной литературе народов Сибири – алтайской, бурятской, тувинской, якутской и др. О своеобразии и национальных особенностях жанра рассказа в этой литературе сказано в заключающем книгу послесловии, здесь же хочется остановиться на тех основных принципах, которыми руководствовался составитель при формировании сборника.
Прежде всего, о географии. В первых двух выпусках прописка авторов, русских рассказчиков, не играла решающей роли, главным было «сибирское» направление их творчества, и в сборник включались рассказы писателей, живших в то время в Москве, Ленинграде и других городах европейской части страны. Позже, с учреждением редколлегии издания, мы по общему мнению стали отбирать только произведения сибиряков, т. е. писателей, живущих на территории Западной и Восточной Сибири. «Сибирский рассказ» – не антология, решили мы, а как бы площадной срез, показывающий на определенном этапе развития нашей прозы, как обстоят дела с «малым жанром» в различных областях обширнейшего региона: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Алтайском и Красноярском краях и т. д. Для нас важно было «представительство», хотя при этом не скидывался со счетов и идейно-художественный уровень – в самом деле, ведь в каждом сборнике присутствовали рассказы В. Астафьева и В. Распутина, ведущих наших сибирских писателей, они-то и помогали высоко «держать планку», рядом с произведениями таких мастеров просто невозможно было помещать серые, проходные вещицы. Таким образом, критерии отбора были достаточно строгими, что и позволило «Сибирскому рассказу» завоевать у читателей авторитет и признание. Этими же принципами (представительство плюс возможно более высокий идейно-художественный уровень) мы руководствовались и при составлении данного сборника.
Западная и Восточная Сибирь включают в себя Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский, Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Горно-Алтайский и Хакасский автономные округа, Бурятскую, Тувинскую и Якутскую АССР. Национальные писатели, живущие на этих территориях, и стали авторами пятого выпуска «Сибирского рассказа». Чукотский и Корякский АО, Камчатская область в нашу зону традиционно не входят, это уже Дальний Восток.
Главным образом заботило нас тематическое разнообразие сборника. При всем множестве сюжетов у национальных писателей народов Сибири есть излюбленные темы, связанные, по всей видимости, с образом жизни этих народов, близостью их к природе и т. д. Это – охота (большей частью, на «хозяина тайги» медведя), народные обряды и сказания, любовь к родной земле, почтение к старикам. Но нарастающие ритмы современности, производственные и нравственные проблемы, связанные с промышленным освоением Сибири, ныне достигли самых глухих и отдаленных ее уголков, что, конечно же, воплотилось в творчестве национальных прозаиков-рассказчиков. Здесь сельскохозяйственное производство со многими его трудностями и издержками, нефтедобыча, рыболовство, охрана окружающей среды, борьба с пьянством и хищениями, борьба с пережитками прошлого, бюрократизм и местничество – короче говоря, все то, что является предметом углубленного исследования для всей нашей многонациональной советской литературы. Сборник в этом отношении вполне продолжает традиции, сложившиеся в предыдущих выпусках.
Е. Городецкий
Петр Аввакумов
СТАРИКИ
Небывалый зной опалил землю. После того, как в середине июня местами прошли кратковременные дожди, небо который уже день сняло чистотой, и хоть бы тучка с ладонь омрачила единожды его чело. Настал июль, и вместе с ним нагрянули полчища кобылки, и хилая трава на засушливых лугах сникла и поблекла окончательно.
Обходя угодья, бригадиры сенокосчиков только разводили руками и сердито плевались, досадуя на погоду. На собрании правления решили лучших работников отправить на дальние участки, где трава не пострадала от засухи и кобылки, а стариков оставить на местах.
В одно жаркое утро, вскинув на плечи косы и грабли, три старика, отмахав пешком почти десяток верст, пришли в округлый, как оладышек, алас. На опушке леса, обрамляющего алас, они остановились, присели под древними раскидистыми лиственницами, перекурили, как полагается с устатку, потом, охая и кряхтя по стариковскому обычаю, вышли на середину луга.
– Что делается, вы поглядите, что делается-то! – запричитал скороговоркой дед Байбал, никогда за словом в карман не лазивший. – Айыбы-ын[1]1
Айыбы-ын – междометие, выражающее удивление, страх, осуждение.
[Закрыть], в жизни не видел, чтобы земля до такого состояния дошла!
– И не говори, брат, вишь, какие трещины, – поддакнул ему Дабыт, а сам ходит взад-вперед, меряет аршинными шагами землю, словно собираясь подсчитать все трещины, отстает от своих, затем догоняет, неуклюже переваливаясь на кривых ногах.
– Ну что, кажись, польза невелика будет? – сказал старик Охоносой, шумно отдуваясь и обмахиваясь волосяной махалком: ему тяжело идти – он хром на правую ногу.
– Видимо, да.
– А какая травка вырастала прежде!
– Даже не верится.
Вся равнина аласа была иссечена трещинами, и куда б ни ступил – из-под ног со стрекотом вылетает жирная краснокрылая кобылка. Старики обошли весь луг, нашли раскидистую иву и под ее сенью решили попить чайку.
– Что ж, давай делить работу, – снова первым высказался Байбал.
– Делить, так делить, – и Дабыт тут же побрел в лес за валежником для костра.
– А за мной, значит, вода будет, – Охоносой взял оба чайника и, припадая на хромую ногу так, будто желал продавить ею землю, отправился к озеру.
Берега озера поросли высокой зеленой травой. Только полоса эта не широка, всего в две-три сажени. Охоносой, не зная, как подступиться к воде, пошел вдоль берега. Озеро обмелело как никогда – местами даже выступил ил. А воды все же надо набрать, Разве в такую жару скосишь без глотка чая хотя б в пучок травы.
Охоносой так долго бродил вокруг озера, что его товарищи, устав дожидаться, уж осипли, выкликая его. А он тем временем дошел до северного залива водоема и там обнаружил просторную лужайку, густо заросшую сочной зеленью. От неожиданности он даже остановился, потом, осененный хитрой задумкой, усмехнулся про себя. Подступы к озеру они обязательно поделят на три части. И тут-то он, Охоносой, первым напросится пойти к северному заливу. Откуда старикам знать про заветный лужок, перечить не станут. Им, старикам, даже удобнее, если поближе к привалу.
Наполнив оба чайника водой, Охоносой, отфыркиваясь от комаров, терзающих занятые ношей руки, загорелое и мокрое от пота лицо и короткую, жилистую шею, наконец, приковылял к своим.
– Куда ж ты, друг, запропастился, мы уж за тебя побаиваться начали. Подумали – не утоп ли часом, – рассмеялся негромко дед Дабыт и выхватил у него большой чайник.
– Трудно было к воде подступиться.
– Ясно дело, что трудно, – старик Байбал сидят на земле, обняв руками согнутые колени, и сосредоточенно сосет трубку. – Вот ведь земля меняется. Бывало, в урожайный год еле ноги из травы выдираешь. Второе лето, как засуха. Нынче особенно плохо уродило. Жадничает небо насчет дождя. И похоже, нам его до осени не видать. Одна лишь надежда у меня – подрастет молодежь, выучится и станет по заказу дождь на поля сыпать.
– Э, а нам, беднягам, до того и не дожить, в сырой земле лежать будем, – Охоносой вытянул вскипевшие чайники из костра. – Абытай![2]2
Абытай – междометие, выражающее боль.
[Закрыть]
– Кто зна-ает… А я что-то сомневаюсь, чтобы они сумели этого добиться.
– Эх, много еще, видимо, людей робких да осторожных, как вы. Даже свою совхозную землю не умеем как следует возделывать. Думаете, легко будет в таком случае найти способ управлять природой? – Байбал выбил трубку и качнул головой.
Кончив пить чай и убрав посуду и еду, старики вскинули косы на плечи и зашагали на покос, к зеленой кайме озера.
Начался дележ покосного угодья.
– Я… на север! – выпалил Охоносой.
– Как на север? Туда я пойду, – Дабыт костлявой рукой махнул в ту же сторону.
– Хватит. Не стоит ругаться. Ведь прошлым летом там косил я. Надеюсь, нынче я могу там косить опять. Как говорится, там мое законное место, – Байбал, кажется, решил достичь спорного участка первым; круто повернувшись, он устремился, огибая озеро, на север.
– Стой! Как ты можешь без стыда и совести срываться с места! Надо же решить точно, кому туда идти, Я, может быть, тоже могу бегать, – рявкнул Охоносой.
– Погоди резвостью похваляться. Тут тебе не ысыах[3]3
Ысыах – летний национальный праздник.
[Закрыть]. Думаешь, коли в парнях за ловкость и силу получал мюсэ[4]4
Мюсэ – часть говяжьей туши, чаще всего нога, которую в качестве приза вручают победителю спортивных состязаний.
[Закрыть], и теперь сумеешь быть первым? Если на то пошло, и у меня еще есть порох в пороховницах, – теперь настала очередь возмутиться Дабыту.
– Эх вы! – Байбал остановился, быстро набил в трубку табаку и закурил.
– Ну что, драться будем? Небось бойцы из нас хоть куда. На равных сойдемся – как зубья одной пилы. И что это с нами происходит? Если уж признаться по-честному, греха не тая, то я заранее знал, что там трава всегда высокая и густая. Это все засуха виновата, попортила людям характер… Давайте лучше посоветуемся, решим, как нам быть.
– Я первый увидел. Я и пойду туда, – Охоносой продолжал гнуть свое.
– Я тоже как будто не опоздал, – Дабыт с независимым видом отставил ногу.
– У, дураки старые, точно, видимо, из ума выжили, – сказал дед Байбал, сплюнул сквозь зубы и добавил: – Нет, давайте не будем беситься. Люди засмеют потом. Ступайте сюда, поговорим.
Три старика уселись на высохшую землю и закурили. Каждый не желал уступать и ждал, что это сделают остальные. Помолчали. Стрекот кобылки вокруг казался еще громче.
– Ну? Так и будем сидеть? – не вытерпел Дабыт и ухмыльнулся, отчего его нижняя челюсть очень странно выдвинулась вперед. – Ишь, развоевались как в старину, когда всяк бывал сам по себе. Спятили на старости лет, дурью маяться стали. Стало быть, рассорился, отвернемся друг от друга?
– Ладно-ладно, – Охоносой втянул в плечи короткую толстую шею и посмотрел в сторону заветного лужка. – Вам, мудрым старикам, лучше знать. Мне сначала показалось, что вы хотели объединиться, даже чайник один на двоих захватили. Вот я и подумал, что мне – одинокому – лучше дальний уголок занять.
– А ты, Охоносой, видать, тоже не лыком шит.
– Будет дуться. По правде говоря, и косари мы с вами, должно быть, одного пошиба. Давайте объединимся, веселее дело пойдет.
Три спорщика встали как один, взяли свои косы, служившие им не один десяток лет, поточили.
– Откуда начнем? – а глаза Охоносоя все никак не оторвутся от того самого участка.
– Начнем с северной кромки.
– Что ж, добро.
В лица старикам ударил легкий прохладный ветерок. Волнами заколыхалась перед ними зеленая травка. Широко взмахнули старики жилистыми, привычными к труду руками, мерно выныривая из травы, быстрыми щуками замелькали косы. И потянулись вдаль бок о бок три ряда скошенной травы, три дороги.
Еремей Айпин
СТАРШОЙ
По ночам Никиту Ларломкина будил шум дизелей.
Он прислушивался к их ровному бесперебойному голосу и узнавал о подъеме и спуске инструмента, о бурении или смене долота. Говорили дизели и о многом другом, чего не уловит слух неискушенного в технике человека. Голос у них густой, мощный. Стены утепленного балка слегка приглушали его, и от этого он становился более мягким, выразительным. Широкой волной он окутывал промерзшую насквозь тайгу – с кедровой лапы серебристой искрой сыпался куржак, в чаще хмурые елки вздрагивали лишайчатыми бородками, а сугробы мягко поглощали все звуки. Буровая не давала тайге вздремнуть. И от говора дизелей в ней становилось как-то теплее.
Шум двигателей усыплял Никиту Ларломкина, словно колыбельная песня. Такую песню, кроме буровой, он нигде не слыхал. И тотчас же просыпался, как только в этот голос вплетались посторонние звуки, не слышные другим, но режущие его слух.
В эту ночь Никита проснулся от натужного рева дизелей – они работали на пределе. По звуку – подъем инструмента. «Обороты, обороты добавь!» – взмолился он, обращаясь к дизелисту, там, на буровой. Но тот – то ли задремал, то ли отлучился куда. И дизели, еще раз всхрапнув, заглохли.
Никита накинул телогрейку и выскочил в стужу декабрьской ночи, пожалев, что встал не сразу. Бросился под навес и запустил дизели. «Подниму инструмент, все равно теперь не уснуть», – подумал он и кивком головы указал помазку на электростанцию, освещавшую жилые балки и вышку. Тот молча взялся за ветошь. А дизелист – «вот беда-беда!» – видно, решил пока не попадаться на глаза Никите.
Дизелисты немного побаивались и недолюбливали Ларломкина за угрюмый характер и излишнюю требовательность. Называли его просто Старшой, хотя этому смуглому, скуластому парню было всего лет двадцать шесть.
Когда подняли инструмент, на небе бледно занялась декабрьская заря. Никита так и не ушел спать – какой тут сон, если сегодня добуриваются последние метры. Бригада улетит на новую скважину, а он, старший дизелист Никита Ларломкин, останется здесь. Останется, чтобы не расставаться с дизелями. Можно, конечно, слетать на базу и вернуться с испытателями скважины. Но он не любит болтаться без дела. Такая уж судьба у старшего дизелиста – временный член любой буровой бригады, куда дизели – туда и он. Прилетят монтажники, разберут вышку, чтобы перекинуть на новый участок. А Старшой всюду сопровождает свои дизели, отвечает за них головой, ведь буровая без них – просто мертвая вышка. И на эту работу ставят всегда людей надежных, с большой практикой.
На обед Никита пришел последним – задержался в дизельной.
Повариха вновь, в который уже раз, пожурила его:
– Дались они тебе, Никитушка, машины эти – опять все остыло!
Никита виновато улыбнулся: мол, в желудке согреется.
– Расстаемся, значит, завтра, – сожалела повариха, гремя мисками. – А женить тебя так и не успели – вон у нас какие коллекторши, чем не невесты! Ведь ты, со своими машинами, так бобылем горьким и останешься. Попомни мои слова!.. На другой буровой кто тебя так кормить будет, как я кормила?! Горе ты мое луковое! – вздохнула повариха, подавая Старшому миску, которая была прикрыта крышкой и стояла отдельно, на углу горячей плиты.
Вполуха слушая повариху, Никита молча ел, думая с уважением: «Хорошо готовит – значит, любит свое дело, знает его!»
К нему подсел мастер:
– Ну что, Старшой, останешься в бригаде?! Я, брат, из тебя такого бурильщика сделаю – все рекорды твои будут! Станешь первым хантыйским бурмастером… Ну как?!
«Какой из меня бурильщик? – подумал Никита. – Хитрит старик, хитрит. Собака не тут зарыта…»
– У меня глаз – вижу, кто на что способен. Редко ошибаюсь, Старшой! – продолжал мастер и, чуть помедлив, поддразнил Никиту: – Бурильщик главный – на первом месте! А что твои дизеля?! Ты от них вон промаслился насквозь, просолярился, того и глядя – вспыхнешь!
– То – сердце буровой! – веско проговорил Никита и подумал: «Сам будто не знает».
– Так ведь сердцу нужна разумная голова, Старшой!
Никита подался в дизельную: пообедал, делать в столовой нечего, а убивать время попусту не привык.
– Чудак наш Старшой-то, – сказал мастер. – Хлопотно с дизелями, особенно зимой. Мается парень, а выгоды своей не понимает.
– Значит, не хочет… – отозвалась повариха. – Хороший мужик, работящий, нашел свое место, только вот на женщин не глядит почему-то…
– А-а, в тихом омуте сама знаешь, кто водится… – съехидничал мастер, затем добавил: – А мне не помешал бы толковый механик… Жаль…
На другой день буровиков сменили испытатели, затем прилетела бригада монтажников – начался демонтаж буровой.
Никита все эти дни занимался мелким ремонтом в своем хозяйстве – «подтягивал гайки и винтики». Был он доволен – все дизели у него в порядке, хотя и немало поработали: сделал заначку – собрал кой-какие запчасти, которых у него не было, и теперь разные мелкие поломки сможет устранять сам; удачно пробурили скважину – почти на два месяца раньше срока выполнили план проходки… Что еще надо?
По вечерам он долго не засыпал от непривычной тишины.
Во сне дизели жалобно, с отрывным запоздалым стоном звали на помощь, и он среди ночи вскакивал с постели. Но, кроме завывания ветра за окном и шума тайги, ничего не слышно. Он лежал с открытыми глазами до тех пор, пока его не начинала убаюкивать тихая и нежная мелодия стальной упряжки. И утром он просыпался бодрым и веселым, с необыкновенной легкостью во всем теле.
Стояла странная зима: середина декабря, а настоящих сибирских морозов еще не было. Оттепели сменялись обильными снегопадами. Земля долго не промерзала под снегом, не твердела. Поутру на болотах из-под сугробов зарывался белесый пар. Округа еще дышала, не омертвела вконец.
Утром, выйдя из балка, Никита чутьем коренного сибиряка уловил, что зима повернулась другим боком: вот-вот ударит мороз. Снег стал серебристей, светлей. Суровый ельник замер в ожидании чего-то, не шелохнулся ни единой иглой. Только беззаботный дятел звонко гремел на всю тайгу. На закате Никита убедился, что не ошибся. Как говорили охотники-ханты, солнце «надело шапку и варежки» – появились протуберанцы. «Пора уж, пора, – подумал Никита. – Какая зима без морозов?!»
Ночью его разбудили не дизеля, а простуженный женский голос. Он поначалу никак не мог понять, во сне ли это, наяву ли. Только будто кто-то шепнул ему: «Она». И этот шепот на мгновение парализовал его. И потом, когда отпустило и он облегченно вздохнул, все равно не решился взглянуть на нее. Придя в себя и окончательно проснувшись, он взял с протянутой руки лист бумаги. Не прикоснулся к ее руке, но почувствовал, что она холодна.
Буквы долго прыгали перед глазами, и смысл написанного дошел до него не сразу. Это была радиограмма, подписанная начальником экспедиции. В ней приказывалось срочно доставить дизели на скважину Р-19. Подумал: «Почему она приехала?.. Кто она теперь?.. И кто дизели запорол – Семенов?.. Коваленко?..»
Он знал, что эту скважину во что бы то ни стало должны сдать до новогоднего праздника – конец года, план, премии. «На орден жмет, – подумал Никита о начальнике. – Замучили со своими рекордами, только технику гробят!»
– Когда? – задал он ненужный вопрос, чтобы услышать ее голос и по интонации определить, как ему быть.
– Грузят монтажники, – сухо ответила она, выходя из балка.
В двери ворвался сизый клуб морозного пара.
Одеваясь, Никита все думал о ней. Прошло более трех лет с той весны, как она ушла от него. Ушла и бесследно исчезла, как в воду канула. А жили вместе почти два года, вроде и ссорились-то редко. Правда, иногда скажет: «Ты все о машинах думаешь» или «Почему ты меня все зовешь Татьяна да Татьяна?» На такие, казалось, мелочи он и внимания не обращал…
Везли дизели на двух тракторах с саночными прицепами. Грунтовая, недавно проложенная дорога была в заносах и ухабинах. Тракторы вгрызались в сугробы, буксовали, но… тихонько ползли вперед. Никита сидел в кабине второго трактора рядом с Венькой, мужичком неопределенного возраста с пухло-бледным лицом. Все его движения неуверенные, какие-то корявые, а фигура помятая, будто без костей. Чем-то напоминал он изношенный коленвал – мало толку, но и выбрасывать жалко.
Мысли снова вернулись к Татьяне. С каких это пор стала она трактористкой? Была техником-геологом, училище кончила, а технику, помнится, не любила. Где жила она эти три года? И с кем? Чем занималась? Может быть, Венька – ее муж?.. Нет, не похоже. Она почти не изменилась. Только черты лица стали жесткими и решительными да блеск глаз острее, колючее – верные признаки одинокой женщины. Вообще-то никогда не угадаешь, что пережила женщина и что у нее на уме.
Мороз все набирал силу: тракторы плыли в облаках серого тумана. Бока железной печурки в кабине малиново накалились. Венька торопливо швырял в огонь короткие сосновые чурки и поминутно одергивал полы затасканной шубенки. Но холод со всех щелей неутепленной кабины протягивал свои руки.
– Трактор бы не накрылся, елки-палки, – бормотал Венька. – Накроется – капут нам, елки-палки!
«Видно, осердился не на шутку, хочет наверстать упущенное, – подумал Никита о морозе. – Пусть жарит, пусть!»
Поглубже нахлобучил шапку-ушанку, уселся поудобнее. Ему зябко не от холода, а от мысли, что рядом с ним человек – то ли свой, то ли чужой, – который знает всю его подноготную. И хотя в его короткой биографии нет ничего предосудительного, он никогда не рассказывал о себе.
Ничего необыкновенного в его жизни не было. Вырос в глухой охотничьей деревушке, воспитывался у тетушки. Все началось с маленького подвесного моторчика. Его привез из райцентра тетушкин муж. Детвора ни на шаг не отходила от хозяина, когда тот копался в моторе или запускал его. Однажды мотор забарахлил – не заводится, да и только. Бензин идет, искра есть, а работать не хочет. Полдня бились, собрали всех мало-мальски разбирающихся и совсем не разбирающихся в технике. Дело не сдвинулось с места. Наконец Никита глухо сообщил, что нет на свече медного колечка, оттого-то и не заводится мотор. Не поверили охотники, но все же надели на свечу прокладку, навернули как следует. Дернули раз, другой – и запыхтел мотор. Тут порешили охотники-старики, что быть Никите не следопытом таежным, а «машинным человеком».
В четырнадцать лет он уже хорошо знал устройство всей «техники», бывшей в деревне, начиная с электростанции и кончая киноаппаратурой в клубе. Через год он собрал свой первый двигатель из металлолома. Поработал он всего минуты две-три – разлетелся на куски. Но память оставил – рваный шрам на левой щеке.
Потом плавал капитаном-мотористом на местном катеришке, поскольку желающих работать на нем не находилось. Двигатель держался на честном слове: всевозможных пробок и деревянных затычек было больше, нежели металлических. Но Никита не унывал и ладил с этим мотором до той поры, пока не развалился деревянный корпус старого катера.
Затем сейсмопартия, а позже пришел на буровую помощником дизелиста.
Декабрьский день короток, как первый шаг младенца. В третьем часу пополудни на тайгу надвинулись сумерки. Фары бледными лучами выхватывали стылые сугробы, продрогшие стволы и оледеневшие лапы таежных елей.
Лес мертвел от холода. Не слышно ни зверей, ни птиц.
В потемках переезжали реку по бревенчатому накату, вмороженному в лед еще в ноябре. Когда головной трактор выбрался на другой берег, Венька тронул свою машину. Он чаще обычного переключал скорости, чтобы быстрее миновать опасный участок пути: бело-ледяная река угнетающе действует на человека, особенно в жестокий холод, напоминая теплое лето…
Почти у самого берега прицепные сани съехали с обледеневшего наката.
– Стой! – закричал Никита, схватив Веньку за плечо.
Звонко хрустнуло железо – опоздал. Лед затрещал, и сани медленно, как бы нехотя, погрузились в реку. Когда Никита выскочил из кабины, все было кончено: из воды торчали цилиндры трех дизелей.
Течение играло свежесколотыми льдинками. Они звучно бились о серебристое железо дизелей.
Полынья выдохнула серое колючее облако.
В чаще гулко, как выстрелы в ночи, лопались от мороза сосновые сучья.
Вдруг стало жарко – Никита распахнул полушубок.
– Гони трактор на берег! – услышал Никита властный голос женщины.
Венька вздрогнул, чертыхнулся и бросился к машине.
Женщина возле трактора осматривала обломки прицепа, лопнувшего по отверстию. Зачем-то вытащила штырь, постучала по серьге, будто проверяла на прочность.
– Усталостный излом, – неуверенно выдохнул из кабины Венька.
– А морозный не хочешь?! – насмешливо спросила Татьяна.
Венька захлопнул дверцу. У полыньи они остались вдвоем.
– Застегни шубу, простынешь, – сказала она таким голосом, словно только вчера расстались. – Пошли на берег!
Никита молча повиновался.
Теперь втроем сидели у костра и пили крутой кипяток. Тепло разморило – слипались глаза.
– Ну что, Венька, хочешь искупаться? – спросила Татьяна. – Давно ты купался?
– Ей-ей, у меня ангина!.. Может, сгонять на буровую, так я мигом!
– Сгоняешь ты мигом по такой дороге! Да и там мало охотников найдется…
– Эх, если бы не ангина да не сердце… – вздохнул Венька.
– У меня тоже, между прочим, имеется сердце. И печенка есть, которая не любит ледяную воду. Как быть?
– Кран бы сюда! – мечтательно протянул Венька.
– А костюм водолазный не хочешь?!
– Пригодился бы, не отказался. А еще лучше – спиртику бы! Эх, тряхнул бы стариной!
– Тогда бы любой дурак полез, а ты не вспомнил бы про свою ангину и сердце, верно?!
– Дураки тоже в тайге на снегу валяются, ценить их надо… Ей-богу, душа к косточкам пристыла!
– К пяткам, наверно, пристыла, а еще муж-жик!
Теперь, при свете костра, тьма стала густой и черной, как смоль. Никита покосился в сторону полыньи, и сердце тоскливо защемило, словно окунулся уже в ледяную воду. Дизели ни разу не подводили его, и он никогда не подводил их. Неужели теперь придется их бросить?!
Железо при жестоких морозах становится хрупким и легко ломается. Человек выдерживает немного больше. Поэтому-то Никита любил сильные морозы: все наносное погибает или убирается восвояси, легче дышать. Теперь он впервые чертыхнулся и на мороз, и на железо прицепа. С чем приедет на Р-19 он, старший дизелист? С неполным комплектом дизелей? Бурить-то ведь невозможно в полную силу. Черт с ними, с их рекордами и премиями – это его никогда не волновало. Главное – буровая без сердца, мертва она. По ее стальным жилам нечем гонять живительный раствор, крутой кипяток, сжатый воздух, электрический ток. Нечем поднимать многотонный буровой инструмент. Никому это не под силу, кроме старшего дизелиста со своей стальной упряжкой.
Проклятая река, просто так она не выпустит плененные дизели.
Между тем услышал возглас «Сама полезу…» и подумал, как мало она изменилась, и, пожалуй, если считает нужным – и вправду полезет. Он хорошо знал ее характер.
Все эти годы Никита тешил себя тем, что встретится когда-нибудь с ней. Как и при каких обстоятельствах – этого он не знал. Оттого-то сегодня ночью долго не мог проснуться – думал, что это сон. Только вот почему они разговаривают между собой так, будто его здесь нет? Может быть, уже обращались к нему, а он, занятый своими мыслями, просто не слышал? А разговаривают как люди близкие, давно знающие друг друга, Неужели все-таки муж?!
«Сама полезу…» Полезет… А стоит ли рисковать? Но вскоре его сомнениям пришел конец: он услышал голос своих дизелей. Они звали его на помощь, звали жалобно, настойчиво. Так звали они обычно по ночам, когда он моментально просыпался. Только теперь их голос был хриплый, приглушенный толщей воды, будто они захлебывались. Никита снял рукавицы, заткнул уши: они все звали, звали, уверенные, что он услышит их зов, не оставит в беде. Никита облегченно вздохнул – теперь не будешь хитрить с самим собой, не будешь искать уловок.
А они все зовут, зовут. Их зов слышится все явственней, все отчетливей. Деваться некуда…
Стоя у черной ямы полыньи и обвязывая себя веревкой, Никита взглянул на женщину, жену, которая ушла от него три года назад. От холода она будто накалилась вся, но мороз не исказил черты ее лица, а сделал их резкими, суровыми и… милыми, словно вдруг она слилась с холодными снегами, декабрьским небом, с белой рекой, с чутким простуженным лесом, где отзывается малейший шорох. И, топчась у черной воды, Никите захотелось не ей, а чуткому лесу шепнуть: «Люблю». Лес повторит его слова. Для нее. Никита ни разу не говорил ей «люблю», все не было времени… Да и нежность считал он пустым занятием, стеснялся ее. Он покосился на Веньку – не украдет, не перехватит ли это слово. Но тот с бормотанием носился вокруг полыньи, подтягивал стальной трос и, видимо, был рад, что сыскался «дурак», который добровольно лезет в эту пучину. Ему было не до шепота ночного леса.
Завязывая последний узел, Никита сообразил, что в воде-то ведь плюсовая температура, а наверху под пятьдесят. И он осторожно шагнул в тихо журчащую бездонь реки, внушая себе, что том теплее.
…Когда он выбрался из воды – сразу окутался сизым паром, будто загорелся вдруг. Непослушным, одеревеневшим языком выдавливал:
– Са… ни примм… ерзнут вытт…
Венька бросился к трактору.
Женщина схватила Никиту за руку – повела к костру. Она не чувствовала холода. Ее рукав с каждым шагом все сильнее примерзал к оледеневшей телогрейке Никиты.
Звезды на небе сняли приветливо и тепло.










