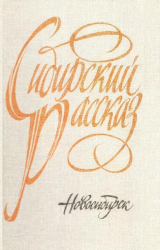
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
– А чего замуж по второму разу не вышла?
Старуха не сразу поняла, кто спрашивает, а когда поняла, с удивлением посмотрела на свата. Думала, что говорила об этом (сколько уж лет-то в родстве), оказывается, нет… Хотела ответить, но сердце заныло, и промолчала. Та боль не остыла еще. Нет, она, конечно же, не такая, как прежде, а все же случается, и теперь затоскует. Немолодой уж, а веселый, и с дочкою, говорил не раз: «Давай-ка сойдемся, землячка. У тебя дочь, и у меня… И заживем». Потянулась к нему сердцем. Может, потому и потянулась, что городок, откуда он родом, недалеко от Чугун-горы. Но узнал об этом свекор, не укорял, нет, сказал, глядя с тоскою: «А куда же, Феклуша, мы денемся, немочные?..» И отошел сейчас же. И сказала тогда тому, веселому: «Нет, не могу… Видать, судьба у меня такая». Потом всю ночь проревела, и свекровь сидела у ее кровати и тоже плакала.
– А вот и не вышла, – сказала старуха и грустно покачала головой. И сват понял эту ее грусть, положил на плечо руку, сказал:
– И ладно… Эк-ка невидаль, замуж!.. – И тут же добавил: – Ну, чего мы все про старое? Иль не живем теперь?
И старуха словно бы очнулась: «И то верно. И то…» – и стала говорить о правнуке: дескать, и годков ему всего ничего, а шустрый… Умаялась с ним, вот те крест! Но она знала, что это не так, и пуще всего на свете боялась, что внучка отдаст мальчонку в детский сад. Говорит, и очередь где-то там, в исполкоме, скоро подойдет… Старуха представила, что не будет рядом с нею правнука, и так одиноко стало, и так неуютно, и она почувствовала, как у нее похолодели кончики пальцев. Нет, нет, этого не может быть. Этого не должно быть. Уж она постарается, чтобы этого не было. Но сейчас же подумала, что не так-то просто убедить внучку: в чем в чем, а в желании все делать по-своему ей не откажешь. К тому же внучка уверена, что так будет лучше: «Надо, чтобы сын не отставал в своем развитии… Да и тебе, баба, самое время отдохнуть. Вон и мать пишет…» Верно, пишет. Но кто ее просит? Зачем?..
– Нет, я не хочу отдыхать. Еще успею наотдыхаться. – Старуха не сразу поняла, что говорит вслух. Когда же сват улыбнулся и сказал: дескать, в самую точку попала!.. – виновато развела руками. Но жаловаться было не в ее правилах, и она, с трудом и не сразу одолев в себе тревогу, стала говорить о другом: – А мужички-то из того дома, что строится напротив, еще ходят ко мне, хоть внучка и ругается. Вроде бы знающая, да не поймет: скучно мне без людей-то… И твой сын не поймет, бывает, и скажет: «Чего возишься с ними?..» То и вожусь, что интересно. Вон на прошлой неделе младшенький и говорит: жениться хочу, а родители ругаются. Спрашивает совета: что делать?.. И посоветовала бы, когда б знала… Вижу: и так худо, и так… И все ж сказала: с родителями не ссорься. Вон моя-то, внучка-то… как же ей плохо было. Было б еще хуже, если бы не я… Опять же понимать надо тех, кому любится, и жалеть. Только не все умеют жалеть. Вон и дочка моя… – Старуха посмотрела на свата, хотела еще что-то сказать, но лишь развела руками. Она молчала долго, и сват не смел потревожить ее, догадывался, что она думает о жизни, и эти ее мысли вызывали у него уважение.
– Ты права, успеем наотдыхаться, – спустя немного сказал сват и, помедлив, добавил: – Что-то плохо я стал себя чувствовать, осколок под сердцем зашевелился. Неужели все? Неужели скоро конец?..
У старухи захолонуло сердце, испуганно посмотрела на свата и замахала руками: что ты? что ты?.. Она чуть не сказала: «А как же я?!.» Но вовремя догадалась, что это было бы признанием того, что его скоро не будет, и сумела сдержать готовое вырваться восклицание. Подумала о той, как же сильно привязалась к свату, если даже мысль о его смерти нестерпима. А ведь она и видится-то с ним в месяц раз, не больше. Значит, вовсе не обязательно встречаться каждый день, чтобы человек стал для тебя необходимым?
– Ты даже не бери в голову. Ты даже… – Прищурившись, посмотрела ему в глаза и не увидела того обычного теплого и устойчивого выражения, которое всегда говорило, что все обойдется и не надо отчаиваться: нет ничего хуже отчаянья. Она не увидела этого и расстроилась, и, когда ближе к вечеру провожала свата, была грустна, и вечером не захотела говорить с внучкой и не выкупала правнука. Прошла в свою комнату, легла на неразобранную постель, чего сроду не было, и долго не могла уснуть.
А через неделю принесли телеграмму, и в ней говорилось, что сват помер. Старуха не плакала, она только ходила по квартире и с удивлением спрашивала: «Ну, почему? Почему?…» Она вроде бы и не замечала близких, не слышала, как правнук уже в который раз просился на улицу поиграть, и только раз остановилась подле внучки и негромко сказала: «Ну вот, теперь, кажется, настал и мой черед…»
Старуха не поехала на похороны: «Не могу…» Оставшись в квартире одна, позвала соседку и долго рассказывала о свате. Она и не догадывалась, как много знает о нем, а вот теперь поняла, и еще горше стало. Потом сходила в церковь и поставила свечку за помин души убиенного фашистским осколком. Она так и сказала старому служителю церкви и в поминальнике записала: «убиенному…» А когда пришла из церкви, села на скамейку под тополь и задумалась. Она забыла, что правнук теперь один в пустой квартире, а когда вспомнила, не почувствовала привычного волнения, но все же поднялась со скамейки, прошла в подъезд… Правнук, свернувшись калачиком, спал на кровати в большой комнате. Старуха приблизилась к нему, накрыла одеялом. В квартире было тихо, так тихо, что было слышно, как жужжит под потолком муха. Эта тишина показалась неприятной, саднящей какой-то… Она не сразу поняла, отчего так тихо, и только потом до нее дошло, что нынче воскресенье, и в котловане напротив не возится жукоподобный бульдозер, а подле строящегося дома не грохочет подъемный кран.
Старуха недолго пробыла в большой комнате, глядя на спящего правнука, прошла на кухню, подсела к окну. Она представила, что уже никогда не увидит свата и не поговорит о том, что было с нею в большой – да, да, большой, она как-то сразу поняла это – и не всегда доброй к ней жизни. Правда, остались еще старухи, в подъезде их не мало, но она почему-то не принимала их всерьез и ни с одною не сумела близко сойтись. Наверное, потому и не сумела, что все они были моложе, и оттого знали и пережили много меньше того, что выпало на ее долю, а знать больше не хотели… Она и теперь помнит, как стала рассказывать соседке про приемную дочку, которая теперь живет на западе и даже письма не напишет… «Иду утром на станцию, уж не помню, зачем?.. Глядь, девочка стоит в зале, подле нее станционный служитель. Плачет девочка-то… Я подхожу, а станционный служитель и говорит: «Суетилась тут одна бабенка, по всему видать, разбитная, она, поди, и оставила девочку, а сама дальше подалась…» Я как услышала, и свет померк в глазах… И что творится с людями, думаю. Да я бы ничего (и себя) не пожалела, лишь бы детки мои жили… К тому времени родители мужа померли, я и говорю: возьму девочку к себе, не будет же маяться в сиротстве. Где одна, там и две… И ничего, выросла рядом с моею кровной-то, с дочкой-то… Плохо только, уехала и письма не напишет. Забыла, что ли?.. А старуха, соседка, и говорит: «А ты чего другого ждала от нее? Зря! Небось чужого роду…» И так-то грустно стало: эк-ка люди!.. Но спустя немного подумала: при чем здесь люди? Молода еще соседка, и до вершины той горы далеко ей… Небось, сват так не сказал бы: повидал много и знает, почем фунт лиха.
Дня через три приехала внучка и ее муж, не спросила у них, много ли было на похоронах народу. И без того это знала: сват был из тех, кого уважали на деревне.
Шли дни, и теперь они ничем не отличались один от другого, потому что старухе уже не надо было ждать свата и думать, о чем бы еще порассказать ему. Раз-другой пробовала заговорить с внучкиным мужем, но он, обычно не прочь посидеть с нею и потолковать, то ли не заметил этого, то ли был не в духе… Дела у него на работе не ладились, и она чувствовала это, и не стала настаивать. Было, конечно, обидно, но терпела и все же третьеводни сказала внучкиному мужу:
– Что же ты, родимый, не поговоришь со мною? Я ведь еще много чего знаю.
И он сказал с досадою:
– Право, бабка, все это скучно, и в журналах не принимают. Им подавай про нынешнюю жизнь.
Она расстроилась. И уж не стала подходить к внучкиному мужу, хотя смутно ощущала его неправоту. Бывало, думала: «Чудно, иль давнее не от людей?.. Иль у этих-то, которые теперь живут, нету корня?..» Но думала как-то вскользь, словно бы о чем-то постороннем, не очень понятном ей. В самом деле, старуха только теперь осознала, что и внучку-то не всегда понимает, и не знает, отчего она нынче весела да ласкова, а ведь только вчера была сердита и не хотела сесть за стол… А еще старуха заметила, что и люди в подъезде каждый день разные, и бегут куда-то, бегут, и ругаются… То же самое на улице, они все будто на одно лицо. И это испугало ее. Впервые, за последние годы старуха засомневалась в себе: права ли она, когда думает, что с высоты прожитых лет лучше видно?.. И еще огорчило, что не к кому пойти теперь с этим сомнением: свата нету, а кто же поймет?
Внешне старуха мало изменилась, все так же дотошно и несуетливо исполняла домашнюю работу, только больше стала просиживать на кухне у окна, а бывает, что и забудется, и ответит невпопад… В ее сознании происходила какая-то работа, но она могла только догадываться об этом, потому что эта работа словно бы шла помимо ее воли. Теперь она часто вспоминала о том, что было с нею когда-то, и давнее казалось много интереснее того, что у нее сейчас. И это было плохо. Никогда прежде она не отделяла прошлое от настоящего. В ее сознании прошлое тесно переплеталось с настоящим, тем самым создавая тот богатый и яркий мир, в котором она жила. Случалось, она могла говорить о давно умерших людях, как будто они рядом с нею и с ними еще ничего не произошло. Правда, очень скоро она приходила в себя и говорила с укором: «Эк-кая же я забывчивая!..», впрочем, не ставя эту свою забывчивость в вину себе. Она и не знала, что этот ее мир только потому и жив, что она могла постоянно говорить о нем, а когда говорить стало некому, он начал чахнуть…
Старуха была настолько подавлена случившимся, что, когда однажды внучка пришла с работы и сказала: «Все. Завтра сын пойдет в садик», – она не сразу поняла ее. Но потом у нее задрожали руки, почувствовала слабость во всем теле и не пошла на кухню, чтобы поставить на стол… «Все одно к одному…» – подумала она, стараясь не глядеть на внучку. Не хотела расстраивать ее, а та и не думала расстраиваться:
– Вот теперь ты и будешь отдыхать, как надо. Хватит, наработалась за свою жизнь!
Старуха покачала головой, но спорить не стала: поняла, что это ни к чему не приведет, а только еще больше отдалит от внучки, которая и понятия не имеет, что происходит у нее в душе. Старуха не винила внучку. Зачем? Было однажды… говорила гадалка, взяв ее ладонь в руки: вот линия твоей жизни, а вот внучкина… И как же тесно они переплелись. Надолго!.. «Видать, вышел срок, и линии все больше стали отдаляться», – подумала старуха, все так же стараясь не глядеть на внучку.
Утром старуха собрала правнука, отвела в детский сад, а потом весь день просидела у окна, не умея занять себя делом. И только ближе к вечеру начала готовить ужин. Она еще возилась на кухне, когда пришла внучка с мужем, а вместе с ними правнук. Он забежал на кухню, и старуха взяла его на руки и стала спрашивать: как-то там, в садике?.. Надеялась, что правнуку там не понравится, и уж тогда-то она постарается, чтобы он больше не ходил туда, но правнук был едва ли не в восторге от садика и все повторял: «К-касиво там и л-лебят много…», и старуха сникла.
За столом внучкин муж вскользь, за разговором о чем-то, но и это было обидно, сказал:
– А картошка нынче подгорела. Что же ты, бабка?..
Тянулись дни, одинаковые и легкие, как надувные шарики, которые она однажды видела на демонстрации. Старуха еще суетилась, что-то делала, но все это без интереса, теперь уже и внучка, случалось, говорила: «А молоко-то опять убежало. Чего же ты, право?..»
На неделе старуха получила письмо от дочери, та писала, что теперь они с мужем живут в новом доме, и, если она хочет, пускай приезжает: дом просторный, места на всех хватит… А вечером, морщась оттого, что вдруг заныло сердце, сказала внучке:
– Уеду я в деревню, благо, и дочь вспомнила, что у нее есть мать. А вы теперь и без меня управитесь. Так?..
Старуха с тревогой ждала, что скажет внучка, и, если бы та сказала: «Что ты выдумываешь? Ведь сама не раз говорила, что только тогда и живешь, когда чувствуешь себя хозяйкой. А тут ты хозяйка…», она и слова бы вперекор не вымолвила. Но внучка сказала, вздохнув: «Может, ты и права, и в деревне тебе будет лучше. Как-никак воздух…», и старуха, осторожно ступая по скрипучим половицам и едва ли видя перед собою: с глазами что-то и голова закружилась, ушла в комнату. Долго сидела на кровати, глядя, как на оконном стекле бьется муха: то сорвется вниз на широкий подоконник, а то опять поднимется вверх, и все бьется, бьется… Утром старуха велела, чтобы взяли билет на поезд, и уже после полудня сидела в душном купе. А ровно через тридцать шесть часов она сошла на маленькой станции, затерянной в серой, выжженной солнцем степи, и с интересом, но без волнения, которого втайне ожидала от себя и которого почему-то не было, оглядела новые пристанционные избы, они появились за те пятнадцать лет, что она не была здесь. На станции ее встретила полная белолицая женщина, ее дочь, приняла из рук чемодан, чмокнула в щеку: «Мама… Наконец-то!» И стала рассказывать о своем житье-бытье, Пока они переходили по перекидному дощатому мосту через речку, а потом недолго шли узкой, в дождевых выбоинах улицею, старуха узнала, кто из знакомых помер, а кто и теперь живет и все еще в доброй памяти, но и это не вызвало у нее волнения, и только однажды она огорченно вздохнула, когда дочь сказала, что скоро той рощи, куда они бегали собирать грибы, не будет: там теперь строят колхозный коровник, и это хорошо, она станет ходить туда за молоком… Еще старуха узнала, что дети у дочери теперь в разных городах, кто в техникуме, кто в институте… Бывает, что и напишут, и тогда она по нескольку раз на дню читает их письма. Старуха плохо знала тех пятерых, а меньшого даже не помнила: уж так получилось, что все время жила со старшей… с внучкою, которую держала на руках еще в годы военного лихолетья.
Ей отвели комнату рядом с прихожей, много просторнее той, что она имела у внучки. И кровать была лучше, никелированная, с блестящими шарами в изголовье.
Старуха проснулась рано, заправила кровать, прошла на кухню. Дрова были припасены с вечера, и она затопила плиту, поставила чайник… Хотела почистить картошки, но появилась дочь и сказала:
– Ну, зачем ты, мама?.. Не надо, я сама… Ты отдыхай, отдыхай…
И старуха, вздохнув, ушла в свою комнату.
На следующий день было то же самое. И через неделю… Старуха ничего не делала, но отчего-то всякий раз к вечеру у нее разламывалась спина. К тому же начали мучать головные боли, иной раз так сдавит, так славит, хоть криком кричи. Изредка старуха выходила из дому, сидела на лавке подле забора, подолгу глядела вдаль, туда, где поднимались спине горы и за которыми, как думала, находится город, откуда приехала. Первое время она еще могла и погулять по деревне, случалось, ее окликали и пытались заговорить, она отвечала, но чаще всего невпопад, и норовила поскорее уйти, а очутившись одна, не всегда могла и вспомнить, кто только что разговаривал с нею. И тогда она вовсе перестала выходить из дому. Правда, и теперь у нее бывали счастливые минуты. Это когда думала о внучке и ее семье. О правнуке. «Ах, сорванец, ах… И носится-то, и носится, удержу нет. Но погоди у меня, погоди, вот привяжу за ногу к двери, вот тогда будешь звать! Вот тогда…» И незаметно для себя начинала говорить вслух и очень удивлялась, когда дочь, очутившись у нее под дверью, спрашивала: «Ты с кем это, мама?..» Но удивление скоро проходило, и тогда оставалась тоска по дому, который оставила, по тополю под окном. Почему-то казалось, что вот уехала она, и тополь не сможет без нее; зачахнет…
Старуха была совсем плоха, когда неожиданно приехал внучкин муж, он был весел и доволен собою: «А у меня книгу приняли… Наконец-то!» Старуха увидела его и заплакала: «Милый ты мой… милый…» И он растерялся: «Тебе здесь не нравится? Ну что ж, я заберу тебя, только не сейчас… сейчас я в командировке. Вот приеду домой и пошлю телеграмму. И мы тебя встретим…» И он уехал. А она… она приободрилась, и головные боли вроде бы прекратились, и теперь уж не обижалась, когда зять заходил в комнату и привычно спрашивал: «Ты еще жива, старая ведьма?» «Жива, жива, – отвечала. – И пока не собираюсь помирать». Каждое утро подолгу простаивала у калитки и ждала почтальона, и потом с надеждою спрашивала у него: «Есть ли телеграмма? Да нет, не дочери – мне…»
Минул месяц, а телеграммы все не было. И она подумала, что уже не будет… Ночью во сне она увидела свата, и сказал сват: «Ты не печалься: всему свое время… Стало быть, наше с тобой время осталось где-то там, позади…» – «Но я не хочу, не хочу!.. Они пропадут без меня, зря я уехала. Они такие беспомощные. Такие… Вон и сын твой…» Нет, она этого не сказала, она только хотела сказать, но свата уже не было возле нее. Старуха застонала и открыла глаза. К утру она померла.
А телеграмма пришла. Она пришла, когда старуху уже обмыли и надели на нее синее, с белыми яблоками платье, которое нашли на самом дне ее чемодана.
Николай Габышев
ДВАДЦАТЬ ШАГОВ
У каждого из нас есть на памяти случай, и чаще не один, который не забывается никогда. И не просто не забывается, а живет в тебе какой-то особой и таинственной жизнью, пытает тебя или греет, заставляет размышлять, помогает отчетливей видеть себя и людей.
Есть такой случай и у меня. Я мог бы сосчитать, сколько прошло с той поры лет, но поверьте, что было это давно, я был тогда молод и неопытен, горяч и самонадеян и работал учителем на Севере, в тундре, среди поречан-индигирцев. И вот однажды в конце зимы мне пришлось идти километра за четыре в ближайший поселок оленеводов и охотников с лекцией о международном положении. Поселки такие называются «дымами». Стоят среди голой тундры несколько юрт, покрытых дерном и заваленных снегом, и пускают дымы. Живет в них человек тридцать – сорок, и если на лекцию соберется четвертая часть, это уже хорошо. Вспоминается, что в то время киномеханику, чтобы выполнить план, достаточно было восьми зрителей.
Ко мне на лекцию пришло гораздо больше. Жарко топилась печь, мужики, не снимая теплой меховой одежды, расселись на скамьях и, приготовившись к удовольствию, запалили самокрутки и трубки. Не отстали от них и женщины, которых было вполовину меньше; в этом занятии что русские, что якутские представительницы прекрасного пола на севере почти не отличались одна от другой, чадили почем зря. Минут через пятнадцать я уже не различал лиц перед собой, однако, оторвавшись от бумажки, рассмотрел, что со скамеек моя аудитория сползла на пол и, причмокивая, внимательно и самозабвенно наблюдала, как я, не зная препятствий, прохаживаюсь по нашей матушке-планете, будто господь бог, ведая и правых, и виноватых. В какой-то связи, не помню, чего ради, я упомянул свиней – может быть, как аллегорию, чтобы посильней кого-то заклеймить, и это задержало мою лекцию. Оказалось, здесь не знают, что такое свинья, никогда не видывали ее в глаза. Все вместо мы стали обсуждать, на кого из местного животного мира она похожа, и пришли к заключению, что на нерпу, которая ходит по земле. Аудитория оживилась, на меня стали смотреть с интересом и, очевидно, принялись ждать чего-нибудь в этом же роде. И даже когда в конце встречи я не смог ответить на вопрос одного старика, совершенно вразумительно назвавшего полным именем абиссинского императора и интересовавшегося, за что тому присвоено звание генералиссимуса, мною все равно остались довольны и на прощание в награду сунули в руки почти метрового мерзлого чира.
Заря угасала; когда я вышел, огромное беловато-синее небо было раскрыто, в нем мерцали две-три звездочки. На улице меня поджидала, чтобы вместе идти, фельдшерица Огра Шахова, наведавшаяся к кому-то из больных. Огра – от Агриппины, она была родом с Усть-Индигирки, из тех досельных русских, которые по преданию пришли туда на кочах по морю еще до заселения Сибири. У них особенный, ни с чем не сравнимый выговор – мягкий, шипящий, с живой архаикой в словах: шебя, вше, ешшо, несчашшо, жнаю, ми, ти, криша, хоромины. Среди моих учеников были и русско-устьинцы, слушать их, когда они отвечали, составляло и удовольствие и мучение вместе, я долго почти совсем не понимал их журчащую скороговорку и только в последнее время стал мало-помалу ее осваивать и увлекся до того, что у меня уже не произносилось «мы», мне легче было сказать «ми», и я, к ужасу своих коллег-учителей, посреди ученых споров мог ляпнуть, например, с пафосом и призывом: «Попердовать! Попердовать!», что означало «отдыхать».
Огру Шахову я знал, она выступала в клубе в танцах и с частушками, частушки исполняла лихо и в то же время с каким-то изяществом, получающимся, видимо, от произношения. С чем это можно сравнить? С большой долей вероятности, пожалуй, с нежным окриком или отчаянной, торопящейся ласковостью. До меня доходили слухи, что кроме всего Огра поет былины, но за былинами слушать ее мне пока не довелось. И я подумал, когда мы отправились в путь, не попросить ли девушку спеть по дороге красивую досельную былину, которыми славилось Русское Устье.
Огра была вся в меховом, в белом, только чернели на снегу унты. Шла она легко, словно припадая к земле и вспархивая, припадая и вспархивая, точь-в-точь как куропатка, отводящая от гнезда. Мне же мешал чир, к тому же для солидности я брал с собой портфель, который пешедралом по тундре, конечно же, не только не давал никакой солидности, а напрочь ее уничтожал. Огра летела впереди, я стал отставать. Перед нами в чистом смеркающемся воздухе стояли столбами красноватые дымы собакопитомника, а за ними зажигались огни Чокурдаха, на многие сотни верст вокруг самого большого поселка, в который мы и держали путь.
Когда начинаешь отставать, ищешь причину, почему твой шаг тяжелей и короче. Мне казалось, что я не тороплюсь, мечтая о жене заведующего собакопитомником, очень красивой якутке, на которую в Чокурдахе заглядывались многие, а она, как и положено замужней женщине, жила затворницей и не давала повода ни для чьих надежд, в том числе и для моих. Да и зачем мне было мечтать о жене заведующего собакопитомником, когда рядом шла Огра, свободная, прекрасная и чистая, как полярная птица, от нечаянного счастья быть рядом с которой я еще не оправился. Конечно, я это придумал, чтобы не казаться себе неповоротливым и слабым.
И вдруг я заметил, что Огра приостановилась и поджидает меня. Когда я подошел, она с тревогой показала на небо справа от нас – уже посеревшее, оно стало багроветь, словно из-под золы набирался жар. Я мог бы обратить на это внимание только как на красоту, как на желание природы доставить человеку лишнюю минуту радости, но не как на дурное предзнаменование. Однако Огра была из местных, с детства она научилась разбираться в небесных красках и знаках, и тяжелый, приглушенный жар над нашими головами ей не понравился. Она в неуверенности топталась, не зная, что выбрать – идти ли вперед или поворачивать назад.
– Пурга, пурга будет, – повторяла она, обращая раскрасневшееся от мороза и волнения лицо в разные стороны, будто пытаясь определить, откуда ударит ветер.
Мы решили все-таки идти вперед, до собакопитомника казалось ближе. В то далекое время в Чокурдахе немало издевались над этим собакопитомником, считая, что люди там недурно устроились возле лаек, а они, как я теперь понимаю, делали хорошее дело – сохраняли в чистоте лучшую в мире индигирскую породу ездовых собак, Не стало питомника – и перемешалась ездовая чуть ли не с дворняжкой, и поблекла слава индигирской упряжки. А в тот вечер, убегая от пурги, мы с Огрой могли рассчитывать только на темные строения, на «хоромины» собакопитомника.
Ветер мощным порывом рванул как-то сразу, без натяга, словно обвалился сверху. Девушка невольно ухватилась за меня, я выронил чира и не стал его поднимать. Теперь не до чира, теперь считай руки и ноги, чтобы не оставить ненароком в чистом поле, в тундровом раздолье. В одно мгновение тундра в сплошном белом месиве слилась с небом, исчезли огоньки и звезды, в трех шагах потерялись всякие очертания.
– Шелоник! Ой, шелоник! – со страхом крикнула девушка.
Многого я в этих краях не знал, но про шелоник был наслышан. Это юго-западный, дующий с материка, ветер, с которого начинались многодневные бураны. Шелоник – не только на море разбойник, на земле тоже. Оставалось одно: пока не замело, держать под ногами дорожный наст и бежать, бежать… Так мы и попытались сделать. Ветер набирал силу, крутил и сносил нас с дороги, мутная снеговерть становилась гуще и беспорядочней. Время в таких случаях как исчезает, отлетает напрочь из памяти и обихода; был гудящий остервеневший ветер, была мешанина из секущего снега, забившего до отказа воздух, и мы двое, поддерживавшие друг друга, то ли поднятые в воздух, то ли продолжающие передвигаться по земле, и была цель – добраться до собакопитомника, стоявшего где-то совсем неподалеку, все больше и больше слабевшая и отдалявшаяся.
Нет, мы все-таки оставались на земле, потому что стали проваливаться, запинаться о кочки – потеряли, значит, дорогу и пошли наобум. Мы уже не бежали – с трудом брели, спотыкаясь и дыша запаленно и сдавленно. Все попытки отыскать дорогу ни к чему не привели. Где вперед, где назад, где право и лево – все исчезло под ярым помелом пурги. Мы обессилели, хотелось упасть, чтобы отдышаться, но я знал, что останавливаться, обманывая себя отдыхом, нельзя, что надо или двигаться или закапываться в снег. Однако мы еще надеялись на чудо в продолжали куда-то двигаться.
Ветер сделался таким упругим, что, казалось, можно его потрогать. Он накатывал тугими, подхлестывающими друг друга волнами. Снег несло у нас под ногами, над головой, чудилось, что он просекает нас насквозь и, не задерживаясь, летит дальше. Мчалось, крутилось снежное течение, как стремнина бурной реки. Мы тратили теперь усилия не на то, чтобы держать хоть какое-нибудь приблизительное направление, а чтобы сопротивляться течению и не дать себя унести.
Наконец я почувствовал, что не могу больше сделать ни шагу. Потный и разбухший, я опустился на колени и принялся хватать губами снег. Я понимал, что делать этого нельзя, но подчинялся уже не разуму, а чему-то другому. Огра, загораживая меня от ветра, стояла рядом. Я помнил, что я поднялся и пошел, но затем вдруг опять обнаружил себя сидящим, и опять Огра закрывала меня от ветра и тормошила, заставляя выпрямиться и идти.
Мы шли куда-то вперед, потом повернули назад. Куда? Я не соображал. Мне мерещились огоньки, яркие и разные, звездчатые и сосульчатые, они мерещились мне, когда мы шли вперед и когда поворачивали назад. Я верил и не верил в их существование, то приближался к ним, то отдалялся, однако двигался, и это я приближался или отдалялся, а не они, это зависело от моих усилий.
– Считай, – кричит мне Огра, и, как ни поразительно, я слышу ее слова отчетливо, ревущая пурга не мешает им. – Считай. Раз… два… три… пять… девять… одиннадцать… пятнадцать… двадцать. Теперь поворачиваем. Считай. Раз… два…
Двадцать шагов вперед, двадцать назад. Туда и обратно, туда и обратно. Я забывал счет, сбивался, Огра поправляла меня.
– Присядем, – в изнеможении прошу я, – отдохнем немного.
Меня неодолимо тянуло в сон.
– Милый, – шепчет она. – Надо идти. Поднимайся.
Никто не в состоянии измерить силу этого слова. Оно, сказанное шепотом, оказалось громче воя пурги и сильней моей усталости и обреченности. И теперь, много лет спустя, я продолжаю слышать голос, глубокий и пружинистый, чистый и чувствительный, каким было произнесено это слово – будто девушка не испытала то же самое, что и я, а сказала его в теплой комнате после долгого беспечального отдыха.
Оно подняло меня. Мы снова пошли, двадцать шагов туда и двадцать обратно, туда и обратно, туда и обратно. И так до рассвета.
На рассвете пурга стала утихать, и я от конца и до края увидел нашу натоптанную дорогу. Она была широкой и извилистой – будто тут прошло стадо оленей. Низкими теплыми пятнами темнели неподалеку постройки собакопитомника.
Двадцать шагов туда и обратно спасли нас. Иначе мы бы ушли в тундру и погибли. Нас вместе спасли эта двадцать шагов, но меня-то, я знаю, спасло слово, одно-единственное всемогущее слово, вырвавшее меня почти из небытия и заставившее снова и снова делать эти двадцать шагов.
Перевод с якутского В. Распутина.








