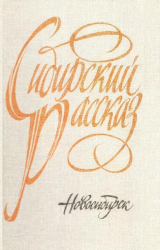
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Но тут же уверенность покинула ее. И недобрые духи толкнули на маленькую женскую хитрость.
– Все-таки странно, что именно ты приехал на своей лодке, – сказала она, отвернув лицо. – Вообще-то, я ждала, что это Туля сделает.
– Туля?!
– Да, Туля. Наш киномеханик. Ты что, не знаешь разве?
– Нет, почему же, знаю, – после минутной паузы отозвался Унтари. – Кто же этого красавца не знает? Я его видел на берегу. Ждал, наверное, пока утихнет ветер.
И поднялся с мокрой земли.
– Ты пей чай, грейся, а я пойду Лор Вош Ики помогу воду вычерпывать.
Унтари повернулся к ней спиной и направился к своей дюральке.
Что-то чужое, независимое уже было в его походке – Туньла так и сжалась в комок под раскисшей оленьей тужуркой: и кто дернул ее за язык?! Ненормальная! Дура!
Ей захотелось вскочить, догнать Унтари, обхватить его за шею, рассказать, как думала о нем все эти годы, как ждала лета, чтобы увидеть его хоть издали – и кто знает, может, не будь тут отца, она именно так бы и сделала, но отец был здесь. И Туньла осталась на месте – мокрая, голодная и очень, очень несчастная.
Гроза улеглась, все они вернулись благополучно на берег. Унтари вежливо попрощался и исчез во внезапно падшем тумане. А еще через несколько дней она узнала, что он уехал в туристический поход – на Байкал.
Осенью, когда начался учебный год, Туньла в приступе какой-то отчаянной решимости вдруг решила написать ему письмо в Салехард. Хотела рассказать о любви – но ничего не получилось. Письмо вышло коротким и скучным: шурышкарские новости, приветы от одноклассников. Унтари ответил – тоже коротко, в шутливом тоне: мол, живу, не тужу, грызу гранит паук, уже изрядный кусок отгрыз, привет родным и знакомым. Но Туньла была рада и этому. В таком стиле переписка их длилась некоторое время, а потом увяла.
Все письма Унтари хранились у Туньлы в деревянной узорчатой шкатулке, спрятанной в дальний ящик комода. Она их часто перечитывала, а то и просто перебирала, с нежностью прикасаясь пальцами к бумаге, по которой маленькими зверьками разбегались его слова. Писать она не осмеливалась, но постоянно сочиняла в уме для Унтари длиннейшие послания.
Чаще всего она приходила к мысли, что ничего а никогда между ними быть не может. Он – студент, станет учителем, а она – сельская жительница, возится со зверьем и, наверное, до конца своих дней просидит в Шурышкарах. Унтари нужна другая – пообразованней, поинтеллигентней. И разумеется, он такую себе найдет – вон их сколько, красоток, с портфелями по Салехарду разгуливает!
Так что, может, отец с матерью и правы, подыскивая ей жениха из оленеводов? Этот, в неблюевой малице, молодец хоть куда.
Вон каким вихрем в нарту вскочил! Как вот только его зовут?
Мысли Туньлы прервал донесшийся со стороны поселка звон колокольчиков – это отбывала старуха Остяр, всласть нагостившаяся и наговорившаяся у них в доме.
Пора было возвращаться. Туньла погладила рукой ствол ели и покинула заснеженный остров. Луна сняла во всей своей немыслимой красе. Длинные тени от прибрежных деревьев прямыми хореями располагались по ледяному покрову Оби. Звезды казались еще ярче, чем были, а вот Млечный Путь как-то размыло по небу, и он уже не был так четко очерчен, как раньше.
Дома не спали, поджидая Туньлу, хотя время приближалось к полуночи. На столе остывал давно приготовленный ужин.
– Садись, доченька, я сейчас рыбу разогрею, – захлопотала мать.
– Я ничего не хочу. Спасибо, мама.
– Ну хоть чайку хлебни. Вот варенье из морошки.
– Чайку хлебну.
Отец налил Туньле полную чашку – тоже действие, ему несвойственное. «Сейчас о сватовстве начнет», – подумала девушка.
И точно.
Но повел отец издалека.
– До чего же хорошие люди к нам сегодня наведывались!
– Люди? Так ведь один приезжал.
– Один. Но он из большой семьи, из большого рода. Нарту новостей привез.
– Что ж это за новости?
– Рыбка нынче в речке Сыня замечательная ловится. Они уже амбар до отказу набили. Все щекуром да сырком, не чем-нибудь. И в стадах падежа почти что нет. Совхоз им премию выделил – пятнадцать оленей. У них теперь своих олешек – ого-го сколько!
– Приятно все-таки, когда в доме достаток, – вставила мать, уже успевшая вернуться из кухни с разогретой рыбой: она не оставляла надежды накормить дочь.
– Еще бы! – поддержал ее отец. – Мне вот с оленями не повезло, зато у других порядок. Есть чем кормиться.
– А мы что, голодаем? – возмутилась Туньла. – Вон, полный стол едой заставлен – девать некуда.
– А все же с оленями лучше – смелей вперед смотришь.
Туньла умолкла. Психология оленевода – есть психология оленевода. Тут уж ничего не поделаешь. Она молча глотала горячий крепкий чай и издала, как отец вывернет на главную дорогу.
Лор Вош Ики особой хитростью не отличался. Покряхтев, покашляв и зачем-то потеребив себе уши, он пошел напрямик:
– Вот что, дочка! Расставаться с тобой нам жаль. Но не век же под родительским крылом сидеть взрослой девушке! Пришла и твоя пора.
Туньла отвернулась.
– Чего глаза прячешь? От жизни не спрячешься. Старухе Остяр насчет калыма я сегодня сказал. Дня через три будет ответ.
– Что-о?! – вскинулась Туньла. – Какого еще калыма?! Ты в своем уме?!
– Древний обычай. Не я придумал.
– Да кто его сейчас соблюдает?!
– Многие, дочка. Ох, многие еще! А мы чем хуже других? Почему не взять, если дают? Чего тут худого?
– Помнишь, Лор Вош Ики, какой калым твой отец отвалил, когда ты меня в жены брал? – пропела мать. – Половина оленей, которых Хон Ванька угнал, из нашего стада были.
– Молчи! – прикрикнул на нее отец. Он не любил вспоминать о своей незадаче.
Мать прикусила язык и скрылась на кухне.
Отец приступился к Туньле с другой стороны.
– Погляди на нас, дочка. Мы уж старимся. Гнемся к земле, как ручка котла. Сколько еще протянем? А выйдешь ты замуж – глядишь, и у нас сил прибавится. Дети счастливы – старики счастливы. Разве не так?
– Да какое же это счастье – силком замуж идти? Чтобы я старухи Остяр, этой сводницы, у нас больше не видела! Нечего ей тут делать. Пусть в своем Тильтиме невест ищет!
– Много себе позволяешь, дочка! – рассердился отец, и брови его взлетели вверх крыльями рыбного коршуна. – Я тебя и спрашивать-то не должен!
– Не должен, правильно! – поддержала его из кухни мать. – Меня в свое время в нарту, словно мешок, кинули и умчали: я и пикнуть не посмела.
– Так это когда было! – заплакала Туньла. – За это время не одно дерево уродилось, не одно засохло.
Туньла вскочила и, опрокинув чашку с чаем, ринулась вон из комнаты. В сенях она бросилась на ворох старых оленьих шкур и в голос зарыдала.
Прибежала мать. Села рядом и попыталась ее успокоить:
– Поплачь, поплачь, доченька, дерево – ломается, человек – гнется. Все будет хорошо. Ты хоть парня-то разглядела? Статный, сильный – настоящий кедр. Не то, что твой Унтари. Я ведь все знаю – матери сердцем чуют.
Но чтобы не слышать больше никаких разговоров, она встала и, пробежав через большую комнату, как в омут, нырнула в постель. Там она закрылась одеялом с головой и долго еще ворочалась, всхлипывая, пока, наконец, не заснула.
Ночью ей снился Унтари. Кудрявый, плечистый, скуластый и черноглазый. Опять бушевала вокруг гроза, пенилась разгневанная Обь, шумела ветвями могучая ель, а они стояли, приникнув друг к другу, и не было конца этому объятью. Потом почему-то увиделась звероферма. Она, Туньла, не спеша идет вдоль шедов[25]25
Шеды – клетки для зверей, обитые вольерной сеткой.
[Закрыть], а голубые песцы, виляя пышными хвостами, мечутся в каком-то паническом страхе, словно предупреждая ее об опасности…
Проснулась она утром вконец разбитой, безразличной ко всему. И даже мысль о том, что в поселке могут проведать о калыме, не внушила ей ужаса.
Туньла побродила по дому, в котором все еще спали, отпила глоток холодного чаю и, натянув кисы, поплелась на работу. На ферме подивились ее бледному лицу, но Туньла сказала, что у нее побаливает голова, и подруги больше не приставали с расспросами. Обедать домой она не пошла и предстала перед растревоженными родителями только поздно вечером.
– Ешак ые![26]26
Ешак ые! – восклицание ужаса.
[Закрыть] Где ты пропадала?! – накинулся на нее отец.
Туньла не ответила, прошла в свои угол.
– У тебя что, уши льдом затянуло?
Туньле хотелось сейчас только одного – остаться одной. Но за шкафом, сидя на конке дочери, уже готовилась в атаку мать.
– Мама, я устала.
– Одумайся, Туньла! Хватит нас мучать, – мать сплюнула в сторону комок табака с утлапом[27]27
Утлап – стружки сырого тала, кладутся за губу с табаком.
[Закрыть]. – Ведь отец людям уже слово дал!
– А меня вы спросили?! – голос у Туньлы сорвался в крике.
Мать испугалась и в страхе откинула назад тяжелые косы с вплетенными в них старинными монетами, медными колечками, металлическими фигурками зверюшек и рыб. Ей ничего не оставалось, как пустить в ход главное оружие.
– Туньла, опомнись! Не говори с нами так. Мы же о тебе заботимся. Подумай сама: тебе за двадцать. Все твои приятельницы уже замужем. А ты кого ждешь? Унтари? Сиди, жди гуся в небе! Да он из Салехарда возвращаться и не подумает! Что он в нашей глуши потерял? Я слышала, он в институт собирается. Нужна ты ему, как прошлогодний снег. Когда он в последний раз тебе письмо прислал?
Туньла закрыла лицо руками: мать попала в самую точку. И точкой этой было ее изболевшееся сердце. «Она права, – с ужасом подумала Туньла. – Снежный чум – не дом. Придет весна – и растает. Унтари ко мне равнодушен. А если не он – так не все ли равно кто?»
После долгого молчания она сказала:
– Ладно, мама. Пусть этот, в малице, приедет. Я посмотрю, подумаю.
Через три дня, вечером, к дому подлетели две ездовые нарты.
– Я-а! Наймется, будущая родня приехала! – всполошился отец. – Женщины, куда вы запропастились? Кипятите чай, несите рыбу!
Мать заметалась между кухней и ледником, отец стал быстро натягивать праздничные, расшитые кисы – салтам вай, достал из сундука голубую шелковую рубаху.
– Переоденься и ты, дочка! Да поживее!
Но Туньла и не думала переодеваться. Она скрылась в своем углу. Оттуда все было слышно, да а видно кое-что тоже.
Гости сбросили в сенках малицы и ягушки и степенно вступили в дом. Отец приветствовал их стоя, пригласил за стол. Они молча сели.
Туньла вдруг закашлялась.
Отец насторожился:
– Где ты, дочка? Выходи, не прячься.
Пришлось выбираться из укрытия. Туньла предстала перед родителями будущего жениха, вся пунцовая от гнева и смущения.
– Вот она, наша старшая. Знаете, как ее в поселке зовут? Лонгхитам юх хорпи!
Гости одобрительно засмеялись.
Туньла готова была провалиться сквозь землю.
– Ну а теперь, дочка, сбегай-ка к Мохсар Семану, Я у него свой ремень забыл, с ножом. – И Лор Вош Ики пояснил: – У меня новый нож. В городе купил. Попробуем сегодня, как он строганину делает.
– Что плохого, – согласились гости. – По ножу судят о мужчине!
Ну, конечно, предстоял торг – разговор о калыме, – а ее хотели спровадить. Туньла только успела выскочить в сени, как вслед ей донеслись слова:
– Как насчет оленей?
– Пятнадцать! И деньгами – пятьсот…
Позор! Словно на рынке! Туньлу жгло, будто наелась крапивы. Ну что ж, сама виновата – дрогнула в какую-то минуту, пошла на поводу у матери, словно неразумная важенка. Она остановилась на крыльце – идти или не идти к Мохсар Семану? Ведь нож, конечно, всего лишь предлог – вон их сколько, этих ножей, у отца по стенам висит! Есть чем нельму настрогать.
В нарте, стоявшей справа у крыльца, шевельнулась какая-то одетая в меха фигура. В груди у Туньлы кольнуло: ведь это жених! Подойти поздороваться? И чего он тут, на морозе, расселся? Она осторожно шагнула к нартам. Фигура проворно вскочила на ноги а двинулась к ней.
– Ты – Туньла?
– Ну, я.
– Здравствуй!
– Здравствуй!
Они помолчали, топчась на снегу, словно олени. Наконец, Туньла прервала паузу.
– Как тебя звать-то?
– Меня? Ека. – Он откинул с головы капюшон малицы.
«Парень как парень, – подумала Туньла. – Здоров, силен, выпить не дурак».
– Слушай, – спросила она, – чего это ты вздумал ко мне свататься? Что, у вас в Тильтиме девушек не хватает?
– Хватает! – засмеялся Ека. – Да вот тетка Остяр больно много о тебе распространялась. – Он снова, как в первый раз, оценивающе взглянул на Туньлу. – Дело тетка говорила! Ты – во! – И он поднял вверх большой палец правой руки.
Хоть Туньле это и не понравилось, но все-таки она была польщена столь откровенным одобрением, Ека хохотнул:
– Ну как, пойдешь за меня?
Туньла снова ощетинилась.
– Разбежался!
– Ну-ну, ты не очень! – рассердился Ека. – Мы за тебя калым даем.
– Забирай свой калым и проваливай!
Жених оторопел. Туньла повернулась и пошла прочь, к темнеющему за домом лесу. Ека догнал ее. Глаза его горели упрямством.
– Уж не подумала ли ты меня опозорить? Гляди, в роду Лонгортовых обиды не прощают.
– В нашем роду Кельчиных – тоже.
Они уперлись друг в друга злыми глазами, как разодравшиеся песцы.
Ека переменил тактику.
– Ладно, перестань. Чем я тебе плох? Работать умею, на оленях ездить умею. Охочусь, рыбачу. Хочешь, соболя тебе на шапку добуду?
– Поосторожней с соболями. Угодишь, куда следует.
– Не угожу. Я ловкий! Послушай – не артачься, Туньла, Родилась уткой – в лебедя не превратишься. Поняла?
– Нет!
– Зарубку матери темного дома никаким ножом не выскоблишь.
– Какую еще зарубку?! Не мели ерунды.
– Я ханты, ты – хантыйка. Наше дело – олени, зверье, река, тайга. И нечего тут церемоний разводить.
«Может, и правда – нечего», – мелькнуло в мозгу у Туньлы. Она опустила веки:
– Дай мне поразмыслить.
– А чего тут размышлять? Соглашайся.
Туньла отвернулась от него и вновь направилась к лесу.
– Эй! Может, тебе калым маловат? – крикнул ей вслед Ека. Она не ответила. Поколебавшись секунду, он бросился за ней вслед, меряя снег рысьими прыжками.
– Стоп! Скажи отцу – Ека калым удваивает. Тридцать оленей! И тысяча рублей! Слышь – тысяча!
Туньла стремительно обернулась. Щеки ее пылали.
– Чтобы духу твоего здесь не было! Торгаш!
Она схватила ком снега и запустила им в жениха. Снежок угодил Еке в лоб – недаром же Туньла была дочерью охотника.
– Ах, ты так!.. – Ека внятно выругался и побежал к дому. Через несколько минут высоконосый лохсянг рванул с места и исчез в темноте, словно растаял.
Руки у Туньлы дрожали, но начатое надо было доводить до конца. Вдохнув полной грудью морозный воздух, она рывком открыла двери и вошла в дом. Здесь вовсю разворачивалось праздничное застолье. В мисках дымилась отварная оленина, горой лежала на сковороде обжаренная в жиру рыба, светилась желтым светом моченая морошка, алела клюква. Уже наполовину опустевшие бутылки айсбергами высились среди тарелок. Гости, обо всем договорившиеся с хозяевами, благодушествовали, расстегнув верхние пуговицы своих рубашек.
Гостеприимство – закон северян, и нелегко было Туньле его нарушать – ох, нелегко! – но все же она встала посреди комнаты и сказала:
– Я не стану женой вашего сына.
– Замолчи! – вскочил со стула отец. – Сейчас же замолчи.
– Не стану!
Гости всполошились:
– Чем тебе Ека не угодил? Подожди, сейчас мы тебе подарки принесем – они в нарте остались…
– Мне не нужно ваших подарков. Уезжайте. Ека уже укатил.
– Не обращайте на нее внимания! Она сама не знает, что говорит, – запричитала мать. – Глупая еще, молодая… Ешьте, я сейчас оленьих языков принесу!..
Но гости уже поднимались со своих мест. Зашуршали в сенях малицы и ягушки, и вскоре и вторая нарта растворилась в пуржистой ночной мгле…
У Туньлы ослабели колени, она села на лавку. Отец, сгорбясь, отвернулся к окну… Над разгромленным столом поникла мать. Словно испуганные мыши, попрятались по углам сестренки и братья.
Бесконечным, как дневной переезд по тундре, было молчание. Наконец, Туньла тихо позвала:
– Аси!.. Отец!..
Лор Вош Ики не отвечал, только лопатки судорожно сошлись у него под голубой праздничной рубахой.
– Прости, отец…
Туньла села рядом с матерью и обняла ее за шею.
– Мама… И ты прости… Иначе я не могла.
Лор Вош Ики шумно, как усталый хор, вздохнул и повернул лицо к непокорной дочери. Нет, не было гнева на этом лице, таком родном и любимом для Туньлы. Не было! Может быть – лишь растерянность или недоумение.
– Ты проголодалась, дочка. Ешь…
– А вы?
– Кусок в горло не лезет! – всхлипнула мать. – Такое ты нам устроила – от Шурышкар до Тильтима судачить будут!
Но отец вдруг сказал:
– Пусть судачат. Не все ли равно?
И громко рассмеялся:
– Калым, калым! Прощай, калым! Тю-тю!
Туньла улыбнулась и положила себе на тарелку большой кусок жареной нельмы. Завтра на ферме много работы – и вправду надо хорошенько поесть.
Перевод с хантыйского Э. Фоняковой.
Андрей Тарханов
ПОДСКАЗ ГЛУХАРЯ
«Странно. Лицо молодое, а уши старые», – думал Петр Шешуков, глядя на заведующего районным отделом культуры Льва Андреевича Краскина. Уши у заведующего, действительно, были примечательными: большие, блеклые, вислые, они выглядели явно чужими на тридцатилетнем, круглом, как луна, лице. «И слова какие-то старые, холодные».
– Юбилеи района – это замечательное событие для трудящихся нашего края, для нас, работников культурного фронта, – медленно говорил Лев Андреевич, стараясь придать голосу торжественность и басовитость.
В кабинете заведующего полно народу: работники Домов культуры, клубов района, методисты отдела культуры.
– Это праздничное и торжественное событие мы должны встретить во всеоружии. Особое внимание обратите на наглядную агитацию. Чтоб все цифры налицо. Чтоб все сверкало, сияло, слепило! – в голосе Льва Андреевича появились нотки воодушевления. – И не забывайте о личных обязательствах. Мобилизуйте на выполнение их всю свою энергию, ум, изобретательность…
Петр сидел одиноко, в сторонке, почти у самой двери. Широкоскулый, с высоким лбом. А вот глаза какие-то печальные. Или от непотухшей душевной раны, или от неосуществленной мечты бывает такая печаль у людей.
– Что скажет о своих обязательствах наш художник? А, Петр Ефимович? – обратился к Шешукову заведующий. И, не дожидаясь ответа, спросил с напором: – Сколько скульптурных изделий выдашь к юбилею?
Петр Шешуков – местная знаменитость, художник, резчик по дереву – молчал. Слишком нелепым показался ему вопрос.
– Не скромничай, Петр Ефимович, не скромничай, – послышались голоса. – Покажи нашу таежную хватку.
«Денег все равно нет. Надо соглашаться. Может, аванс дадут?» – мелькнуло у Петра.
– Ну, изделия два сделаю, – нерешительно сказал он.
– Ма-а-ло, Петр Ефимович. Ой, мало, – покачал головой заведующий. – Такой юбилеи! Пять-де-сят лет району!.. Как думаете, товарищи?
– Юбилей, конечно, замечательный. Тут надо подумать, Петр Ефимович, – поддержало заведующего несколько голосов.
– Не знаю, что и сказать вам, Лев Андреевич… – Петр был растерян, смущен и оттого казался еще меньше ростом.
– Тогда я скажу! – заведующий упрямо вскинул подбородок. – Пять изделий мы ждем от тебя, Петр Ефимович. Пять – это символика. За каждым изделием – десяток лет жизни района, его истории. Первую скульптуру вы уже, наверно, сами видите, товарищи. Это оленевод, забитый, угнетенный. Ну, а финал надо с космосом связать. Без него мы теперь, сами понимаете, ни туды и ни сюды.
– Да при чем тут космос?! – раздались голоса. – Оленей негде пасти! Олени гибнут, а тут про космос…
– Не мне тебя учить, Петр Ефимович, – сказал на прощание заведующий. – Но помни: ты получил государственного значения заказ. Через двадцать дней жду тебя. Время торопит.
Взяв в бухгалтерии отдела культуры аванс, Шешуков в тот же день улетел в свою таежную деревушку на АН-2. Жил он один. Двухкомнатная квартира его была сплошь заставлена изделиями из дерева, заготовками – березовыми и осиновыми чурками. Посмотрев заготовки, Петр задумался. Долго он сидел неподвижно. Поднявшись, сказал сам себе озабоченно: «Хорошую березу надо…»
Стояла вторая половина сентября. Лес еще хранил следы изначально-величавой осенней красоты. Ссыпая на землю последнее золото, он прислушивался к голосам неба.
Брусника, схваченная инеем, потемнела, была такой вкусной, что Петр зажмуривал от удовольствия глаза, Особенно любил Шешуков лиственницы. Гордо и надежно стояли они в лесу. Прекрасна у них в эту осеннюю пору хвоя. Нежно-огнистая, мягкая, она навсегда впитала в себя жар июля. И когда Петр держал на ладони обласканные солнцем хвоинки, он явственно ощущал это тихое тепло лета.
Петр ходил по лесу. Подойдет к березе, окинет ее зорким взглядом от корней до макушки, обухом топорика стукнет легонько по стволу, стоит, прислушивается. «Не то», – скажет, и снова в путь.
Долго искал Петр ту единственную, нарисованную умом и сердцем березу, и все напрасно. Близ деревни, верст на десять-пятнадцать в округе, березы были с изъяном: то суховаты, то ростом не вышли, то свилеватые, то поясок бересты снят (но здесь уже человек виноват). «Надо к матери съездить», – решил Петр. Он, как я все мужчины в деревне, имел лодку, подвесной мотор. По реке до заброшенного мансийского поселка, где одна-одинешенька жила мать Шешукова, рукой подать – двадцать два километра. Места там глухие, лес крепкоствольный, нетронутый, ищи – любой клад найдешь. «Там моя береза живет», – думал Петр дорогой.
– А, пася, ятил пыгрись[28]28
Пася, ятил пыгрись – здравствуй, милый сынок.
[Закрыть], – обрадованно встретила сына мать, маленькая, юркая старушка в теплой меховой куртке.
За обедом Петр вернулся к давней семейной теме.
– Тоскливо ведь одной, мама. И мне нелегко. Поедем? Квартира теперь своя, большая.
– Ат, ат, пыгрись[29]29
Ат, ат, пыгрись – нет, нет, сынок.
[Закрыть].
Не хотела мать уезжать отсюда, как ни уговаривал Петр. Тут, мол, мои родители родились и умерли, тут и я буду помирать. А насчет березы посоветовала сходить в лесок за реку.
Петру этот лес был знаком с детства. И теперь он торопился к нему с волнением, словно шел после долгой разлуки на встречу с братом.
Утро выдалось ясное. Воздух был соткан из тончайших паутинок и хрусталинок инея. Лес встретил Петра прохладой, таинственным шорохом. «Листья сыплются», – подумал художник. Боясь нарушить тишину, он шагал осторожно, почти на цыпочках.
Березы соседствовали с елями. И поэтому темную длинную шею глухаря он сначала принял за обгорелый сук хмурой ели. Но, вглядевшись, понял: перед ним царь-птица. Петр замер. Ни единым перышком не шелохнув, глухарь зачарованно смотрел на восход. Никого в мире сейчас не существовало для него, кроме этого косматого, лучистого, завораживающего сознание зарева. Вековой инстинкт говорил птице: это зарево несет в тайгу пробуждение, жизнь. И глухарь каждое утро дивился восходу солнца. И сейчас он глядел и глядел на восход, забыв обо всем на свете, чуть приоткрыв клюв, словно пил и не мог напиться лучами светила.
Петр сделал два неслышных шага влево и только теперь увидел, что глухарь сидит на березе. Стройная, молочно-белая, с карим отливом береза немного уступала в росте двадцатиметровой соседке-ели.
– Это она… Она! – вырвался у Петра ликующий крик. – Спасибо, глухарь!
Очнувшись, птица глянула в сторону человека и тяжело, нехотя взмахнула огромными крыльями.
Распиливал березу Шешуков пилой-лучком. Музыку, мелодию леса таили в себе годовые кольца дерева. Этими мелодиями и должно зазвучать, заговорить творение художника. Береза переехала в дом Шешукова.
Новые заготовки ждали своего часа. А пока Петр колдовал над листами ватмана: что-то чертил, измерял, прикидывал, набрасывал штрихи портрета то ли оленевода, то ли охотника – не поймешь.
Друзья Шешукова знали, что он давно мечтает вырезать из дерева молодого оленевода зырянина Ветто Ларионова. Редкой выдержки и смелости был Ветто. Художника и вправду волновал его образ. Для него он искал березу. И элементы композиции будущего изделия были найдены: Ветто, олененок, береза, чум. Но дело почему-то не клеилось. Петр вначале сам не понимал – почему? Вроде, душевный зов есть. Просыпается ночью – словно кто-то его будит, торопит, зовет к заготовкам, к долоту. А примется за работу и чувствует – нет у него крылатой радости, упоенья этой работой. Какой-то новый образ туманит воображение, мешает сосредоточиться.
Стоял Шешуков однажды у окна, смотрел задумчиво на лес. И вдруг его озарило: так он же думает о глухаре! Ну да, это образ птицы не дает ему покоя: тревожит, волнует, требует к себе внимания.
– Прости, Ветто, – с дрожью в голосе, но облегченно произнес Петр. – Всему, видно, свой час. Ты тоже сам позовешь меня, – и он с тихим восторгом на лице пошел к березовым заготовкам.
Через двадцать дней Шешуков доставил в кабинет Льва Андреевича Краскина всего одно изделие: «Поющий глухарь». Вытянув длинную гордую шею, глухарь пел, в упоении зажмурив глаза. Он был околдован восходом солнца – этим самым трепетным для него чудом. Живой, поющей казалась и ветка березы. Той березы, которая приютила в то памятное утро царь-птицу.








