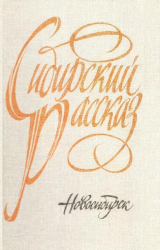
Текст книги "Сибирский рассказ. Выпуск V"
Автор книги: Еремей Айпин
Соавторы: Софрон Данилов,Владимир Митыпов,Николай Тюкпиеков,Алитет Немтушкин,Барадий Мунгонов,Николай Габышев,Дибаш Каинчин,Митхас Туран,Кюгей,Сергей Цырендоржиев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Песню эту, которую Ямбе слышал по радио, а потом из уст Нарэйне, старуха сама для себя сочинила, сама придумала. Еще с молодых лет, как только Ямбе ее сосватал. Песню эту Пуйне всю жизнь поет. Это ее личная песня. Только редко поет Пуйне – некогда.
– Погоди, погоди, а когда это она успела песню свою на «говорящую машинку» записать? Все дни будто бы дома сидит, шьет себе? Хитрая эта игрушка «Спидола». Людей только обманывает. Пуйне будто поет, а сама она – кто не знает? – в кино болтается. Такая вроде тихая, скромная поведением, трижды бабка уже, а магнитофонами, как молодая, балуется. Теперь смеяться люди станут. И Вавлё и Нарэйне неудобно будет перед людьми – расхвасталась. А Петр, младший мой сын, что на Пелядке-речке промышляет, тоже, наверное, мать свою несуразную по радио слышал? Стыдобища.
Вот и невестку, глядишь, так же испортят. Мужиков-то ладно, они век по радио говорят о рыбалке, об охоте, оленьих стадах. Это надо, чтобы люди слышали, знали, как они работают, как живут. А песни петь к чему? Да еще чужие, личные? Ох-ох, народ нынче…
И Нарэйне тоже распелась, радио дразнит.
Когда подъезжали на катере к Белым пескам, Ямбе сразу приметил чум своей невестки. Не сильно большой и не сильно маленький, аккуратный, светленький чум у Нарэйне. Потому что сама она – все знают – хорошая женщина. И дети ладными, добрыми и ласковыми растут – двое старших сыновей Вавлё все лето, пока каникулы, на берегу пропадают, неводят со взрослыми.
«Хорошо б и Петру такая нужная женщина попалась, – подумал Ямбе, – тогда бы и умереть спокойно можно. Хорошо бы. А то ведь наши девки нынче убегают в поселок, замуж за первых встречных парней выскакивают и – до свиданья, тундра, чум, олени…»
* * *
Назавтра рыбный катер не пришел. Появился он лишь к пяти утра следующего дня. Долго сирену давал, будил рыбаков, звал к себе. В чумах все еще спали. Что, неправду говорил Ямбе Пяся? Нечего было два дня подряд кино всю ночь глядеть.
Протирая на ходу глаза, рыбаки повыскакивали на улицу. Кто снимал с вешалов высохшие портянки, куртки, кто надевал сапоги, иные же шагали к лодкам. Вавлё первым завел свой мотор, и доверху груженная ящиками с рыбой лодка, а в ней Ямбе, два его внука-школьника, рыбаки, напарники Вавлё, – поспешила к паузку и катеру.
Любит Ямбе этот шум на катерах во время сдачи рыбы. Ловко и быстро ребята поднимали с лодки полные рыбы ящики на палубу паузка, деловито ставили на весы, затем спускали в трюм, там работали – привычная, любимая работа, успевай только не зевай, записывай, сколько килограммов, центнеров, какие сорта, виды рыбы.
С приемщиком схватились рыбаки. Тот бегал с линеечкой и измерял чуть ли не каждую рыбешку. Немерную швырял обратно в лодку, грозился рыбнадзору нажаловаться. Из-за сортности рыбы почти скандал вышел. Приемщик явно занижал ее, сортность рыбы, опасаясь, что пока он довезет продукцию до Халяхарда, она обмякнет. Рыбаки же доказывали свое: «Только-только поймали! Надо было вчера приезжать! На берегу, без холода, как она, рыба, летом не испортится? Где у вас лед, где рефрижераторы?» – кричали промысловики.
Пуще всех старался Мишка Ямкин, молодой, с крупной черноволосой головой парень. Лицо от волнения красное, как цветы щавеля. «Вы всю дорогу на вас ездите – себя страхуете! Рефрижератор нам тут ставьте, рефрижератор!»
Помогал ему другой, тоже из бригады Вавлё, Стасик Ямкин: «Рыба не человек, она не знает, каков ее рост и можно ли ей лезть в невод…» – Стасик смотрел в сторону и степенно, как старичок, повторял: «Рыба – не человек…»
– Выбрасывай ее обратно в воду, пока живая, пусть растет! – отвечал рыбоприемщик, похожий на нерпу, круглолицый мужичок.
Может, еще бы долго препирались рыбаки с приемщиком, хотя видно было, что обе стороны правы в своих домыслах, вот уже к одному решению подошли, но тут на палубу катера вышел капитан, Александр Иванович Жаворонков, именуемый среди сельчан Птичкиным, а на катере кэпом, высокий, крепкий, с лицом, исхлестанным ветрами и штормами. Все примолкли, ругань и споры враз прекратились. Жаворонков давно здесь плавает, на рыбоучастке работает уже лет двадцать. Молодым парнем начал капитанить на судах. Он все знает, вмиг уловит, кто прав, кто нет. Видимо, зная это и чувствуя, что понапрасну крик подняли, и рыбаки, и приемщик спокойно и по-деловому закончили свою работу.
* * *
Ясным погожим днем, около месяца отдохнув на рыболовецких промыслах сначала у Вавлё, потом на Пелядке у Петра, старики Пуйне и Ямбе Пяся возвращались домой в Халяхард.
У Ямбе заметно посвежело лицо, еще бы – он каждый день ел свежую рыбу. Их гостеприимно потчевали ухой из сига, сагудиной из самых лучших, жирных чиров, жарили, парили, солили и вялили для них енисейскую сельдь. Еще юколой угощали, старинными лакомствами и варкой, приготовленной из сушеной, зажаренной в собственном жире рыбой. И сиговая икра, и малосол, пелядь, жаренная на палочке у костра, вареные рыбьи пупки, печень, рыбные пирожки и котлеты и даже строганина среди лета – все тут было.
Но пора ехать домой – их ждут свои дела.
Катер, на котором они возвращались, безжалостно резал носом зеркальную гладь Енисея. И Ямбе, и Пуйне сидели молча, каждый думал о своем, переполненный впечатлениями от гостевания, встреч с земляками, от увиденного, услышанного.
– Хы, – перебил молчание старик. – Хы-хы. А помнишь, старуха, как ты по «Спидоле» пела?
– Рассказывали…
– Ха, так это в самом деле ты так меня ценишь или только по радио?..
– Не знаю… Отстань.
– Нет, ты скажи, правда?
– Забыл, как я за тебя замуж выходила – не силком же? – нашла спасительную фразу Пуйне, лишь бы старик отвязался от нее, отстал.
* * *
Родители Пуйне и Ямбе тоже были рыбаками, Пяси жили в те времена далеко, в верховьях Варк-яхи (Медвежьей речки), а семья Тэседо совсем в другой стороне – на речке Пелядке.
Может, Ямбе никогда бы не встретил свою Пуйне, может, на другой бы его женили, да родители их с молодости знакомы были, друг к другу гостевать заезжали. Пуйнин отец, Шали, три раза был у Пяси в гостях – ему что, оленье стадо у Шали хорошее. Отец же Ямбе, Тимофей Пяся, всего один раз добрался до своего друга Шали и то на чужих, нанятых им оленях.
Из гостей Тимофей привез важенку с двухгодовалым теленком.
Очень доволен был, всем об этом то и дело рассказывал, хвастался. А что он, пеший рыбак, подарит другу, хорошему Тэседо? Оленей у него нет, а через год-два ему по традиции за подарок так и так расплачиваться надо? Об этом много думал Тимка Пяся.
Помогли Тимофею его мастеровые руки. Взял он небольшой, острый топор и в лесок направился. Там подолгу выбирал деревья, присматривался, вымерял и потом принимался рубить. Так Пяся ходил туда дня три. Наконец, принес на себе к чуму заготовки для мужских ездовых нарт.
«Леса там у них, в низовьях, нет, – рассуждал Тимошка, – нартами они бедствуют, для Шали это будет лучшим подарком».
Другой раз Пяся смастерил нарядные, легкие, просторные нарты с кошевкой – для жены Шали.
А когда в третий раз Тэседо приезжал, Тимофей дал ему в руки легонький, без единого сучка, с наконечником из мамонтовой кости хорей. Так что Тимофей Пяся должником не был.
В одну из встреч родители Пуйне и Ямбе и сговорились женить своих детей. Но как Пясе ехать свататься, на чем? Это его и мучило. Может, здесь, у себя, девчонку присмотреть для Ямбе – проще и дешевле. Но породниться с оленным человеком Тэседо очень ему, Тимке, хотелось. К тому же, его друг Шали согласился получать плату за дочь частями, не сразу. Как Пясе не ценить такую доброту? Словом, нанял он в долг – обещал отработать – упряжку, сын же поехал на выращенной отцом четверке бычков. Быть сватом Тимофей попросил старика Икси, родственника жены, у которого была своя упряжка оленей. Отправились они вниз по Енисею.
Ямбе всю дорогу думал, какая она, Пуйне, свататься к которой они едут, не передумал ли старик Шали, чего доброго. Ямбе теперь все дни неотступно только и думал о ней. Говорят, она, как дождевая капля, свисающая с шеста чума, – белолицая, справненькая, с двумя тугими косами за спиной, шьет хорошо и тихая-тихая, скромная. А если вдруг девка не захочет с безоленным человеком жить? Говорят, мать ее тоже из зажиточных…
Как только прибыли ездоки на место, Ямбе с отцом, привязав по обычаю свои упряжки у чума Шали, долго сидели на улице, на своих нартах, в ожидании, пока Икси, уже вошедший в чум, закончит обряд сватовства.
Долго не было старика. Может, он все еще стоит в дверях, опершись на свой резной посох, специально прихваченный для таких церемоний, может, не соглашаются Шали с женой? А может, Икси красноречие свое потерял – как знать?
Тут из чума, закутанная с головой в шаль, выскочила женщина, по всему видать, молодая и умчалась в соседний чум.
– Она, – Тимофей толкнул плечом сына, – Пуйне это. Принято, чтобы невеста не слышала разговоры о ее цене во время сватовства…
Наконец Икси вышел, помахал своим спутникам правой рукой, приглашая в чум. Значит, сватовство принято.
Уже кипело мясо в медных котлах, уже жена Шали чистила огромного чира, готов был ароматный чай.
Тимофей Пяся подумал тогда, садясь рядом со своим другом Шали на оленью постель: «Ведь не стали бы и за стол приглашать, и разговоры продолжать, если б у Тэседо были другие, «худые» для семьи Пяся намерения, если б они намеревались отказать… Значит, Икса сделал уже «начало – надо хорошо его одарить, как только домой вернемся». Сватовство продолжалось.
– Какой у тебя, Шали, ум есть насчет места жительства твоей дочери в будущем? – задал вопрос Икси, приступая к главному. – Далеко ли ты ее хочешь отправить? С каким родом думаешь породниться, или ты еще никакой ум об этом не держишь?
– Кхе, – громко кашлянул Шали. – О женщине никто точно не знает, где, в каких краях ей предстоит завтра жить…
Некоторое время оба молчали. Сердце Ямбе учащенно билось от нетерпения. Сидят мужики за столом, едят строганину, чай пьют, много не говорят – серьезный разговор их волнует.
Но вот сват снова свой голос пробует: «В наших краях мастеровые люди живут – два раза топором стукнут по дереву – и нарта готова. Не успеешь за губу щепотку табака положить – вот тебе хорей. Готовые нарты друг на друге, еще не пользованные, в тундре стоят, как беремя сушняка для топлива. Легкие, как пух, быстрые, как ветер, крепкие, как железо, нарты. Из костей мамонтовых, лосиных, оленьих все, что хочешь, умеют наши люди мастеровые. Даже пасти на песцов и то у нас не простые – резные. А лодки какие – даже русские их у нас покупают».
Долго слушали старика Икси. Шали только головой качал, жена его с открытым ртом сидела, хотя оба о мастерах с южной стороны давно наслышаны. Удивлялись они так, для вида.
– И среди нас сейчас сидит такой мастер, молодой хотя – все равно, как старик, все умеет. – И Икси кивнул в сторону Ямбе. Тот, конечно, от смущения смотрел вниз, теребил подол своей малицы.
Замолчал сват, видно, ответа ждет.
– А что же ты, старый человек, так далеко ездишь? Хороших мужчин и у вас, должно быть, женщины видят? – невозмутимо спросил Шали Тэседо.
– Ов-ха! – вырвалось у Икси. – Ов-ха, скажи-ка ты, потерял маленько слово-то я. – И, взяв себя в руки, продолжал: – Беда-то вот в чем. Парень наш, который сейчас в этом чуме, ни на одну из наших девушек голову не поворачивает. Лодок у него несколько, рыбак он удачливый. А чая ему сварить после промысла некому. Шестов на два чума имеет, а нюка сшить – хозяйки нет. Уйдет на рыбалку – холодно ему, придет – тоже очаг не горит. Нет ли в вашем стойбище такой же, как он, красивой девушки? Нет ли у вас мастерицы шить бокари, малицы, сокуи?
Устал Икси, да и Шали уже стало невмоготу мучить людей, особенно парня, и он согласился отдать свою дочь за десяток нарт, две долбленые лодки для рыбалки на озерах, около двадцати разных костяных и деревянных поделок для упряжи и пятьдесят рублей денег. Все это Тимофей Пяся (понятно, вместе с сыном) должны была в течение года отдать Шали Тэседо.
Год прошел. Опять Пяси поехали в далекое стойбище Тэседо. Теперь уже за невестой. Весь калым с собой везли.
И вот после шумной свадьбы Ямбе со своей матерью в отцом везли Пуйне к себе на Варк-яху. Позади легких упряжек мужчин свекровь вела длинный аргиш невестки. За аргишем Ямбе погонял оленей – приданое Пуйне. Все было тогда праздничным: и упряжь оленей с колокольчиками, и ямчо[20]20
Ямзё – (ямчо – Тайм.) – полоски крашенной в красный цвет оленьей кожи, которыми украшают голову оленя.
[Закрыть], и нарядные сокуи для мужчин, и парки с орнаментом для женщин…
* * *
Ближе к левому берегу, там, где Большой Енисей, фарватер реки, вверх по течению идет, видимо в Дудинку, морской пароход. Старики – будто впервые – смотрят в его сторону и цокают языками: какой, мол, большой, идет себе, как катится, на волны никакого внимания. Груженый идет, наверно, полный всякого добра. «Вот бы посмотреть, каков он изнутри, – подумал старик. – Какой красавец! В Дудинку идет. Грузы для Таймыра везет. А волны-то, волны от морского – страшно попадать на них».
А вот и Халяхард вышел из-за острова. Такой же светлый, желанный, как всегда. С тех пор, как старики Пяся перестали кочевать, тут в Халяхарде, в Рыбном поселке, – постоянное их жилье. По-русски, в доме живут. Обоих их на пенсию рыбоучасток проводил и сейчас им в работе не отказывают. Сыновья рыбачат, дочка учится в Ленинграде. Кто лучше живет?
Дом-то у Пяся не такой, как у многих, – особенный, на свой лад убранный, как им, Пуйне и Ямбе, лучше. Левую стену большой комнаты украшает меховой ковер, расшитый национальным орнаментом. Не ковер, говорят люди, а целая тундровая жизнь. Тут тебе и чумы, и огромный диск солнца, будто только-только показавшийся из-за горизонта после долгой полярной ночи; тут и олени, и вещевые нарты-вандако; и даже упряжка, поднимая вихри снега, мчится вдаль, как бы человек на промысел едет.
В углу, над столиком, вышитый бисером портрет Ленина. Пуйне не раз отдавала эту свою работу на выставку, но после забирала обратно. А на столике этом, круглом, самим Ямбе сделанном, чего только нет: деревянные идолки, фигурки зверей, шкатулки, коробочки, салфетки. Слева и справа от стола, на стенах, сумочки, картинки, меховые сувениры висят. Все это они сами, старики, да их дети и внуки, рисовали, бисерили, шили, строгали, вышивали – ведь не зря говорят: «Мастер мастера родит». Пяси – все мастера.
В спальне на полу незаменимый ковер – большая, с густой шерстью оленья шкура. По ночам косточки стариков греет видавшее виды заячье одеяло. А в поселок Пуйне с Ямбе выйдут – одно загляденье – ничего другого, кроме малицы и парки, не надевают. Надежна и красива их тундровая одежда, никакая шуба из овчины ее не заменит. И унтайки у них лучше всяких валенок. И шапки песцовые у обоих. Но кто лучше Пясей живет? Одно слово – богачи. А вспомните, что отец-то у Ямбе и Пуйнины деды и бабки – безоленными людьми были? Дети же их по-новому живут. Потому что руки у Ямбе и Пуйне мастеровые. На производстве хорошую зарплату и посейчас они получают. Одно слово – с умом люди живут. А еще потому они «богачи», что шарку (чарку), как те же Вануйто, не пьют. У Вануйто что ни угол, то дыра. У Пясей – достаток, добротность, сама красота. Отсюда и полная жизнь у стариков Пясей. Потому и богачи.
С тяжелым рюкзаком Ямбе сошел на ряжи, за ним спустилась Пуйне, и оба – выпрямив спины: смотрите, мол, люди, мы еще крепкие! Смотрите, мы из гостей! – с гордо поднятой головой, хотя и устали в дороге, зашагали к своему маленькому домику на угоре.
Роман Ругин
СВАТОВСТВО
Возвращаясь домой, Туньла издали увидела оленью упряжку. На улице стояли нарты, упитанные хоры[21]21
Хор – олень-самец.
[Закрыть] тяжело дышали – языки чуть не вываливались наружу.
«Лихо ехал пастух! – подумала Туньла, разглядывая высоконосый лохсянг[22]22
Лохсянг – выездная нарта.
[Закрыть], поперек которого был небрежно брошен разукрашенный цветными лоскутками сукна белоснежный гусь[23]23
Гусь – малица, шерстью наружу.
[Закрыть], припорошенный снегом. – Да еще, видать, пыль в глаза пустить любит. Кто бы это мог быть?»
Потом она заметила еще одну нарту – женскую. На шеях белобоких оленей поблескивали металлические колокольчики. Эта упряжь была ей знакома: она принадлежала старухе Остяр.
И тут неприятная догадка впервые шевельнулась в голове у Туньлы. Она приросла к земле. Занемевшими внезапно пальцами расслабила на шее узел платка. «Не пойду в дом, – решила она. – Ни за что не пойду!»
Туньла вспомнила необычно ласковый, суетливый говорок отца за утренним завтраком. Он все пошучивал, посмеивался, взглядывая на мать, и один раз даже хлопнул Туньлу ладонью по плечу – жест, совершенно ему несвойственный. Зачем-то потребовал, чтобы она понарядней оделась, хотя Туньла следила за собой, и здесь ее не в чем было упрекнуть.
– Нормально я одета, – огрызнулась она. – Что еще надо?
Но отец настоял на своем.
– Ну-ка, мать, доставай платок, который мы в Салехарде купили! Где ты его прячешь?
Мать, усевшаяся было на низкую скамеечку и приладившаяся вырезать узоры для меховых бурок, поспешно вскочила с места и метнулась к шкафу. Из заветных глубин она извлекла кашемировую шаль с кистями и набросила ее на спину дочери.
– Вот! Это другое дело, – одобрил отец. – Теперь ты настоящая невеста!
Тогда, утром, Туньла не почувствовала особенного смысла в этом слове – невеста. Но теперь ей все стало ясно. Она со страхом взглянула на белых полнобоких важенок. Пусть убираются, откуда приехали! Нечего им здесь делать.
Из-за дровяника вышла мать с миской замороженной рыбы в руках. Лицо ее было радостно-озабоченным.
– Где же ты пропадала, дочка? Иди, иди скорее в комнату! У нас гости.
– Какие еще гости? – хмуро отозвалась Туньла. – Зачем?
– Что за вопросы зачем?! Гости есть гости. Ступай!
Но в этот момент скрипнули двери, и на крыльце появился отец. За ним семенила старуха Остяр. А рядом с ней, широко, крепко расставив обутые в узорные кисы ноги, встал молодой незнакомый мужчина в новехонькой неблюевой[24]24
Неблюй – шкура олененка.
[Закрыть] малице. Было заметно, что все трое уже успели выпить. Увидев Туньлу, Остяр разулыбалась, а незнакомец метнул на девушку острый, оценивающий взгляд. Туньла молча наклонила голову в знак приветствия и отвернулась. Гость в неблюевой малице тоже промолчал, пожал отцу руку и, ловко прыгнув в нарту, пустил своих хоров рысью. Стоявшие на крыльце долго смотрели ему вслед, пока упряжка не скрылась в снежной дали. Туньла же тем временем шмыгнула в дом и укрылась в своем любимом углу – за шкафом. Ей надо было побыть одной и подумать.
Конечно, отец прав: она давно уже в возрасте невесты. Можно сказать, пересиживает в девках. Но, в конце концов, это никого не касается! Кому какое дело?! Она взрослый, самостоятельный человек. Работает. На звероферме все с ней считаются, даже медаль «За трудовое отличие» дали! Вправе она сама решать свою судьбу или нет? А ей приводят в дом жениха, которого она знать не знает, да и не хочет с ним, пижоном эдаким, даже знакомиться! Не ждала она такого от своих родителей! Не могли, что ли, с ней посоветоваться?! Забыли, что старые времена давным-давно прошли?! Что она не безграмотная покорная хантыйка, а молодой специалист, за плечами у нее восьмилетка, курсы звероводов в Ханты-Мансийске, и на общественной работе она не из последних?! Да, она осталась в родных краях, не укатила в большой город, живет по-прежнему в семье, но это вовсе не значит, что ее чувствами можно пренебрегать! Да, она любит родных, – сколько пришлось ухаживать за матерью, пока та болела ревматизмом! А младшие сестренки и братья? Она же вынянчила их всех подряд! Но дома не должны на нее смотреть, как на собственность! У нее своя жизнь, своя судьба, и она распорядится ею так, как захочет сама! И только сама!
Так с возмущением и обидой думала Туньла, сидя на застланной меховым покрывалом койке в своем любимом углу, и слезы застилали ей глаза, хотя вообще-то плакать она не любила. Туньла, разумеется, понимала, что гнев – плохой советчик. Отец и мать – люди прежнего закала, они от всей души желают ей счастья по своему разумению, и трудно убедить их в том, что они не правы – ведь и сами соединились по воле родителей, а вот поди ж, прожили жизнь в полном согласии, многие могли бы им позавидовать!
«Надо успокоиться, – решила Туньла. – Нельзя себя распускать».
Она вытерла мокрые веки, провела рукой по своим пушистым, черным, похожим на мех чернобурой лисицы, волосам и погляделась в небольшое овальное зеркало, висевшее на стене. Желтоватое стекло отразило чистый овал лица, полные смятения живые темные глаза и чуть широковатый, курносый, как у выездной нарты, нос.
Туньла была недовольна своим носом и не очень доверяла красивым словам, которыми ее называли в Шурышкарах – лонгхитам юх хорпи – «девушка, похожая на березу без единого сучка». Но что ей нравилось на собственном лице – это брови! Оленьими рогами они гордо взмывали вверх на ее гладком, хоть и не слишком высоком, лбу. Брови говорили о характере – неужели дома не видят, что он у нее есть?!
Половицы слегка качнулись – вернулся с улицы отец. Туньла слышала, как прошелестела сброшенная малица. Потом что-то звякнуло. Она осторожно выглянула из-за шкафа: отец снимал со стены охотничье ружье, красовавшееся на лиственничном суку рядом с чучелом свинцовоперого глухаря и ножом в деревянном чехле, украшенным волчьими и медвежьими клыками. Он сдул с ружья пыль, оглядел его и повесил обратно. Эти его действия выдавали волнение – отец явно нервничал и не знал, за что приняться. Наконец, он нашел себе занятие: вытащил из кармана костяную трубку и уселся у окна вырезать на ней рисунок. Интересно, что он изобразит? Лису, оленя, птицу? Как она любила в детстве сидеть рядышком и наблюдать искусное движение резца в отцовских пальцах. Мастер он был на все руки. Любое дело ему давалось, а вот жизнь удачами не баловала. Что-нибудь у него да обязательно мешало задуманному.
Несколько лет назад они кочевали – отец пас оленей в предгорьях северного Урала. Сколько их у него было? Немного – кажется, пятьдесят или около того. Частью кормился сам, часть – сдавал государству. Жилось нелегко. Особенно трудно было со школой: Туньла (иной раз они ползимы просиживали в тундре) училась по книжкам, урывками. Но отцу нравилось возиться с оленями – эта древняя работа предков была у него в крови. Наверное, они и сейчас мотались бы по Предуралью, если бы однажды к ним не пожаловал дальний отцовский родственник – Хон Ванька Ики из селения Ворзям. Он привез подарок – полный ящик спирта. И сказал отцу:
– Держи, Лор Вош Ики, это тебе. Хочешь, меня угощай, хочешь, сам пей.
Отец остолбенел от такой Ванькиной щедрости.
Два дня гуляли вольные оленеводы – сколько выпили, сами не помнили. Мать пыталась их обуздать – да куда там! – пустые бутылки так и летели в тундру. Пару раз отец хотел было наведаться к оленям, но Хон Ванька Ики его удерживал:
– Куда твои олешки денутся? Не видишь, какая пурга? Сиди в тепле. Спирта полно, еды полно – хорошо! А олени твои не глупее нас: ягелем отъедаются. Кой, сколько его у тебя тут – целые километры!
На третий день Хон Ванька Ики отбыл, а когда отец, проспавшись, побежал на пастбище, ягель меланхолично пожевывало не больше десятка оленей из тех, что поплоше.
С неделю, наверное, носился отец по тундре, отыскивая пропажу, – все никак не мог поверить, что родственник обобрал иго самым бессовестным образом. Люди советовали подать в суд на Хон Ваньку, но отец не стал связываться с мошенником и, с горя допив остатки спирта, подался сюда, в Шурышкары, стал охотиться и рыбачить.
Да, не везло отцу. Вот и теперь ему вряд ли удастся задуманное – сватовство. Она не подчинится его воле, пусть и не мечтает об этом. Туньла сердито уставилась в отцовскую спину, но тут же смягчилась: «А все же что он там вырезает?» Она на носках подкралась к окну, встала у Лор Вош Ики за плечом и посмотрела на трубку – на черенке красовался силуэт песца, И как это у него получается? Ведь несколько минут назад этого песца и в помине не было! Туньла улыбнулась и ласково потерлась о жесткий отцовский затылок.
С охапкой дров появилась мать. За ней – старуха Остяр. Затопили печь, уселись возле стола и оживленно зашептались. Туньла не прислушивалась – зачем? Она и так знала, о чем они говорят. Ее вновь охватило раздражение. Она вернулась в свой угол и села на койку, подвернув под себя ноги. В комнате заговорили громче. Голос отца прогудел:
– Я-а! Женщины! Сколько лисиц-востриц ваши языки на волю выпустили? Сколько резвых оленей заарканили?
Мать отвечала загадкой:
– Одним язычком пламени котел супа не сваришь. Нарта с одним полозом далеко не уедет.
– Я-а! – парировал Лор Вош Ики. – Что с вами сделаешь? Болтайте, болтайте. Для хорошего дела времени не жалко.
Стемнело. Туньла устала сидеть неподвижно.
– Я пройдусь, подышу! – крикнула она родителям, на ходу накидывая пальто и хватая шапочку.
– Я-а! – только успел воскликнуть ей вслед отец. – Куда ты, словно на пожар?
Было не слишком морозно, безветренно. Снег искрился под молодой, набирающей силу луной. Туньла повернула на зимник, ведущий на остров, к рыболовецкому стану Панзи. Небо было на редкость ясным, многозвездным. Растянувшимся оленьим стадом пролег над горизонтом Млечный Путь.
Сзади чернел лес – кедры и ели застыли, придавленные сверху тяжелым снеговым убором. В упор глядела на эту первозданную тишь Большая Медведица со своим верным другом – Полярной звездой.
Туньла медленно шла вперед. Вот и остров с одинокой разлапой елью, под которой они с Унтари отсиживались прошлым летом в грозу. Сколько времени они с тех пор не виделись? И увидятся ли вообще?
…Прошлым летом в их местах уродились невиданные травы. Особенно здесь, на острове, по дороге в Панзи. Как-то вечером она отправилась сюда косить – их корова любила полакомиться свежим, чуть подсохшим сенцом. Договорились, что отец попозже подъедет за ней на лодке и перевезет к рыбакам, в стан: там в конце дня варилась отменная уха.
Вечер был спокойным, солнечным, но вдруг откуда ни возьмись налетел бешеный, шквальный ветер. Вода в реке почернела, забурлила, как варево в котле, и стала вздыматься волнами одна круче другой. Рыбаки на той стороне собрались кучкой на берегу и пытались что-то кричать Туньле. Но разве перекричать такую реку, как Обь? Да еще если она разбушуется?
Хлынул дождь. Одетая в легкий сарафанчик, Туньла продрогла и вымокла до нитки. В небе грохало, и толстенные молнии огненными клиньями вонзались в воду. Она не испугалась, нет! Непогодой северян не удивишь. Но было ясно, что в такую крутоверть – даже отец! – не сможет приехать за ней на лодке: придется ждать, пока уляжется шторм.
Туньла сгребла побольше мокрой травы и попыталась соорудить нечто вроде шалаша, чтобы спрятаться хотя бы от ветра. Но вихрь разметал в стороны цветы и стебли. Тогда она приникла к этой вот самой ели, обхватив руками смолистый ствол. От него шло накопленное за день тепло, и ей удалось немного согреться.
– Ты – моя печка, – помнится, сказала она ели, обращаясь к ней вслух. – Грей меня подольше!
Так, вместе с елью, собралась она коротать время. Но вдруг увидела в сумятице волн какую-то лодку. Она то вертелась на пляшущих волнах, то зарывалась носом в воду, то неровными толчками двигалась вперед.
– Отец! – решила Туньла.
Лодка приближалась медленно, но все-таки вскоре уже можно было разглядеть, что она – дюралевая, не отцовская, и что сидят в ней, отчаянно борясь с взбесившейся Обью, двое. На корме тем не менее, действительно, притулился отец. А вот второй… Вторым был Унтари!
Туньла еще теснее прижалась к ели, и сердце у нее забилось.
Унтари!
Неужели он?
Лодка причалила, и мужчины спрыгнули на влажный песок.
– Доченька! – закричал отец. – Ну как ты?! Что ты?! Я уж думал, не доберемся. Рыбаки мне и лодки не дали. «Ты, – говорят, – сумасшедший! Погоди, – говорят, – пока гроза пройдет. Ничего с твоей Туньлой не случится. Не сахарная, не растает». Спасибо, Унтари прибежал. «Давайте, – говорит, – на моей лодке поедем!»
И он обнял Унтари рукой за плечи.
– Молодец, парень! Герой!
Унтари смотрел на облепленную мокрым сарафаном Туньлу и улыбался.
Она тоже улыбалась. Но ничто не могло бы в этот момент заставить ее произнести хоть слово!
А ведь она знала Унтари с детства. В восьмом классе какое-то время сидела с ним за одной партой. И чего уж греха таить: была влюблена в него по уши. Но, разумеется, об этом никто не знал. Она и себе-то в этом не признавалась. Так только, взглядывала на него исподлобья, когда он не мог этого заметить – и душа ее при этом изнывала от какой-то сладкой тоски. Потом Унтари уехал в Салехард – поступил в педагогическое училище. Она тоже отправилась в Ханты-Мансийск на свои звероводческие курсы.
В Шурышкары они приезжали только летом и виделись изредка – случайно столкнувшись где-нибудь на улице или в клубе, в кино. Унтари вполне дружелюбно приветствовал бывшую одноклассницу, ничуть не подозревая, в какие горячие бездны подвергала «лонгхитам юх хорпи» обычное «Здравствуй!» Впрочем, иногда Туньле казалось, что в его взгляде, направленном на нее, теплится какой-то особенный огонек. Тогда она ликовала: «Я ему нравлюсь!» Иногда, наоборот, ей чудился холод. И по ночам она плакала, уткнувшись курносым носом в пуховую подушку: «Он ко мне безразличен! »
Кого в восемнадцать лет не сжигают подобные страсти?
Туньла была переполнена своей тайной – во все цвета радуги. Эта тайна окрашивала жизнь, – берегла она ее пуще зеницы ока.
На танцах Унтари приглашал ее редко – Туньла при всей своей красоте была застенчива, не умела поддерживать легкий, «танцевальный» разговор, не любила твистов и «роков». «Ему со мной скучно», – с болью думала она и, отойдя подальше в сторону, украдкой наблюдала, как он крутился и болтал с другими девушками. А чаще всего он отплясывал с одной – студенткой по имени Еля. Она тоже училась в Салехарде, собиралась стать медицинской сестрой.
Как мучилась, как ревновала Туньла, возвращаясь одна после танцев домой! Но опять же этого никто не знал. Только Млечный Путь да Большая Медведица были свидетелями ее страданий!
…А в тот день, в грозу, Туньла сидела, ошеломленная – отец сразу укутал ее оленьей тужуркой, – и смотрела, как Унтари пытается разжечь под дождем костер.
И разжег!
Пламя сначала робко, потом все сильнее и жарче занималось над хитро уложенными сучьями.
– Сейчас, Туньла, вскипятим чай!
Унтари повесил над костерком походный чайник и сел рядом с девушкой.
– Продрогла? Сейчас будет тепло!
А ей уже было тепло. Впервые за долгое время их знакомства она открыто, прямо посмотрела ему в глаза. И он не отвел взгляда.
Это была минута, которой ей не забыть!
Кругом все еще неистовствовала гроза, а в душе у Туньлы на мгновенье воцарились светлая тишина и покой. «Он любит меня, – подумала она. – Как же иначе? Ведь никто не приплыл сюда за мной: только он и отец. Любит, любит, любит!..»








