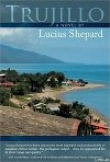Текст книги "Любовь и смерть Катерины"
Автор книги: Эндрю Николл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
А он их так опустил. Вместо того чтобы расправить картинку их дурацкого спора на колене, покрутить ее в руках, посмотреть на свет и восхититься, он скомкал ее и бросил в мусорную корзину.
– Эй, разве вы не хотите пропустить по стаканчику? – спросил он, повышая голос. – Давайте по бренди, а? Я угощаю. Официант! – Он снова, как тогда утром, поднял два пальца жестом понтифика, благословляющего паству, или матадора на арене, приветствующего быка. – Бренди сюда! Четыре бренди и кофе! Да рюмочек для нас не пожалейте, друг мой!
В тот вечер он сумел сразу же загладить испорченное вначале впечатление – влив в них бренди и благословив официанта папским жестом. А после этого с удовольствием распространился на тему Сервантеса и Гомера.
Когда впоследствии они обсуждали тот вечер – а они частенько обсуждали его, – Де Сильва указывал на стоящий в углу стол и говорил: «Вот там мы и сидели, вся наша банда, в полном составе, как обычно. Я в углу, рядом со мной Коста, потом папаша Гонзалес, а Вальдес сидел вон там – на том стуле, видите?» Он говорил таким тоном, будто это он, а не отец Гонзалес принадлежал к Иезуитскому ордену и будто старый, рассохшийся стул, на который он указывал, следовало немедленно перевязать алой лентой, скрепить сургучной печатью епископа и выставить на обозрение перед студентами-литераторами как предмет всеобщего поклонения. Сам же Коста, как и его друзья, светился от гордости, что знал великого сеньора Вальдеса.
«Да, там мы и сидели, попивали бренди да болтали ни о чем, и тут в кафе вошла та девушка».
Они уже пили по третьему кругу, правда, Коста и Де Сильва, когда пришел их черед проставляться, не стали заказывать двойной бренди. Разогретые алкоголем, они шутили и хлопали друг друга по спине, совершенно забыв о недавней ссоре, и тут дверь хлопнула, и в зал вошла Эрика. Никто и глазом не повел. Однако дверь хлопнула еще раз, и вслед за Эрикой в зале появилась Катерина. Ее приход заметили все.
Группа студентов за большим столом в центре зала немедленно начала орать и стучать ногами, пытаясь привлечь внимание Катерины. Эрика заулыбалась, закивала и пошла в их сторону между столами, хотя она, наверное, знала, что приветствия обращены вовсе не к ней.
Наверняка она это знала, ведь даже после того как она села, студенты продолжали орать и топать ногами. А Катерина замерла у двери: она сразу заметила сеньора Вальдеса и растерялась. Уйти? Нет, это было бы неприлично, и тогда она сделала вид, что не видит его, и, с притворным безразличием глянув куда-то в дальний угол, пошла на зов друзей.
«Конечно, мы все ее заметили, – говорил потом Де Сильва. – Такую девушку невозможно было не заметить. Она входила в комнату, и люди невольно поворачивали головы. Но мы тогда ничего не знали. Ей-богу, даже не подозревали. И она пошла к другому столику и поцеловала какого-то мальчика. Ей-богу, взяла да поцеловала».
Де Сильва запомнил эту маленькую деталь и всегда вставлял ее в рассказ. Она придавала повествованию некую журналистскую достоверность, после этого слушатели не сомневались в том, что Де Сильва присутствовал при судьбоносной встрече. Такие детали очень важны, их тщательно собирают и записывают, их вставляют в мемуары, диссертации, интервью глянцевым журналам и в рассказы зимним вечером у камина. Детализированная память Де Сильвы обеспечила ему неограниченное количество бесплатной выпивки в старости.
Да, Катерина действительно поцеловала студента-одногрупника и задержала поцелуй чуть дольше, чем требовали нормы вежливости, а затем бросила быстрый взгляд из-под ресниц в противоположный конец зала, чтобы удостовериться, что они заметили. О да! Они смотрели на нее напряженными, восхищенными, завистливыми взглядами, они все хотели ее. Она улыбнулась своей секретной улыбкой, взяла бокал вина, которое пил ее приятель, и осушила до дна.
– Принеси мне еще, – капризно бросила она, и юноша безропотно поднялся, чтобы выполнить приказ.
Пока он ходил за новой бутылкой, Катерина болтала с Эрикой и другими студентами, время от времени бросая косые взгляды на их столик. Все они опускали глаза, ослепленные ее блеском. Но не сеньор Вальдес. Он поднял к глазам свою рюмку бренди и смотрел на нее сквозь темно-янтарный напиток, вдыхая сладкие алкогольные пары. На самом деле сеньор Вальдес считал. Один, два, три, пытаясь замедлить дыхание, четыре… Она опустила взгляд на счете «пять». А когда он дошел до восьми, она быстро взглянула на него и отвела глаза.
«Она будет моей», – с уверенностью сказал себе сеньор Вальдес.
Он вытащил бумажник и достал визитку. Рядом с ним смеялись Гонзалес, Де Сильва и Коста. Они смеялись, потому что были смущены, и изо всех сил старались не смотреть на девушку. Так сильно старались, что даже забыли про него. Сеньор Вальдес отвинтил колпачок ручки и написал что-то на визитной карточке.
* * *
Коста перегнулся через стол, сдвинув в сторону груду студенческих работ и поднял телефонную трубку.
– Классический факультет, слушаю, алло? – сказал он.
Ответа не последовало.
Тогда он еще раз сказал:
– Алло?
В трубке продолжали молчать. Коста с силой положил ее на рычаг.
– Я много лет служил нашей стране, – громко сказал Коста. – Так что не рассказывайте мне о патриотизме. Не надо болтать о лояльности правительству, понятно? Я не буду этого делать! – но, как ранее Вальдес, Коста произнес свою тираду лишь после того, как удостоверился, что трубка лежит хорошо.
Через несколько секунд телефон опять зазвонил, на этот раз в другом конце здания.
Отец Гонзалес подошел к телефону и сказал:
– Исторический факультет.
Когда ответа не последовало, он понял, кто звонит.
– Что вам надо? – спросил он.
В трубке раздалось невнятное электрическое бормотание.
– Но вы говорили…
– Нет.
– Понятия не имею!
– Он был с девушкой.
– Да, с той самой. Да.
– Да, из группы доктора Кохрейна. Да.
– Нет.
– А я откуда знаю?
– Ну если вы так считаете… Поймите, он со мной не делится… Да, он порядочный человек.
– Нет, даже на исповеди. Сеньор Вальдес никогда ничего подобного не говорил, но даже вы не сможете заставить меня нарушить тайну исповеди. Даже вы.
«Господь всемогущий, – взмолился он, – путь это будет правдой».
– Я знаю только то, что видел. Народу было полно. Я видел то, что видели еще пятьдесят человек.
Отцу Гонзалесу пришло в голову, что эти пятьдесят человек уже, возможно, получили свой звонок, и он с мучительным любопытством спросил себя, сколькие из них нашли в себе мужество не ответить.
– Да, он угостил нас бренди, купил мне бренди.
– Нет, я имею в виду «мне».
– Нет, с нами никого не было.
– Нет, только сеньор Вальдес и я.
– Ну, если вы и это знаете, зачем спрашиваете?
– Да, сеньоры Коста и Де Сильва.
– Да, оба работают в университете.
«Я не одинок, – подумал отец Гонзалес, – не единственный предатель, не самый слабый. Кто еще? Де Сильва? Коста? Официант? Может быть, кто-нибудь из мальчишек-студентов? Да любой из них, если не все. Может быть, и она тоже?»
– Не имею представления.
– Нет, что вы… Я хочу помочь.
– Спасибо.
– Не знаю. Все, что я знаю, так это то, что он сначала сидел с нами, а потом подошел к их столу и заговорил с ней.
– Нет, мы не поссорились. Ну разве что совсем немного вначале. Но это быстро забылось. Мы прекрасно проводили время, а потом он ушел.
– Я ведь не сказал, что он ушел из кафе. Разве я это сказал?
– Нет. Он отошел от нашего стола. Да, от нашего стола. Мы сидели за одним столом: я, Коста и Де Сильва. А он просто встал, не говоря ни слова, и подошел к столу, где сидела девушка. Не сказал ни «до свидания», ни «извините». Ничего. Просто ушел от нас и все.
– Да ничего. Смотрели.
– Да. Они были ему рады.
Ну конечно, они были ему рады. Это же счастье – если тебя заметил сам Л.Э. Вальдес. В университете все знали Л. Э. Вальдеса. Может быть, капитана футбольной команды мог кто-то не знать, но уж великого писателя Вальдеса точно знали все. И те, кто не смотрел сентиментальные сериалы по телевизору, знали Вальдеса, и те, кто смотрел, тоже его знали. Даже последний служка, вытирающий в сортирах стульчаки, носил при себе дешевую книжку в бумажной обложке в надежде на то, что, если великий Вальдес зайдет в его сортир поссать, можно будет выклянчить автограф. Даже студенты инженерно-механического факультета знали сеньора Вальдеса.
– Там еще был мальчик. Он разговаривал с девушкой.
– Да, с той самой девушкой.
– Ничего. Сеньор Вальдес просто подошел к их столику и присел с краю на скамью, какое-то время сидел на самом краешке, еще немного, и свалился бы на пол, я видел, как он вытянул ногу в сторону, чтобы удержаться. За тем столиком места совсем не было. Но он схватился за спинку скамьи, перегнулся через того парня и заговорил с девушкой.
– Я этого не видел.
– Я говорю правду. Я не видел этого.
– Нет, никакой карточки, нет.
– Ну что же, если все говорят, что было, может быть, он и передал. Но я этого не видел.
– Слушайте, я сидел с друзьями, я не пялился на него. Мы разговаривали, и, поверьте, не только о том, что делает сеньор Вальдес в каждый момент своего драгоценного времени.
Он тут же вспомнил, как Де Сильва, перегнувшись через стол, прошипел страшным голосом: «Пест! Тихо! Ничего не говорите. Не смотрите туда. Он клеит грудастую цыпочку. Черт побери, Коста! Я же сказал – не смотреть. Подождите, не сразу, не сразу. Вот сейчас, взгляните. Что он сейчас делает, наш везунчик?»
А потом девушка тоже перегнулась в его сторону и что-то сказала.
– Ну вот, они поговорили какое-то время, а потом в разговор вступила еще одна девушка, а потом какие-то юнцы, а потом тот парень, что сидел рядом с ним, не выдержал и ушел.
– На другой конец стола.
– Нет, он не выглядел довольным.
– Да ничего не произошло. Сеньор Вальдес все говорил с девушкой, и другие тоже говорили. А потом другие говорили все меньше, а они с девушкой говорили все больше.
– Я имею в виду, что они просто уходили или поворачивались в другую сторону, начинали новые разговоры или пили вино. Как я уже сказал, не все так помешаны на сеньоре Вальдесе, как вы.
– Да вы что, рехнулись? В «Фениксе»? Сеньор Вальдес? Да никогда!
– Говорю я вам, он ее не целовал. По крайней мере пока мы там были.
– Не имею понятия.
– Не знаю, что они делали, когда мы ушли. Они все еще сидели все вместе за столом.
– Де Сильва, Коста и я. Мы ушли вместе. Мы пришли туда вместе, так же и ушли.
– Полагаю, домой.
– Я же сказал вам, они все еще сидели за столом.
– Ну да, там были еще студенты. Имен я не знаю. Я не знаю, клянусь! Нет, не на моем потоке. Наверное, математики. Да, у доктора Кохрейна.
– Не помню точно. Точно раньше полуночи.
– Нет.
На другом конце провода раздался резкий щелчок, и в трубке раздались короткие гудки.
Через большое пыльное окно в комнату пробивались солнечные лучи. Отец Гонзалес внезапно понял, что во время разговора не сводил глаз с портрета Максимилиана Кольбе[5]5
Максимилиан Кольбе (1894–1941) – католический священник польского происхождения, добровольно вызвавшийся погибнуть в камере смерти вместо незнакомого ему заключенного в концентрационном лагере Аушвиц (Польша).
[Закрыть], висевшего на противоположной стене, с его печальных глаз мученика, скрытых за стеклами очков в железной оправе. В глубине души отец Гонзалес знал, что мог бы поступить так же, как когда-то поступил Максимилиан Кольбе. Если бы кто-нибудь попросил занять его место в газовой камере, он бы с радостью согласился. Как и Максимилиан, он ждал бы смерти, распевая псалмы, умирая от голода или жажды, пока палачи не впрыснули бы ему в вену карболовую кислоту. На такой героический поступок он вполне мог бы пойти. Самая ужасная смерть не страшила отца Гонзалеса. Однако ему не угрожали смертью. Они знали и могли рассказать.
Отец Гонзалес положил трубку и раскрыл для проверки следующую тетрадь.
* * *
В общем и целом отчет отца Гонзалеса о том, что произошло в кафе «Феникс», соответствовал действительности, хотя святой отец и попытался запутать незримого оппонента. Например, скрыть имена тех, кто присутствовал при знаменательной встрече, хотя сам он прекрасно понимал тщетность подобных усилий. Слишком многие видели и его, и сеньора Вальдеса, и девушку. Бедный отец Гонзалес не представлял, кто из присутствовавших накануне вечером в «Фениксе» мог оказаться Иудой, и был уверен в одном: сам он только что сыграл эту роль. Но, как бы он или другой осведомитель ни старались сотрудничать с тайной полицией или, наоборот, саботировать свой гражданский долг, существовали детали, которых никто из них не мог знать в принципе. Например, только девушка и Л.Э. Вальдес знали, что Л. Э. Вальдес сказал девушке на ухо за столом.
Сам сеньор Вальдес помнил все отчетливо, почти дословно, и теперь, лежа в постели и глядя на расцветающий в небе сероватый рассвет, проигрывал события вчерашнего вечера в ритме траурного танго, что хрипловато нашептывал ему стоящий в изголовье кровати радиоприемник. Он вспомнил, как одним махом преодолел разделявшую их пропасть и подошел к столу, за которым сидела Катерина. Она улыбнулась, глядя на него снизу вверх. Улыбка показалась ему немного нервной. Сидевший рядом юнец тоже слегка улыбнулся и чуть подвинулся, освободив самый краешек скамьи. Сидя почти на весу, сеньор Вальдес цеплялся за спинку скамьи ровно тринадцать минут, каждую из которых отсчитывал, поглядывая на свои элегантные серебряные часы, а потом ему все-таки удалось выпихнуть юнца с насиженного места.
Когда рассерженный юнец ушел, образовалось свободное пространство, небольшой участок до блеска отполированной тысячами задниц доски. Сеньор Вальдес продолжал сидеть, не меняя позы, положив одну руку на стол, а другой небрежно обхватив спинку. И когда Катерина скользнула в его сторону, получилось, что его рука как бы обхватила ее за плечи. Как естественно все вышло!
– Я тебе кое-что принес…
Пинком сеньор Вальдес отбросил в сторону простыню и позволил сладкому дурману танго проникнуть в мозг.
А кстати, звучала ли музыка там, в «Фениксе»? Он не мог вспомнить. Должно быть, звучала. Несколькими аккуратными мазками он добавил музыку к вчерашней картинке.
– Я тебе кое-что принес, – сказал он негромко, когда остальные, поняв, что для них в этом разговоре места нет, вежливо, послушно, незаметно отодвинулись на другой край скамьи.
– Я тебе кое-что принес.
Так он сказал. И когда она взглянула ему в глаза, застенчиво и чуть испуганно улыбаясь, он все понял. Он достал из нагрудного кармашка идеально отглаженной бледно-розовой рубашки без единого пятнышка, без следов пота, с дорогими запонками, вставленными в ровно отстроченные прорези манжет, визитную карточку и вложил ей в руку.
Катерина посмотрела на карточку, потом на него.
Он взял карточку из ее сложенных горстью ладоней и перевернул ее. На обратной стороне его четким, красивым почерком было написано: «Я пишу».
– Мне показалось, что надо ответить комплиментом на комплимент, – сказал он.
Катерина была взволнованна. Она закраснелась, заулыбалась. Л.Э. Вальдес сосредоточился на ее чудесной улыбке.
Она сказала тихим, мелодичным голосом:
– Сеньор Вальдес!
– О нет, прошу тебя… – Он осторожно вынул визитку из ее пальцев и положил на стол. Знаменитой авторучкой с широким золотым пером, той самой, которой был написан бессмертный роман «Старик из Сан-Томе», той, которой за пару часов до их встречи он тысячу раз вывел «Тощая рыжая кошка перешла дорогу», он перечеркнул свое имя «Л.Э. Вальдес» и аккуратно, печатными буквами, начертал: «Чиано».
Она была в восторге.
Сеньор Вальдес невольно вспомнил Фауста. Старик окрутил женщину своей мечты с помощью ларца с драгоценностями, присланного на Землю из самого Ада. Сеньор Вальдес добился того же эффекта куда меньшими средствами – ему потребовался лишь жалкий кусочек картона, к тому же не самого лучшего качества.
Должно быть, по городу – да что город! – по всей стране, отсюда и до самой столицы, гуляли десятки таких картонных прямоугольников, все как один отмеченные его изящным росчерком, непринужденным взмахом пера после слова «Чиано», черными чернилами выведенного поверх зачеркнутого «Л.Э. Вальдес». Иногда сеньор Вальдес думал о судьбе своих визиток. Что сталось с ними? Неужели все они кончили в мусорной корзине, когда женщины, что вначале берегли их как зеницу ока, одна за другой узнавали, что страстный любовник – Чиано — охладевал к ним?
Он ясно видел сцены казни визиток: искаженные горем, залитые слезами лица, дрожащие руки, рвущие картон на мелкие конфетти. Сеньор Вальдес прекрасно помнил всех бывших любовниц, в особенности тех, которые рано или поздно начинали представлять для него опасность: становились излишне навязчивы, были не замужем или переставали стыдиться положения любовницы. Или, хуже того, влюблялись в него так сильно, что уже не страшились разоблачения, готовы были нарушить правила любовной игры и ждали того же от него. Вот этих женщин надо было вовремя остановить – и остановить резко, так, чтобы назад возврата не было.
«Дорогая, мне было так хорошо с тобой, – говорил он в таких случаях. – Я буду до самой смерти вспоминать время, которое мы провели вместе. Но сейчас нам необходимо расстаться. Да, прямо сейчас. Лучше, если мы сделаем это без сцен. Прошу тебя, не звони мне больше».
Да, эти женщины наверняка в отчаянии изорвали его бедные визитки на тысячи кусочков.
Но ему хотелось верить, что среди оставленных любовниц были и те, что до сих пор хранили заветные кремовые прямоугольники, оберегали их, как священные реликвии, закладывали в книжные страницы, как высушенные цветы, все еще хранящие слабый аромат жаркого лета и коротких, но полных наслаждения свиданий в тенистых садах. Сеньору Вальдесу было приятно думать, что респектабельные, всеми почитаемые дамы с незапятнанной репутацией время от времени вытаскивали на божий свет его визитки, гладили и целовали их, с потаенными улыбками вспоминая времена, когда они изнемогали от страсти.
«Что же в этом плохого? – с улыбкой думал сеньор Вальдес. – Посмотрите, какую пользу я принес обществу!»
Сколько скучных, тоскливых браков он спас, сколько самоубийств сумел предотвратить несколькими краткими свиданиями, парой часов занятий любовью – или чем-то похожим на любовь! А скольких мужей он избавил от неминуемой гибели? Если бы не его поистине библейское сострадание к несчастным, обезумевшим от скуки женам, немало мужей не проснулись бы однажды утром из-за того, что ночью им перерезали горла! От уха до уха, да! Ха! Да они должны каждый день возносить хвалу сеньору Вальдесу, благословлять одно его имя! Как жаль, что спасенные мужья-рогоносцы не знают о его благодеяниях…
– Да, – сказала Катерина. – Вы пишете. Я знаю. И что я должна теперь ответить? «И что же вы пишете?» А вы мне на это скажете…
Она замолчала, поглядывая на него с лукавой улыбкой. Она намекала на их недавний разговор возле туалетов, бросала кокетливый вызов. Она выпила слишком много вина, и это придало ей храбрости. И, конечно же, она не услышала далекий треск обрушившегося в воду огромного пласта льда и не поняла, что айсберг уже отошел от берега и начал дрейфовать в ее сторону.
Лежа в постели, в десятый раз переживая происшедшее, сеньор Вальдес позволил себе расслабиться и окунуться в волнующую интригу, разворачивающуюся между ним и этой новой девушкой. Она так смело разговаривала – Катерина, его Катерина, – она провоцировала его, подталкивала вперед, приглашала на танец.
– Тоща я скажу. Тогда я скажу… – Он чувствовал, что расплывается в улыбке.
– Да? Что же вы мне скажете… – Она опустила глаза, не смея встретиться с ним глазами. Казалось, ее тело замерло в ожидании ответа, и, чтобы не упасть в обморок от волнения, она сосредоточила все внимание на своем маленьком пальчике, обводившем влажный от вина ободок бокала. – Чиано?
– Я скажу: «Разве вы не хотите заняться со мной сексом?»
Она осмелилась на секунду приподнять завесу ресниц.
– А что делать мне? Притвориться из вежливости, что не расслышала?
– То была не вежливость. Ты напугала меня.
– Не может быть! Я уверена, что глупые девчонки каждый день бросаются вам на шею.
– О нет, не так часто, как тебе может показаться. – Ну и враль! «Какой же ты замечательный рассказчик, Чиано».
Они оба засмеялись.
– Ну ладно, – пробормотала она, – в таком случае я отказываюсь отвечать на ваше неуместное и дерзкое предложение.
– Что ж, идет, – сказал он. – А я отказываюсь отвечать на твое!
«Ну уж нет, – подумал он. – отвечу, и очень скоро. Имей терпение, крошка, я еще покажу тебе, на что способен…»
Не сейчас, не сразу. Сеньор Вальдес и сам не мог поверить, какой мощной силой воли он обладал, каким гибким умом. Он сладко потянулся на постели. Как мудро сделал он, что решил оттянуть удовольствие! Что может быть приятнее, чем ожидание момента блаженства? Он получал почти физическое наслаждение от каждой минуты общения С ней – бокал вина, потом еще один, потом чашка кофе, еще кофе, последний двойной бренди, вот и подошла пора оплатить счет – особенное удовольствие он получил от оплаты счета. Он не стал подсчитывать, кто сколько выпил, не стал хмурить брови, шевелить губами, с трудом производя в уме арифметические действия, обводить взглядом стол, чтобы поделить общую сумму на количество присутствовавших. Он же не студентишка какой-то! Нет, один взгляд на счет – и короткое, точное движение руки, закладывающей банкноты в кожаный кармашек, и вот они, смеясь, уже идут к выходу и вдыхают ароматный воздух нагретой за день улицы. И она идет рядом, доверчиво положив маленькую ручку на сгиб его локтя, до самой Кристобаль-аллеи, мимо стеклянных дверей его подъезда, до ее скромной квартирки, и там она снова говорит свою фразу. Только в этот раз она всем телом прижимается к нему и поднимает на него свои бездонные глаза.
– Мне пора, – мягко отстраняясь, сказал сеньор Вальдес.
– О нет, останься… Чиано! Разве тебе не хочется остаться?
– Сейчас я должен идти. Но скоро, я обещаю тебе, скоро…
И он поцеловал свой палец и приложил к ее теплым губам.
– Скоро, – повторил он.
Сеньор Вальдес быстро дошел до своего дома и, зайдя в стеклянную парадную, увидел сидящую на мраморной скамье сеньору Марром, гневно листающую старый журнал мод. С большого пальца ноги, закинутой на другую ногу, свисала золотая сандалия.
– Чиано, ну где ты гуляешь? Эрнесто вызвали в центральный офис, и мне так скучно одной!
– Как вовремя его вызвали, – заметил сеньор Вальдес. – Мне тоже страшно скучно одному.
* * *
В отличие от отца Гонзалеса, телефон в кабинете доктора Кохрейна в тот день молчал – никто не требовал от него отчета о том, что произошло в «Фениксе». Но даже если кто-нибудь и позвонил бы, звонок тренькал бы и дребезжал в пустой комнате, пока садовники в мягких шляпах, лихо заломленных набекрень, поливающие ракитник в палисаднике, не вскинули бы вверх сердитые глаза и не пожали бы раздраженно плечами. Звонок телефона побеспокоил бы лишь мириады пылинок, танцующих в лучах света, большинство которых сыпалось с истрепанных фолиантов, стоящих рядами на полках, занимая практически все пространство стен, – бестелесные призраки студентов, когда-то листавших ученые книги и оставивших на их страницах омертвевшие частички кожи, что вам может подтвердить любой аспирант медицинского факультета.
Доктора Кохрейна не было в кабинете. Не было его и дома. Он не сидел за рюмкой бренди в «Фениксе», не бродил бесцельно по улицам города, не гулял в садике около дома мадам Оттавио. Доктор Кохрейн устроил себе праздник.
В этот день у него не было лекций, и он прикрепил на дверь кабинета большой коричневый конверт, надпись на котором призывала студентов бросать туда сообщения. Впрочем, никаких сообщений в тот день для него не поступило.
Когда декан математического факультета (надо сказать, что этот человек никогда не выказывал восхищения предыдущим Полковником-Президентом и никогда не критиковал нынешнего Полковника-Президента) увидел конверт и неодобрительно цокнул языком, доктор Кохрейн был уже очень далеко.
За пару часов до того момента, как декан факультета цокнул языком, доктор Кохрейн стоял на пристани, затерявшись в толпе пассажиров, в толкотне и давке продвигавшихся к широким сходням, что вели прямо в брюхо парома «Мерино». Доктор Кохрейн прекрасно знал старый паром.
Доктор Кохрейн обожал старый паром. На корме, там, где влюбленные обычно стоят, перегнувшись через перила, томным взглядом провожая убегающую вдаль пенную дорожку рассыпающихся бурунов, там, под слоями краски, толстой, как глазурь на свадебном торте, все еще можно было различить слова «Гиппокамп» и «Глазго». Паром был сделан в Шотландии, он принадлежал далекой стране, прямо как предок доктора великий Адмирал и почти как сам доктор Кохрейн.
Доктор часто приходил к реке и смотрел, как паром пришвартовывается к берегу, с трепетом ожидая момента, когда грузовики один за другим начнут выкатываться на широкие сходни, и вот после очередного (далеко не первого) грузовика из недр жирной зеленой воды всплывала линия грузовой марки. Это значило, что капитан опять перегрузил паром, и это значило также, что капитан верит в своего «старичка» и знает, что тот его не подведет. Доктор Кохрейн одобрял такое пиратское пренебрежение правилами грузовых перевозок и был уверен, что старый Адмирал его тоже не осудил бы. Однако восхищаться паромом с берега – это одно, но, когда доктор вступил на маслянистую палубу и заскользил по ней ногами, пытаясь, вместе с горсткой других предусмотрительных пассажиров занять места около спасательных шлюпок, его энтузиазм сразу поутих. На палубе паром казался не очень-то устойчивым.
Доктор Кохрейн постарался изгнать из головы трусливые мысли и, сунув трость под мышку, ухватился обеими руками за поручни, все еще узнаваемые под многими слоями шелушащейся, отслаивающейся краски. Медленно он поднялся по вытертому тысячами подошв металлическому трапу на палубу первого класса.
Странная вещь произошла с доктором Кохрейном, пока он полз вверх по крутым ступенькам трапа. Его спина распрямилась, и, когда он ступил на верхнюю палубу, трость была уже не нужна. Он держал ее в кулаке, как рапиру, так Адмирал, должно быть, сжимал абордажную саблю, словно коршун, налетая с высоты реи на вражескую палубу. Доктор Кохрейн чувствовал необыкновенный прилив сил.
Каюты первого класса находились прямо под капитанским мостиком. На бортах обнадеживающими гирляндами висели десятки спасательных кругов, оплетенных просмоленными канатами и оборудованных автоматическими лампами, которые, если верить надписям на кругах, должны были загореться при соприкосновении с водой.
Доктор Кохрейн слышал, как наверху, в капитанской рубке, капитан отдавал последние распоряжения негромким, но уверенным голосом, сопровождавшимся лязгом металлических деталей, отрывистыми звонками, стуком и невнятным бормотанием динамиков.
И вот далеко внизу доктор Кохрейн подошвами ощутил мощную, могучую дрожь разбуженного двигателя. За кормой парома вода забурлила, начала завязываться в затейливые узлы, выплевывая на поверхность комковатые россыпи изумрудной тины, потом закипела, поднялась, забурлила и пошла беловатой пеной. Вначале ничего не происходило, но вдруг, медленно, так медленно, что доктор Кохрейн вначале решил, что зрение обманывает его, паром начал двигаться. Доктор Кохрейн зачарованно смотрел на желтую жестяную банку из-под пива, попавшую в узкую водяную щель, образовавшуюся между бортом парома и причалом. Щель увеличивалась, расширяясь к носу судна, с шумом втягивая воду под корму. Банка завертелась, закрутилась, набирая скорость, пронеслась вдоль борта парома и – исчезла в бурунах, расходившихся под его кормой. Если бы доктор Кохрейн был поэтом, бесцельная гибель банки вдохновила бы его на создание сонета, но он был математиком и следил за ее продвижением с чисто научным любопытством, пытаясь в уме рассчитать траекторию движения предмета путем решения уравнений параболического типа.
За это время расстояние между бортом парома и берегом продолжало расти, вскоре показались скрытые до этого тенью огромного борта бетонные сваи, для лучшей амортизации обвешанные старыми автомобильными шинами и прикрепленные к причалу гигантскими ржавыми болтами. Зеленые волны лениво плескались около причала.
Паром вздрогнул, освободившись, и начал набирать ход.
Доктор Кохрейн не мог дольше обманывать себя – паром двигался. Его сразу же затошнило. Он расставил ноги пошире, крепче схватился за поручни и сделал несколько глубоких вдохов. В животе противно бурчало. За его спиной в баре салона первого класса бокалы на палках стояли, не шелохнувшись, вино в горлышках бутылок, вздрогнув, совершенно успокоилось. Доктору Кохрейну стало стыдно своей слабости, и он пообещал себе ради памяти великого Адмирала постараться на этот раз продержаться и не выплеснуть съеденный утром завтрак.
Доктор напряг мышцы живота. Он повернул лицо к ветру и устремил глаза в сторону горизонта. Горизонт был совершенно плоский, гладкий и скучный. Впереди, с излучины реки, поднялась стая пеликанов и полетела вдаль неровной, прерывистой линией. Каким-то непостижимым образом движения их крыльев входили в противофазу медленному движению волн на реке. Там, где ее волны катились вверх, как оливковое масло в бутылке, они умудрялись задевать поверхность безобразными когтистыми лапами. А если уклон волны уходил вниз, пеликаны, качнув доисторическими крыльями, забирались выше в небо.
Палуба заходила под ногами доктора Кохрейна, будто он стоял не на широченном пароме, а плыл в утлой ладье во время шторма, и он почувствовал сильное головокружение.
Минуты ползли, а состояние доктора все ухудшалось. Он изо всех сил вцепился в поручни, ладони его стали потными, скользкими, во рту пересохло, слюну было тяжело глотать. Он упорно смотрел вперед на огораживающую гавань дамбу, где прилепился маленький полосатый маячок – как сахарный замок, что иногда ставят на торты для украшения. Вот сейчас начнется настоящая качка. Волны ударят в борт судна, оно закачается сильнее, и ветер охладит его пылающее лицо. Однако новый порыв ветра принес лишь жирный дым, вырвавшийся из трубы, и вкус дизельного масла во рту поднял желчь к горлу доктора Кохрейна.
Доктор не покинул свой пост – так и стоял около борта, время от времени приподнимая мягкую шляпу и вытирая со лба липкий пот, стоял до тех пор, пока не настало время церемонии перемены флага, отмечающей середину реки.
Те несколько минут, что доктор провел без шляпы, ожидая трех сигнальных свистков, предназначенных для оповещения пассажиров, что скрытый за мостом флаг был правильным образом спущен и новый должным образом поднят, оказались наиболее мучительны – доктор был уверен, что его сейчас точно вырвет.
Замена флага была подобна тому, как переменчивая вдова полностью меняет жизненные позиции с каждым новым обручальным кольцом, но бедному доктору было не до сравнений. Солнце безжалостно пекло его обнаженную голову, хотя слабые порывы ветерка и касались лба прохладными поцелуями. Страдания доктора усугублялись с каждой секундой. Он беспомощно оглянулся по сторонам в поисках уборной или другого места, где мог бы тихонько поблевать, но палуба была заполнена пассажирами. Боже, он не успеет добежать! Но не за борт же, в самом деле! Во-первых, на палубе первого класса действовали неписаные, но жесткие правила, а во-вторых, доктору было ужасно жалко семью, что расположилась точнехонько под ним на палубе второго класса и уже успела развернуть на коленях салфетки с едой. И тогда доктор Кохрейн выбрал единственный возможный путь. Как раз во время третьего свистка, когда паром пересек импровизированную границу, доктор Кохрейн приставил шляпу почти к самому лицу и максимально тихо изрыгнул в нее содержимое желудка. От вида блевотины его еще больше замутило, и он сдвинул паля шляпы, будто накрыл крышкой ночной горшок, затем тихо, стараясь не привлекать внимания, поставил ее под привинченную к стене скамейку, вернулся к поручням и снова вцепился в них, шатаясь от слабости и унижения.