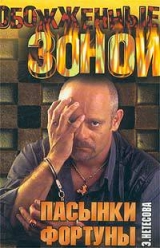
Текст книги "Пасынки фортуны"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
– Что-то мало вы сегодня сдали. На этой площади впятеро намыв больше. Иль сачковали, либо украли, – сказал он как-то Огрызку и Геньке.
Вот тут-то и сдало терпенье Кузьмы:
– А ты, боров, сам повкалывай! Скинь с себя барахло и полезай на промывку. Тебе, падла, протрястись полезно! Чего возникаешь? Без тебя тошно! – зашелся Огрызок в брани.
Генька стоял молча. Ждал, чем закончится свара, вспыхнувшая внезапно. Накричавшись досыта, обложив друг друга грязным матом, люди не скоро успокоились. И если Кузьма пригрозил проверяющему выдернуть в другой раз ноги из задницы, тот пообещал законопатить Кузьму до конца жизни в зону за оскорбление должностного лица.
Кузьма в этот день вернулся в палатку раньше обычного. И заметил, как Генька поспешно закрыл банку с вареньем, запихал ее подальше от глаз
Кузьмы. У Огрызка впервые шевельнулось подозрение. И он решил проверить напарника этой ночью.
Кузьма все дни удивлялся тому, что одессит сдает вдвое, а то и втрое меньше золота, чем сам Огрызок. Объясняя приемщику невезением, бедностью пласта, собственным недомоганием. Но Кузьму не провести. И хотя работали они врозь, Огрызок видел – Генька не сачковал. Порою не перекуривал. Лишь иногда ходил в палатку, как говорил, чифирнуть.
Ночью, когда одессит уснул, Огрызок выволок банку из-под палатки. Сунул в нее ложку. Крутнул и достал из варенья три самородка.
– Надыбал, гад? – проснулся Генька, заметив в руках Кузьмы свою заначку.
– Ты что? Под вышку захотел? – удивился Огрызок.
– А ты? Иль в Одессе с голыми яйцами решил нарисоваться? Не желаешь хамовки, девочек? Иль решил, что мне себя деть некуда и я сюда на халяву приперся? Так врубись, чокнутый, без навара у нас ты – никто!
Огрызок смотрел на стопорилу, а тот хохотал ему в лицо:
– Кузьма! Да ты ж больной, если подумал, что я «на дне» без навара останусь. Да я бы давно тут всех лис подраздел бы, если б нашмонал рыжуху! Я ж не дурак цепляться с приемщиком. Пусть себе лопочет. Доказать не сможет. На обыск – не имеет права. А и не надыбал бы никогда.
– Да как ты его вывезешь? – изумился Кузьма.
– Как видишь. Золото, как шмара, всюду вылезет. А вот в варенье – нет. Не зазвенит. Верняк. Покуда рыжуху не выковырнешь из банки, молчать будет. Потому я не дергаюсь. Знаю, никто не допрет. Все досмотры и проверки пройдут сухо. Нигде не засвечусь, – смеялся Генька.
– Мать твою… А мне молчал?
– Ты ж сознательный. Свой навар хотел сорвать, в одиночку. К тому же после твоей трепотни с приемщиком тебя, как липку, трясти станут при проверке. Оторвется еще на тебе этот бугай, попомни мое слово! Уладь с ним. Не то горя не оберешься.
Огрызок отмахнулся, ответив, что не станет шестерить перед всякой падлой. Но заначки для себя решил делать уже со следующего дня. Когда вечером сдавал золото, сделал вид, что не заметил удивленья приемщика. На его вопрос, отчего так мало намыл, ответил, что площадь оскудела, либо зэки тут работали усердно.
За неделю Огрызок загрузил целую банку. И пусть в ней был лишь золотой песок, но на него, как сказал напарник, в Одессе можно устроиться с шиком.
Кузьме вскоре понравилось иметь подкожную рыжуху и теперь по вечерам он любил послушать Геньку о том, как можно дышать в Одессе, имея башли.
– Ну, что твой Орел или Оха, куда ты лыжи вострил? Там же даже приличного кабака нет! А вот в Одессе! Все имеется! Хочешь девочку? Плати! Домой привезут! Бухнуть желаешь? Плати! Доставят! На твой вкус! И все изысканно, красиво! Не то что в твоих деревнях.
– Не заливай! Ты лучше трехни, почему в свою Одессу нос не суешь? В делах рыжухи можно столько взять, за всю жизнь, сколько ни копайся, не намоешь. Но отчего-то не торопишься в Одессу. Ковыряешься здесь, как последний фраер! – не выдержал Огрызок насмешки.
Генька на минуту умолк. Глянул на Кузьму так, что Огрызок теперь и без наколки узнал бы в нем стопорилу.
– Не нарывайся, кент! Я не уважаю тех, кто хвост на меня поднимает! Не зарывайся, – взял себя в руки одессит.
А через некоторое время, совсем успокоившись, ответил на вопрос:
– Я ботал, что мои кенты засыпались. И до осени мне не стоит возникать. Но… Осень уже наступает… И скоро я вернусь.
Огрызок тщательно готовился в путь вместе с Генькой.
Одесса… Они все лето жили жаркой мечтой, единственным теплом в холодном, неприветливом крае, о котором в Одессе знали лишь единицы. Теплое море, красивые женщины, рестораны – лучшие на земле! Город – мечта, город – музыка… Скоро ты станешь явью. Не все же в жизни муки.
– Вставай, Кузьма! – услышал Огрызок среди ночи. Он трудно стряхнул с себя сон, непонимающе огляделся и услышал совсем рядом, прямо за палаткой, жуткий вой, похожий на стон.
– Волки! Костер! Огонь нужно разжечь! – торопился Генька. Кузьма опередил. Выскочив в темноту, он фыркнул, зарычал голосом росомахи. Это единственное ухищрение, какое приобрел на Колыме, не раз пригодившееся в побегах.
Кузьма знал наверняка – волки убегут. Но ненадолго. Испугавшись крика, они не почуют запаха врага. Но за то время надо успеть разжечь костер. Тогда волки не подойдут близко. Хотя бы до ночи следующего дня. А там – придется дежурить, чтоб не стать добычей.
– Взвыли волки – жди холодов. Со дня на день полетят белые мухи. Снег укроет землю. Значит, кончится старательский сезон.
Генька уже развел костер и не вздрагивал от каждого шороха в темноте, зная, что ни один зверь не бросается на добычу при свете.
– Теперь не отвяжутся. Пока не смоемся, стремачить будут. Это как два пальца… Давай срываться по светлу. Покуда не накрыли зверюги! Средь ночи от них линять – швах дело! Накроют и схавают! – предложил Огрызок. Генька согласился. Но когда пошел на отвал за совками, лопатами, нарвался на золото и застрял. Кузьма звал его, надрывая глотку. Но у одессита дрожали руки. Три крупных самородка подряд. Повезло и подоспевшему Кузьме. Такого удачного дня у них не было с самого начала сезона. Они собирали золото голыми руками. Прямо из-под ног. И как раньше его не видели? Куда ни глянь! Всюду горят звездами мелкие и крупные самородки. Генька и Кузьма одурели от радости. Колыма будто решила вознаградить их напоследок за все мытарства разом. И покрылась золотым потом россыпей. Какой отъезд, о времени и страхе забыли. Глаза не видят ничего, кроме золота. Оно открылось! Его так много!
До вечера даже не присели. Почему-то не появился и приемщик. Не омрачил радость старателей. А и они о нем забыли.
– Так сколько лет можно дышать на эту заначку? – кивнул Огрызок на кучку золота.
У Геньки в глазах огни загорелись:
– До смерти хватит! – вырвалось невольное.
У Кузьмы дух перехватило. Он забыл о наступающей ночи. Он мечтал. Он смотрел на золото, которое светилось ярче костра. И в надвигающихся сумерках казалось жаром, взятым взаймы у самого солнца. Огрызок, глядя па него, блаженно улыбался.
Генька будто чифира перебрал: ходил вокруг золота пьяным чертом. Он не мог оторвать от него ошалелого взгляда. Все мысли и планы закрутились вокруг него и он грезил наяву.
– О, Одесса! Только ты, моя проказница, достойна этого дара Колымы! Только тебе он принадлежит, моя смуглянка! Моя шалунья! Я твой, а ты моя! Теперь я никуда от тебя не смоюсь! Тебе принесу, как сердце свое, как тоску и печаль по тебе на чужбине! Ты только моя! Я куплю тебя целиком! – пела, рычала душа Геньки и вдруг обалделый взгляд его уперся в лицо Кузьмы.
Синие обветренные губы Огрызка, будто издеваясь, кривились, точно в пьяном бреду, шепча одно слово:
– Одесса..
«Что? Вот с этим замухрышкой, чувырлой, пугалом долить добычу? Этого козла тащить в Одессу? Да это ж всем блядям на смех! Я что, сам не смогу управиться? Разве бывает у нас излишек золота? Иль я больной, что разучился самостоятельно распоряжаться рыжухой? Зачем Одессе сушеный колымский таракан, какой не сможет порадовать ни одну из девчонок? Что знает он об Одессе – заморыш из деревни, огрызок старой шмары? Он не знает цену рыжухе, а уж Одессе и подавно! Почему я должен тащить его с собой? Вместе нашли? Ну мне, что с того? Звери вместе охотятся, а жрут только сильные. Слабые не могут дышать. Они лишь помеха!» – сверкнем молнией шальная мысль. И не отдавая себе отчета,
Генька рыком бросился на Кузьму. Свалил его на землю словно гнилушку, и жадные пальцы нащупали горло.
Огрызок никак не ожидал этого и дергался, скорее
от удивленья, чем от страха. Испугаться он не успел. Забыл, что Генька прежде всего – стопорила.
Кузьма извивался, как уж, пытаясь достать одессита ногами или руками. Но тот навалился на Огрызка тяжко.
У Кузьмы глаза полезли из орбит. На шее – хлесткая петля из пальцев. Нет воздуха. В глазах темно. В голове свист и звон. Все тело ослабло, онемело. Куда девались силы? Перед глазами крутится в черном небе яркая звезда. Единственная, как жизнь. А, может, смерть? Почему она моргает? Кому? А, может, плачет? Но по ком? Нет, не звезда? Это кучка золота горит. Она виновата. Подаренная Колымой в радость, она отнимает жизнь. Единственную, как звезда. Колымские дары – радости не приносят. Это знает каждый магаданский зэк.
Золото никому не подарило жизнь. Лишь отнимало, укорачивало. Нашедший его никогда не был счастлив. Оно умело превращать человека в зверя. Сколько жизней унесло оно, сколько слез из-за него пролито – не счесть! И все же ищут его, радуются ему – как счастью, запоздало понимая, что нашли – горе.
Золото… Его неспроста считают дьявольским, металлом смерти… А жить хочется! Ведь сколько золота лежит у костра! С ним в Одессе, в любой «малине» паханить до смерти можно. Хотя можно и без фарта, жить спокойно. Но где она – жизнь?
Генька уже сцепил пальцы рук. Одно усилие… Огрызок почти готов. Лишь для надежности довести до конца. Чтоб не очухался! Ведь стольких довелось вот так прикнокать! Молча, без слов: они лишние в этом деле. Уходящего не бранят, не упрекают.
Генька нагнулся над Кузьмой в последнем усилии и вдруг почувствовал резкий толчок в плечо. Потом кто-то жилистый, лохматый вцепился в горло вонючей пастью.
Генька впился руками в шерсть. Рванул от себя из всех сил, забрыкался, замахал руками.
Но не отбиться, не прогнать, не одолеть. Глухой рык подбирается к горлу. Стопорило в ужасе…
Волк смотрит в глаза – не мигая. Сама смерть. Шерсть – дыбом, глаза горят. Ему не нужно золота, ему нужна жизнь. И не меньше… Стопорило понял: ему не уйти от погибели. От зверя голыми руками не отмахнуться. Да и какие руки сравнятся с клыками матерого голодного зверя.
– Золото! Его так много нашли сегодня! Неужель награда перед смертью, неужели так и пропадет, недоставшись ему? – вскакивает стопорило на четвереньки и успевает заметить, что волк не один. Вокруг – стая. Она ждет. От одного отбиться можно. Но не от стаи, замершей в тихом восторге ожидания жратвы – первой добычи.
– Ты, пидер, на Одессу залупаешься? Падла! Я ж тебя замокрю! На меня, стопорилу, хвост поднял, хер собачий! – зарычал Генька, не давая отчета сказанному.
Волк, слегка припав на передние, приготовился к прыжку. И вдруг рядом взвыло диким голосом. Протяжным, вытягивающим душу, морозящим до костей. Это был крик росомахи. Его единственного боялись волки. И, заслышав, бросились наутек, поджав хвосты и уши. С росомахой никому не хотелось померяться силой. Ее коварство и клыки, ее силу хорошо знали многие звери
и обходили стороной, покидая логова и добычу, никогда не решаясь вступать с нею в схватку.
Стая уходила без оглядки, понимая, что после росомахи ей нечем будет поживиться. А чтобы не стать дополненьем к ужину, надо успеть удрать подальше.
Лишь мелкие комья земли зашелестели под десятками волчьих лап, да затрещали кусты багульника, выдавшего– куда убежала стая. Генька лежал, обхватив руками голову, воткнувшись лицом в землю. Он боялся дышать. Он ждал смерти. Которая вот-вот разнесет его в куски. Он не мог думать ни о чем. Где голова, где сердце? На месте ли они? Все мокро. И в штанах, и на спине. Словно он, стопорило, мигом превратился в большую тюремную парашу. От которой не только стае, самому стало тошно.
– Ты что, усрался, падла? Выходит, слабак, сучье говно! Вставай на катушки, паскуда! И хиляй вон! Пока я тебя не угробил, козла вонючего, – стоял рядом Кузьма.
В руке его – крепко сжатый топор.
– Отваливай, пропадлина! Чтоб тебе волки до смерти татуировки на яйцах ставили! Будь ты проклят! Чтоб мне век свободы не видал! – говорил Огрызок хриплым голосом.
Генька хотел встать на ноги. Но Кузьма пригрозил:
– Раком сматывайся. Сгребай барахло и пиздуй от меня – на все четыре. И заруби – возникнешь, пришибу!
…. А рыжуха? – спросил ядовито стопорило.
Кузьма поднял топор:
– Вякни еще! И хана! Уноси себя, падла! И радуйся, что жив, Одесса недобитая! Шмаляй к своим блядям! – швырнул рюкзак на спину, и дав сапогом в задницу, рыкнул:
– Линяй, прокунда! Чтоб ты накрылся до утра!
Генька понял – уговоры не помогут. Просьбы не будут услышаны. Умолять, упрашивать – только раздражать. Да и сам, окажись на месте Кузьмы, поступил бы и того хуже. Живым не отпустил бы. Не поверил бы. А этот – дурак… Не знает меру подлости.
«Но куда идти? Без палатки, без топора – не нарубить дрова для костра. Это ж уйти на верную смерть! А он, гад, еще и рыжуху зажилил», – подумал стопорило.
– Чего резину тянешь? Линяй! Не то вломлю для шустрости!
– Мокри! Куда хилять? В жмуры? Так файней здесь, чем там! – кивнул Генька в темноту, откуда послышался истошный волчий вой.
– А мне до фени!
– Секу!
– И не уламывай. Не мылься. Ботаю, сгинь, как триппер! – рявкнул Огрызок.
– Куда? – взвыл Генька просяще, испуганно, услышав треск в кустах, совсем неподалеку.
Кузьма подкинул в тлеющие угли сухие ветки. Они затрещали, взялись огнем. Пламя высветило кусты багульника, из которых выглядывали волчьи морды. Звери вернулись на звук человечьих голосов и запах живой добычи. Кузьма, набросав в костер сухих веток, рубил дерево на дрова. Торопился. Видел, стая смыкает кольцом и окружает палатку и костер все теснее. Стопорило в ужасе оглядывался по сторонам. Вздрагивал от каждого шороха. Огрызок подбросил дров в огонь. Пошел к палатке. И, накинув на плечи телогрейку, сказал жестко:
– Я не сявка тебе! Дышать захочешь, отобьешься! А я – спать пойду. Стремачить тебя – мне без понту! Сам свою вонючку паси! – и, прихватив топор, полез на елку, лохматую, густую. Там, устроившись под хвойными лапами, решил дождаться утра. Когда волки, поняв бесполезность, сами уйдут от елки. О напарнике Кузьма не думал.
Генька тем временем решил последовать примеру Огрызка. Да и как без дров поддержать огонь?
Подтянувшись, он взобрался повыше и сел под самыми ногами Кузьмы. Костер угасал. Волки, окружив ель, расселись, разлеглись под деревом, высматривая, принюхиваясь к запаху людей, надеясь, что холод иль сон свалят их с дерева. И тогда…
Скулят, повизгивают голодные волчицы. А тут еще этот запах живой крови. Держит стаю, словно в капкане, не отпускает ни на шаг. Но запах – не кровь. Им сыт не будешь. А добыча, как назло, слишком высоко забралась. Ни согнать, ни достать, ни сожрать невозможно.
Генька устроился на прочной лапе, прижался спиной к стволу. Кузьма расположился сразу на двух лапах ели. И на всякий случай, сняв веревку с брюк, привязал себя к стволу, чтобы, задремав, не свалиться. Костер еще не погас. Но волки уже не боялись огня. Словно знали: не решатся люди подойти к нему. А уж коли насмелятся, не минуют зубов вожака.
– Слушай, Огрызок, мать твою, ну почему тот зверюга не на тебя, а на меня кинулся? Почему к тебе не подступились волки? Ведь ты лежал, валялся, а я стоял? – спросил стопорило.
– Иди в хварью! Зверюги больше твоего мозги имеют. Секут, кому на свете мало дышать осталось. С того и начинают. Ты, пидер, их клыков не минешь. Разнесут в клочья. Не сегодня, так завтра. У них в «малине» своя разборка. Падлу за версту узнают, хоть и звери.
– Жадность меня подвела! Будь я проклят! Больше не лажанусь, кент! Век свободы не видать, если фраернусь на чем! Не поминай! Кто старое вспомянет, тому – глаз вон! Давай дышать, как раньше!
Огрызок молчал. Но не сидеть же здесь до утра. Ведь примерзнуть можно. Или свалиться. Кузьма не отвечал.
– Гоноришься? Западло со мною быть? Но по одному не уцелеть! Застопорят зверюги. Давай слиняем отсюда имеете. Уж потом разберемся, – предлагал Генька.
Огрызок словно не слышал.
– Фраер ты, Кузька! Как в «малине» дышал, коль такой смурной? У нас в Одессе кенты сговорчивей.
– Захлопнись ты, гнида, со своей Одессой! Не то заеду по кентелю ходулей, похиляешь волкам про Одессу трандеть!
Генька втянул голову в плечи. Понимал – перебирать нельзя. Но и сидеть, как пидеру на жердочке, не хотелось. Затекли ноги. Немела мерзнущая спина.
Но, глянув вниз, понимал: об удобстве думать не время. Под елкой собралось почти три десятка волков. Им Генька – на один зуб. Пикнуть не успеет. Сожрут вмиг.
Но сидеть молча одессит не умел. И, едва поменяв позу, заговорил снова.
– Вот когда я своим – скажу, как от зверюг на елке приморился, до уссачки вся. Одесса хохотать станет. А главное, проверят, не откушены ль муди? Без них никак не можно возвращаться. Там, на Дерибасовской, скажу тебе, такие девочки по вечерам гуляют, что и голова, и головка закружится.
– Иди ты…
– Конечно, пойду. Теперь уж и «клубничка» подросла, пока я в ходке парился. Не девочки – цимес! – причмокнул Генька. На этот звук волчица внизу зубами клацнула. Взвыла просяще. – Во, стерва, меня у целой Одессы отнять хочет! Старая паскуда!
– Ты не вякай много! Держись. Не то эта старая лишит радости твоих блядешек и разнесет по кочкам всю твою вонищу! – предупредил Огрызок и добавил: – Силы береги. До утра их много потребуется. Не раскидывай, дурак, на ветер. Второй раз спасать тебя не стану.
Генька пытался молчать, но не удавалось. Вся его натура противилась тишине. И он снова заговорил:
– Однажды мы банк взяли. У себя в Одессе. В тишине. Молча. Как и полагалось. Хороший навар сняли. И слиняли бы без шухеру, если б не Угрюмый. Он, падла, через шнобель усрался. Как чхнул, все овчарки пришмаляли. И накрыли… Не всех, конечно. Многие успели на сквозняк. А нас троих – за задницы. Чтоб не чхали, покуда не смылись. Так вот Угрюмому в камере нос отхреначили. За провал. Чтоб шнобель затыкал, прежде чем в дело срываться.
– Падлы! Вы ж его пометили, как «мухой». Куда ж с таким мурлом нарисуется? Всякий лягавый узнает. А дышать как? – возмутился Огрызок.
– Его разборка выперла с «малины». Он с ходки слинял. Через год. А потом я с ним увиделся. Здесь уже, на Колыме. Но ему пришили – хрен усекешь, что не родной. У какого-то грузина лишнее отсобачили, а Угрюмому приштопали. Так он теперь не то что чхать, дышать боится, когда в дело ходит. Потому что лопух. А я знаю, где можно трехать, где нет.
– Заткнулся б, – не выдержал Кузьма.
– Слушай, я тут в смолу сел. Не то что прилип, кажись, насмерть примерз, – пожаловался Генька.
– Теперь не дергайся. До утра терпи.
– Так я со шкурой гут останусь!
– Ну и хрен с тобой. Нарастет, – начал злиться Кузьма.
Костер внизу давно погас. И волки, чтобы согреться, играли друг с другом, иные лежали рядом, бок о бок, положив морду на голову иль шею собрата. Они не теряли надежду. Изредка, задрав морды, смотрели вверх па людей. Поскуливали и не уходили.
– Вот если б мы с тобой вот так из ходки смылись. Хрен бы к нам охрана прихиляла. Вон сколько сявок внизу. Разнесли бы и псов, и лягавых. Всех схавали б. Глядишь, нас пасти не стали б, – мечтал Генька вслух. Ночь выдалась на редкость глухая и холодная. Кузьма завязал потуже на груди узел веревки и даже посапывал. А Генька, чтобы не задремать, нес всякую околесицу, вспоминал прошлое.
Кузьма вначале слушал его, а потом уснул, забыв о полках, о Геньке. Стопорило не сразу приметил, что Огрызок спит. Но даже это не остановило его болтовни.
– Ты знаешь, Кузьма, когда-то в зоне мы считали самым страшным наказанием – отсидку в шизо. Да ты, наверное, сам не раз побывал в нем. Параша под шнобелем, кенты вповалку на цементном полу. За весь день – пайка хлеба и кружка кипятка. Ни глотка свежего воздуха. Баланда – раз в неделю. Так вот теперь я бы с руками и ногами туда запросился! Это ж рай! Лежи себе – сколько хочешь! И ни одна падла ничего не вякнет, ни снизу, ни сбоку. То-то и оно, что человек, попадая в ситуацию, всегда сравнивает ее с прежней, которую считал самой страшной. А, оказывается, бывает и хуже! Как теперь! Вот и пойми, где предел человечьих возможностей, где конец страданий? Наверное, все решает усталость. Она отмеряет силы. А кончились они и ничто не мило. Слышь? Даже рыжуха без понту. Как мне теперь? Что в ней, коль не жизнь, а смерть мою ж тут зверюги. И я – один. Никому не нужен. Ни себе, пи тебе. Лишь волкам. От них не откупиться ничем…
Генька глянул вниз. Приметил, что волков под елью стало меньше. Да и те, застрявшие, уже не лежали на земле. Стояли, прислушивались, принюхивались.
Одессит вскоре услышал далекое мурлыканье оленей. Была ль это упряжка или табун, кто знает? Но вскоре и остальные волки, оглядев елку, взвыв напоследок, убежали на голоса оленей.
Генька, увидев, что под елкой не осталось ни одного зверя, толкнул Кузьму.
– Эй, Огрызок! Зверюги слиняли! Оленей почуяли. Давай и мы вниз. Может, не вернется стая сегодня.
Оба мужика не слезли, свалились с елки. И враз принялись за дрова и костер. Разожгли его, небольшой, но жаркий. Вырубили по рогатине на всякий случай и запаслись дровами до утра, вскипятили чайник, поели. И, решив не рисковать, не пошли спать в палатку, остались у костра, дежуря попеременно.
Под утро, когда блеклый серый рассвет проклюнул небо, к костру вернулись лишь трое старых волков. Видно, им не досталось добычи. Впалые бока их обвисли. Звери смотрели на людей, но не решались подойти ближе, напасть. Видели, понимали: жратва им здесь не обломится. Силы неравные. Волки, осознавая собственную старость, никогда не кинутся в единоборство, очертя голову, даже при самом жестком приступе голода. Звери всегда умеют ценить собственную жизнь выше сытости пуза.
Волки залегли поблизости от палатки – в кустах багульника, карауля человеческую неосторожность или неосведомленность. Но время шло, а люди от костра не отходили.
– Слушай, Огрызок! Давай сегодня же слиняем отсюда в поселок. Оставаться больше нельзя. Новая стая припрется – горя не собрать! – предложил Генька.
– А ты мне кто? Пахан иль бугор? Чего тут хавало открыл? Теперь светло! Хиляй – на все четыре. Я тебе не сявка! Впристяжку не сорвусь. Шуруй налегке! Рыжуху я себе беру. Как ночью трехал. Обязанником ты, мне без понта. Считай – откупился. Никто не держит тебя – срывайся, – ответил Кузьма.
– Ты что? Рехнулся? Меня без доли оставляешь? – не поверилось в услышанное стопориле.
Кузьма глянул на него исподлобья. Ухватился за рогатину.
– Что ж, хрен с тобой! Подавись ты моим положняком, – сник одессит и уже не говорил об уходе. Взял лоток, лопату, молча собрался на отвал. И в это время услышал шум со стороны дороги, ведущей к поселку.
Генька глянул и онемел. Из машин выскочили солдаты. Рассыпавшиеся в цепь, с автоматами наизготовку, они спешили к палатке.
– Огрызок! Глянь, падла! Облава! Видать, кенты с зоны смылись! Шмонают кузнечики всех! – сказал хрипло стопорило.
Следом за солдатами шли трое мужчин в штатском. Спешили, перескакивая с кочки на кочку, огибали кусты.
У Геньки все внутри оборвалось. И только Кузьма не успел испугаться, спокойно сидел у костра, прикопав для надежности рыжуху толстым слоем пепла.
– Встать! – заорал на него офицер, подоспевший с цепью.
– Иди в жопу! Чего тебе из-под меня потребовалось? – не встал Огрызок.
К этому времени подошли трое в штатском. В одном из них Кузьма узнал милиционера, постоянного сопровождающего представителя прииска.
– Он самый! – сказал милиционер, кивнув на Кузьму одному из попутчиков.
– Взять его! – приказал тот солдатам. И Огрызка тут же сбили с ног, нацепили наручники.
– Проверить палатку!
– За что? – изумлялся Огрызок, не понимая происходящего.
– Ишь, наивность! Он не знает! – возмутился милиционер и добавил злобно: – А кто грозился представителю прииска убийством и осуществил угрозу?
– Чего? Да вы съехали с катушек! Зачем мне его убивать? – не верилось Кузьме в услышанное.
– Знамо за что! Золотишко вам, гадам, мозги сушит! Отняли золото, человека убили. И думали, что никто не вспомнит, чем грозился ему, за что сидел?
– Да я всю ночь на елке сидел. От волков там канал. Целая стая тут была! – оправдывался Огрызок.
– Вы вечером отлучались из палатки вместе с напарником? – внезапно обратился человек, огорошивший Кузьму, к одесситу.
Стопорило, слышавший весь разговор, сделал вид, что вспоминает. И, глянув на Кузьму, ответил:
– Напарник отлучался. До утра его не было. А когда вернулся – под утро, вон у костра в пепел что-то закопал, когда вас увидел. Огрызок кинулся к одесситу. Но его тут же сбили с ног.
Из пепла выкопали золото. И сложив его аккуратно в портфель, трое мужиков остались побеседовать с одесситом. А Кузьму солдаты погнали к машине, подталкивая прикладами автоматов и кулаками.
Огрызок не понимал, сон это или явь. Он шел спотыкаясь, падая. Кто-то из солдат нес его саквояж, время от времени тузя им Кузьму по спине:
– Поторапливайся, шваль!
Огрызок ждал, что Геньку вместе с ним повезут в машине в тюрьму. Но нет. Трое мужиков, вернувшись от палатки, влезли в кузов, крикнули водителю:
– Пошел! – и машина, взяв с места на скорости, миновав поселок, направилась в Магадан.
– Чтоб тебе живьем не выбраться в свою Одессу! Чтоб тебя зверье разнесло средь бела дня! Будь ты проклят, козел! – стонала душа Огрызка при виде уходящей из-под колес свободы.
Огрызка везли в Магадан под охраной десятка солдат, как отпетого убийцу. И Кузьма, помня прошлое, уже ни на что не надеялся. Клял Геньку, знакомство и встречу со стопорилой, отплатившем ему, Кузьме, черной неблагодарностью за все доброе.
«Пусть бы волки, еще вчера, схавали тебя, гада, вместе с рыжухой! Зачем я вмешался, не дал им разборку довести до конца, чтоб самому снова загреметь в ходку? И опять ни за что».
Его втолкнули в одиночную камеру. Саквояж с вещами оставил у себя на время следователь для тщательной проверки.
Огрызок, не успевший порадоваться свободе, упал на шконку, утешив себя тем, что нет в камере волков, не клацают они зубами под шконкой, не надо ему привязывать себя веревкой к стволу, чтоб не свалиться с дерева. А уж если в знаменитых одесских «малинах» пригрелись такие, как Генька, то кой понт от фарта? Лучше век фраером кантоваться.
«Ну для чего я дышу? Уж лучше б под обвалом накрылся, чем по липе в ходку греметь. Да файно, если в зону! Могут и в расход пустить за рыжуху», – вспомнилось предупрежденье Чубчика и вмиг пропал сон…
Кузьма ворочался с боку на бок. Все обдумывал, что предпринять? Камеру он давно проверил. Шанса на побег отсюда ему не оставили.
Все решетки и прутья были прочными, надежно закреплены, заварены. Перестучавшись с соседями, понял, что тюрьма охраняется очень строго. Есть свой овчарник. И линять отсюда уже пять лет никому не удавалось. Кузьме хотелось курить. Но все папиросы остались в палатке и теперь ими воспользуется Генька. От этой мысли Огрызка со шконки будто ветром сдуло. Стало до слез обидно. Ведь мог ногой долбануть по башке. И слетел бы тот стопорило к волкам на ужин в одну секунду.
– Ну, почему пожалел? Зачем оставил дышать падлу? Теперь бы не приморили, не припутали. А нынче свидетеля на свою беду оставил, – саданул себя по колену так, что подскочил от боли.
– Эй, мудило! Следователь вызывает! – гаркнул внезапно охранник от двери.
Кузьма, войдя в кабинет, решил не отвечать на вопросы следователя. Не ждал для себя ничего, кроме провокаций, крика, оскорблений. Следователь, указав рукой на стул, предложил Кузьме присесть и спросил внезапно:
– Когда вы ушли от Чубчика?
– Обвал меня выкурил. Сам бы не умотался, – а про себя подумал: «Пронюхал, гад! Ну только при чем здесь Чубчик? Он – откольник! Это любая собака в Сеймчане подтвердит. К чему он про него завелся, задрыга?»
А следователь, глянув на Кузьму, сделал запись в протоколе допроса и попросил – не потребовал:
– Расскажите, как познакомились с одесситом, откуда взялось золото у костра, как вы провели ту, последнюю ночь?
Огрызок рассказал все. О золоте и волках, о том, как чудом остался жив в ту ночь, как по дури спас своего врага от неминучей смерти.
– Это верно, грозил я приемщику ноги с жопы вырвать. Но и он в долгу не остался. Обещал в тюрягу законопатить до самой смерти. Но все треп! Не мокрушничал я никогда. И если бы умел – угробил бы Геньку, чтоб не оставлять свидетеля и врага. Он, пропадлина, обвел вас вокруг параши. Он рыжуху умыкнул, какую в варенье притырил. Свою и мою – ее там хватает. А чтобы поверили, вякнул вам о той, что в пепле была. Глаза ею втер. Отмазался, по-нашему. Теперь – в Одессе рассекает. По Дерибасовской. А проверяющего, век свободы не видать, если темню, ни он, ни я в глаза не видели.
– На елке сидели? Но чем это можно доказать?
– Там еще веревка моя осталась. От штанов. Я ей портки подвязывал, чтоб не спадали. А тут сгодилась – к стволу прикипелся. Так и просидел ночь, как баруха на чужом наваре, – забылся Кузьма.
Следователь улыбнулся и спросил:
– А куда вы собирались податься после той ночи? Неужели все-таки в Одессу?
– Нет. В Одессу я не мылился. Хотел смотаться с Колымы, а уж там, на материке, определиться.
– А почему не на прииск?
– Боюсь я его. После обвала страх появился. Не смогу под землей вкалывать, – сознался Кузьма.
– Ну, а в Оху? Там, как говорит Силантий, без доли в жизни не остались бы.
Огрызок вспотел. Он и не подозревал, что следователь знает и о старике.
– Здоровье подвело. Да и кому нужны калеки. А я из больницы чуть живой вышел. От такого навару нет, а насмешки мне – западло.
– Скажите, Кузьма, а вот если вас отпустили бы на волю, куда б подались?
– В кабак! Нажрался б до усеру! Я уже два месяца хлеба живого во рту не держал! И курево! Его я своими руками заработал. В саквояже – две пачки папирос. Хоть их верните мне!
– Конечно, конечно, – пообещал следователь.
– Я знаю, не видеть мне больше воли! А все оттого что надо на кого-то повесить убийство приемщика. И никому нет дела до того, что я не угрохал его. И не могу темнить, будто мой напарник, хоть он и стопорило и паскуда, замокрил фраера! Зачем? Чтоб оттянуть время? Да мы не видели его два дня! Зато нас накрыли тут же. Потому что судимые! Кого ж еще подозревать? И если, расстреляв меня, лет через пять найдете настоящего убийцу, вас, отправивших меня на тот свет, судить за ошибку будет некому. Потому что ваша биография – чиста. А совесть… Ее никому не видно. Вы и сами о ней не вспоминаете. Ни к чему. За нее вам зарплату не платят. А вот жизнями за ошибки рассчитываться мы уже привыкли. Потому не верим вам. И я, и все, кто хоть раз побывал в ходке, – внезапно для себя разговорился Огрызок. И устыдившись собственной болтливости, умолк так же внезапно, как разоткровенничался.








