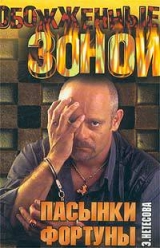
Текст книги "Пасынки фортуны"
Автор книги: Эльмира Нетесова
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
– Ты хоть тюремный номер с рубахи сорви. Не то враз видать, откуда вышел. Небось, через весь город так-то шел?
Огрызок сконфузился, удивился наблюдательности человека, сорвал номер и, скомкав, сунул в карман, хотел уйти. Но старик придержал:
– На что злую память при себе таскать вздумал? Дай сожгу, чтоб не попадал больше в каталажку, – и протянул к Огрызку морщинистую, слабую ладонь.
– Зачем пустую барахолку сторожите? Кому она нужна? – отдал Огрызок номер.
Старик поджег тряпичку, хмыкнул неопределенно, ответил тихо:
– Ни люду, ни товару нет. Это верно. Но я не их сторожу. Это дело милиции. Моя забота – ряды, лавки, прилавки, забор, киоски. От повреждений их сберегаю. От фулюганов. Днем оно спокойно, а вечером – на дрова изрубить могут. Бывало уже такое. А казне накладно всяк раз чинить. Вот и поставили меня на охрану. Вместо пугалки. Сижу тут цельными днями. Свежим воздухом дышу. Какое ни на есть – жалованье имею. Мне его хватает. На шее детей не сижу и то ладно. Никому ни в обузу, – улыбнулся. И спросил:
– Ты тощий. А ну-ка, подхарчись малость. Кузьма согласно кивнул.
– Есть, завернутые в тряпицу хлеб, подико, хочешь? Ишь какой только теперь с тюрьмы выпущенный?
Не погребуй, – полез в сумку. И достав картошку, луковицу и селедку, предложил Кузьме.
– Ешь, голубчик. Оно не шибко что, но хоть червяка заморишь, в пузе теплей станет. Кузьма не заставил себя упрашивать. И лишь когда съел все подчистую, спохватился:
– А вы теперь-то как?
– Да я тут рядом живу. Не сумлевайся. Приспичит, схожу, – указал на покосившийся дом, смотревший на мир жалобно.
– Один живете? – вырвалось у Кузьмы удивленное.
– Конешно. Кому нынче старики надобны? Коротаю свое до смерти. Много ль мне осталось? На что молодым мороку вешать? Кто я теперь? Тень на погосте. Они нынче тяжко живут. Отделились. Давно ушли от меня. Но не забижаюсь. Навещают. Харчей дают. Подсобляют. Не вовсе бросили. Помнят про меня, – разговорился сторож.
– Откуда узнал, что на мне тюремный номер? – изменил тему разговора Огрызок. И старик, прищурившись, дробно рассмеялся:
– Да как не знать? Сам там побывал. Пять годов в обрат. Две зимы ни за что отмаялся. Не думал, что вживе выйду. Что своей кончиной отойду. Из-за ей, тюрьмы проклятой, дети покинули. Стыдятся и нынче. Хоть и молчат, не попрекают, ан сердцем чую, – умолк сторож ненадолго, а потом продолжил: – Вот тут в те годы стоял газетный киоск. Ну а ночью его обокрали. Забрали выручку. Все выгребли ворюги треклятые.
– Да какой там навар? Одна мелочь! Какой дурак на это клюнет? – не поверил Огрызок.
– Мальчата его тряхнули. На папиросы. Им больше – без надобности, руку набивали. Ну, меня вызвали. Ругать начали, как не доглядел, старый хрыч? А я хуже тебя вылепил, сорвалось. Возьми и скажи напрямки, мол, кому он надо? Нынче жрать нечего люду, подтирка – без надобности. Вот и не обращал вниманья на тот киоск. Меня чуть с говном не смешали за дурной язык. И как политического в тюрьму увезли. Чтоб наперед мозгов свой язык не высовывал, – горько выдохнул
сторож и продолжил: – Две зимы моей башкой гвозди и полу заколачивали. Озверелый там народ. Ироды окаянные! Ладно, тело, душу в говно измазали. Хорошо, сын мой старший вступился. Жалобу подал с прошеньем о помиловании. Сказал в ем, что с ума я вышел по старости. Два года по начальникам ходил. И все же вызволил меня. Не то бы сгнил в тюрьме. Иль впрямь свихнулся. Ты сидел на втором этаже этой тюрьмы? – спросил он Кузьму.
– Только сегодня оттуда.
– Сынок ты мой! Горемыка! Ну да чего же мы тут? Зачем здесь держу тебя? Небось, ждут дома?
– Нет у меня никого. Идти некуда, – признался Огрызок.
– Тогда иди ко мне. Вместях коротать будем. Вдвух оно и сиротство одолеть легче. Пошли, – позвал за собой.
Огрызок огляделся, войдя в убогий дом старика. Железная кровать укрыта фланелевым потрепанным одеялом; старый самодельный стол, сбитый из досок, чурбак вместо стула. Покосившаяся в углу печурка раззявила кривой рот. Лавка с ведрами воды. Нигде ни одной соринки. Недаром у порога стоял обшарпанный веник. Над столом, обрамленный чистым вышитым полотенцем, смотрел на Кузьму Христос.
Огрызок невольно перекрестился. И заговорил шепотом:
– А дети у вас верующие?
– Да что ты, сынок? Сплошь анчихристы. Даже внуков окрестить не дозволили. И те свихнутые растут. Брешут, что не от меня и отцов, а обезьяны их на свет произвели! И Бога не признают. А обезьяна, ты только глянь, – сущий черт! Где ж тут добру взяться, коль ее за место меня в сродственники признали? – качал старик головой сокрушенно.
Огрызок, невесело усмехнувшись, сказал:
– Мне б такое думать не грех. В детдоме жил. Без родственников. Может, они и вправду хуже обезьян. А уж вашим – стыдно…
– Да что ты, милок? Кой нынче стыд? Об нем запамятовали…
Сторож возился у печки. Гремел чайником, сковородками. Вскоре в топке затрещали, загорелись дрова. Старик готовил ужин.
Когда в доме стало тепло, они, поев, неспешно закурили.
– Ты давай, ложись. Вздремни после тюрьмы, дух переведи. А я – на пост пойду, – предложил сторож.
Кузьма, обрадованный предложением деда, вскоре уснул. Ему снилась Сайка. Она висла на шее, просила прощения у Кузьмы, божилась, что скучала и помнила всегда.
Огрызок, довольный, тискал ее, податливую, но не ласкал, как всегда. Обида даже во сне не прошла и давала знать о себе.
– Прости меня! – тянулась Сайка к Кузьме влажным ртом.
Но Огрызок отворачивался. А проснувшись, решил все же навестить притон.
– Ты уходишь? – спросил его сторож.
– Ненадолго, – ответил Кузьма. И, нырнув в сумерки, пошел знакомыми улицами.
Он не стал колотиться в дверь, чтоб не встречаться с бандершей. Огрызок подошел к окну Сайки, чтобы узнать, на месте ли она? Свободна ли? Или застрял у нее какой-нибудь клиент?
Кузьма подошел к занавешенному окну. Сайка не скучала. У нее собралась веселая компания. Слышались пьяные песни, хохот.
Огрызок хотел уйти. Но вот один голос показался ему очень знакомым. Кузьма прильнул вплотную к стеклу. И через тюль увидел лицо охранника, зверски избивавшего его в тюрьме. Двое других в обнимку с Выдрой и Ступой сидели на кровати.
Кузьма вцепился в подоконник и чуть не взвыл от досады. Его мучители, кровопийцы нашли здесь для себя приют и кайфовали, бухали со шмарами. У Огрызка в глазах потемнело. Он недолго раздумывал. Быстро взобрался на чердак притона, где баруха всегда имела про запас крепкое хмельное для фартовых. Отыскал ящики. Нашел спирт. Облил им чердак, подпалил его. И, быстро спустившись вниз, подпер снаружи дверь притона. Облил углы дома, подпалил со всех сторон. И, отскочив, наблюдал неподалеку за набиравшим силу огнем.
Через пяток минут пожар охватил весь дом. Он пожирал крышу, стены дома, где пьяные обитатели даже не подозревали о случившемся. Но вот в окнах погас свет. Звенькнув, вылетело разбитое стекло. Кто-то заорал пронзительным голосом, захлебываясь дымом, огнем, страхом.
Все боятся смерти. Кузьма наслаждался, слушая крики протрезвевших шмар и их хахалей.
Вот кто-то выскочил в окно, насмелившись. Одежда и волосы взялись ярким пламенем. Человек визжал, катался по земле. На него из окна еще кто-то вывалился.
Огрызок подскочил. Он вмиг узнал охранника. Тот глазам не поверил. Но не успел и рот открыть от удара дикой силы – в пах. Как недавно сам бил Кузьму. Огрызок и сам не знал, откуда у него взялись силы. Сорвав охранника с земли, зашвырнул его, воющего, в окно, в огонь. Второго головой о стену дома долбанул так, что у него что-то в черепе хрустнуло. И, прихватив за горло для надежности, тоже бросил в окно. Оттуда лишь крики о помощи раздавались. Выскочить не насмеливались. Но вот в окне показалась Сайка. Огонь уже прорвался в ее комнату. И шмара, заломив руки от отчаяния, молила о помощи.
Сайка задыхалась от жары и дыма. Другие уже потеряли сознание или ползали по полу средь бутылок, ища и не находя выход.
– Сдохни, сука! – крикнул ей Огрызок и пошел прочь от притона, уверенный, что дело сделано чисто и вскоре от притона не останется и воспоминаний.
Кузьма еще не успел шмыгнуть в проулок, как из темноты с воем выскочила пожарная машина и, ослепив светом фар, свернула к притону.
Огрызок остановился, глядя вслед. Он не услышал шороха милицейской машины, подъехавшей почти вплотную. Не услышал стука дверцы, приближающихся шагов.
Он взвыл от внезапной резкой боли. Кто-то, воспользовавшись темнотой, остался неувиденным. И закрутив руки Кузьме за спину, подвел к машине, сунул в нее головой, поддав пинка. Сказал грубое, циничное:
– Накрыли поджигателя блядей! Видно, его хрен нм не по кайфу был! Вот и подпалил. Кроме него, некому их перья поджечь. Сейчас мы из него выбьем, зачем он блядей поджарил? – смеялся милиционер.
Огрызок только теперь понял, что ему успели нацепить наручники, что попался он на деле. И выкрутиться будет нелегко. Хотя… Всегда придумать можно «липу», правду фартовые говорят лишь на том свете.
– За что бардак хотел спалить? – врезался сапог и ребро, едва Огрызка втащили в дежурную часть.
– Век свободы не видать, если я это устроил! К шмаре хилял. Увидел прокол и ходу. Видать, по бухой у них… Я при чем? Кой понт притон жечь? Разве они для того? Я думал, это вы его подпалили. Мне такое без понту! – отбрехивался Кузьма, напрягая воображение.
– Мы? Вот козел! Еще издеваешься?! Ты, сучье семя, блевотина гнилой жопы, не знаешь, для чего бардаки? Мы хазу вашу могли бы спалить! Но не притон, мать твою в сраку некому! Притоны мы оберегаем! – врезался кулак под дых.
Внезапно на столе дежурного запищала рация. И грубый голос заговорил:
– Я десятый! Вызываю дежурную часть милиции! Как слышите меня? Прием…
– Слышу! Как там у вас? Прием! – прикипел к рации один из милиционеров.
– Пожар погашен. Но вот инспектор хочет сказать пару слов…
– Дом был подожжен снаружи. Внутри все в порядке. Проводка ни при чем. Обитатели – тоже. Говорят, что видели поджигателя. Кто-то из бывших клиентов. Его из бардака выгнали. Вот он и решил за это отплатить. А так это или нет – не знаю.
– Скажите, все живы? Прием! – спросил дежурный.
– Один мертвый. Клиент. Зато все бляди живы! – послышался ответ.
– Поезжай, забери блядей сюда! А труп в морг отвези, утром узнаем, кем он был, – приказал дежурный водителю. И распорядился, чтобы Огрызка увели в камеру.
– Ненадолго! – крикнул вслед охране. И те втолкнули Кузьму в первую же подвернувшуюся камеру.
– Огрызок? Ты тут с хуя? – увидел Кузьма удивленного Чубчика и, стиснув кулаки, сказал зло – Все ты, падла!
– Вкиньте ему, кенты, чтоб мозги в жопе нашарил и вспомнил, как с фартовыми ботать надо! – приказал Чубчик.
Через минуту Кузьма уже ничего не видел и не слышал.
Лишь к утру его отлили водой, привели в себя, чтоб мог говорить, пусть и лежа.
Огрызок рассказал пахану все, что с ним случилось. Не кривил душой. О допросах и избиениях, о подстроенном побеге и трамбовке охраной. О втором этаже и внезапном освобождении по амнистии. Рассказал о поджоге и о том, как вновь оказался в лапах мусоров.
– Швах дело твое, Огрызок! Теперь тебе от ходки не слинять. Дальняк обеспечен. Это верняк! Но чтобы не загреметь под вышку, что хотел загробить охранников, вякай, будто из ревности облажался. Сам не знал, что делал. Сайку, мол, люблю! Не трехай, что клиентов в мурло увидел. Иначе крышка тебе! Слышь, мудило? Усеки в калгане. Ты не охране мстил! Сайку хотел проучить, попугать. А как все утворил – не помнишь, – успел сказать пахан, и в камеру вошли охранники, подхватили
огрызка, поволокли по коридору.
– Он? – услышал Кузьма вопрос дежурного.
– Да, – послышался ответ Сайки. И вонючий сапог ударил в лицо с размаху.
Девка завизжала в испуге. Ее вытолкали из кабинета. А Кузьму носили на сапогах четверо мордоворотов милиционеров.
Они избивали его, даже когда он перестал видеть, слышать, чувствовать боль. Они будто с цепи сорвались и перестали быть людьми.
Огрызок не знал, жив ли он, сколько пробыл без сознания. И где находится теперь?
– Одыбайся, Огрызок, откинуться успеешь, – тыкал его ногой в бок Чубчик.
Кузьма открыл глаза, огляделся.
Из черной пелены выплывали лица фартовых. Они скорее угадывались, как светлые капли в черном ту-м а не.
– Ну, давай! Разинь зенки, чертов козел! Заколебались уже с тобой! Шустро дыши! Настропали локаторы! – теребил пахан.
– Отвали! Сдыхаю, как падла, – выдавил Огрызок.
– Я тебе сдохну, курвин сын! А ну, скати гада еще разок!
Ведро воды упруго ударило в лицо. Вот точно как сейчас ошалелый буран до костей пробрал. Холодной рукой сдавил сердце. Нечем дышать. Ни зги не видно под ногами. Куда идет? К кому? Кто ждет его в кромешной канители? Кому он нужен? Смерти? Но и она лишь хохочет, кружит вокруг. Выматывает, отнимает даже желание выжить.
Стонут деревья, кланяясь пурге. Шелестят, звенят заледенелыми ветками обмороженные кусты, дымят холодной сединой пузатые сугробы.
Их так много намело. Куда как больше, чем несчастных в той камере.
– Не засветил я тебя. Слышь? Коль подыхаешь, верняк знай, не я заложил – сявка. Его замокрили лягавые на допросе! Раскололся. Не выдержал боли. Старый был кент. Мы отпустили ему подлянку – мертвому. И ты секи. Коль линяешь на тот свет, не держи на нас за душой. Никто не лажанулся! Не кляни нас на том свете! И прости, что не сберегли, – просил пахан.
Огрызок слышал и не понимал смысла сказанного.
«Какая обида? На кого? Сайка продала. При чем Чубчик? Сайка – лярва! Она так и не стала любовью, осталась в шмарах. Дешевка! А ведь поверил ей – во сне…»
Недолгим было следствие. Огрызок не признал умышленного убийства охранника, хотя все шмары валили его на очных ставках. Признал за собою лишь ревность, глупую, безумную. С этой статьей и появился на суде. Коротком, открытом.
Там валили на него все шишки. Обзывали грязно. Обвиняли во всех смертных грехах. Не репутацию, душу испоганили. Он навсегда разуверился и возненавидел баб.
Последним словом на процессе не воспользовался. И покорившись решению суда, поехал на Колыму отбывать свои десять лет, определенных приговором. Фартовые говорили, что Огрызку повезло. Мог получить вышку, ан выкарабкался, себе иль судьбе назло. Но выжил, чтобы снова умереть.
ГЛАВА 2
Кузьма давно потерял ориентиры и не мог понять, где тайга, а где дорога. Куда он идет и где находится? Кругом сплошное месиво из ветра и снега, исхлеставших его насквозь. Он уже не просто замерз, он терял сознание от холода и усталости. Его жизнь давно не стоила таких нечеловеческих усилий; чтоб выжить, нужна была цель, хотя бы смысл. Но ничего такого в ней не имелось, кроме мучений, горя, боли. А кто за это станет бороться, кто будет таким дорожить? Пока в теле держалось тепло, было и сознание. Оно не соглашалось на смерть. Когда и это стало покидать, человек и вовсе ослаб. Он падал в сугробы и медленно, неохотно вставал. Жизнь покидала. Пурга вымораживала, выматывала, убивала.
Огрызок устал бороться с нею. И если б не последняя капля сознания, давно смирился б со своею участью.
Вот опять упал в сугроб. Руки и ноги отказались слушаться.
– Господи! Помоги! – то ли крикнул, а может, прошептал… Просило лишь сердце, не окоченевшее окончательно.
Кузьма повернул голову. Уж так заломило шею, что боль пронизала череп и… увидел огонек слабый, дрожащий.
Мерещится… Откуда ему здесь взяться? Разве зверюга заблудилась, не хуже его? Но они одноглазыми не бывают. Такое случается лишь у людей. Особо в зоне иль в «малине». Там вышибить и оба глаза легче, чем два пальца обоссать. Чего проще? Но у людей глаза не горят в темноте. Даже у паханов и лягавых, вспомнил Кузьма. И, не веря собственным глазам, оторвал голову от сугроба последним усилием воли. Огонек не исчез.
Огрызок смотрел на него, затаив дыхание. И, собрав в комок остатки сил, пошел к нему напролом…
Огонек не исчезал. Он с каждым шагом становился отчетливее и ярче. Кузьма понял, что это ему не показалось. И, взревев от радости, сколько сил осталось, убегал из пурги – к жизни.
Костер или фонарь, свет в окне – ему было все равно. Там тепло… Кузьма переполз последний сугроб и увидел дом. Настоящий. Со светом лампы в окне, с дымом из трубы.
Пурга попыталась в последний раз свалить человека с ног. Но тот, подскочив к крыльцу, заколотился в дверь оголтело:
– Люди добрые! Спасите! – закричал леденеющим горлом.
Его голос был услышан. Чьи-то торопливые шаги протопали к двери, руки сняли с нее засов и, ничего не спрашивая, втащили Кузьму в дом.
– С чего ж это нелегкая носит душу в такую непогодь? Иль жизнь надоела? – вытряхивал Кузьму из заледенелых сапог и телогрейки костистый, бородатый лесник, казавшийся самим Берендеем в своем глухоманном царстве.
– Скидай с себя лохмотья! Живо! – скомандовал Кузьме, а сам принес таз, полный снега, и принялся оттирать гостя, даже не спросив, кто он, как тут оказался? Не узнал имя. Да и зачем лишняя морока? Лесник возвращал человека в жизнь.
Не скоро отошли обмороженные ноги и руки. Лицо нестерпимо горело от усилий лесника. Он оттирал Кузьму так, словно тот был не чужим, не. званным гостем, а своим, родным и долгожданным сыном.
– Теперь, кажись, все! – оглядев отдышавшегося, красного, как угли, мужика, сказал лесник. И достав из сундука свое сухое, чистое белье, сказал строго: – Влезай! Живо!
Всю ночь Кузьму трясло, как в лихорадке. То в жар, то в озноб бросало. Лесник отпаивал его малиновым чаем. Заставлял потеть. Он насыпал горчичный порошок в шерстяные носки и надел их Кузьме на ноги, укутал гостя в бараний тулуп, но так и не уговорил выпить водки. Огрызок отказался наотрез, боясь самого себя.
Дед поил его чаем с медом, облепихой. И все ждал, когда лоб Кузьмы покроется испариной. Но человек дрожал, будто и теперь лежал в сугробе.
– Кровь твою поморозило. Выпей! – настаивал лесник, но гость мотал головой, отказывался.
Уснул Огрызок лишь к утру, когда в окно заглянуло ненастное утро. Под вой пурги спал Кузьма, забыв обо всем, не слыша ничего вокруг. Огрызок даже на другой бок не повернулся. И проспал до полуночи. Лесник рассмеялся, когда взъерошенная голова гостя высунулась из тулупа:
– Ну и здоров ты дрыхнуть, дружок! Хоть до ветру сходи! Видать, давненько тебе спать по-человечески не доводилось.
– То верняк ты подметил. Не то спать, жить по-людски не привелось, – отозвался Кузьма. И, встав с постели, огляделся, ища свою одежонку, в какой в зимовье пришел.
– Чего шаришь? Одежа сохнет. Вон, у печки. Садись, как есть, поешь, что имею, – накрыл хозяин на стол и, подав ложку, только теперь спросил: – Кто же ты будешь, сынок?
У Кузьмы в тулупе, видно, не только тело, душа отошла, согрелась. И рассказал он человеку, спасшему его от смерти, все без утайки, как на духу, кто он и как тут очутился.
Лесник слушал, не перебивая. Лишь изредка вздыхал, качал головой, укоряя то ли Кузьму, то ли судьбу за синяки и шишки, полученные в жизни неведомо за что.
– Вот теперь и ты меня прогонишь. Как все. Иного для себя уже не жду, – опустил голову Огрызок виновато и добавил: – Наверное, знай, кто возник, не отворил бы мне…
– Я не вору помог, человеку подсобил выжить. То – дело Божье. Все мы под ним ходим. И зарекаться от тюрьмы и сумы никто не может. Одно хочу спросить, что делать нынче вознамерился? Чем займешься? – спросил хозяин гостя.
– Пока ничего не придумал.
– Мой совет тебе, хочешь – послушай, а нет – дело твое, только вертаться в Орел смысла нет. Там имя изгажено и слава дурная хвостом потащится. Надо на новом месте прижиться. Чтоб прошлым никто не попрекал, да не смотрела милиция в каждый след. Но и новое место с умом выбрать надо. Где люд понятливый, сердешный. Где таких, как ты, бедолаг – много. И всяк знает цену горю и спасенью. Не оттолкнет, а поможет, поддержит.
– Да разве есть на земле уголок такой? Где сыскать его – этот рай? Не верится, что имеются люди понятливые и добрые, – понурил голову Кузьма.
– Поезжай на Сахалин. К сыну моему старшему. Я ему отпишу. Он поможет. А пока поживи у меня. Туда нельзя без вызова, – ответил хозяин.
– На Сахалин? Там, как я слышал, одни зоны. А я свободный теперь. Зачем добровольно сунусь на каторгу?
– Эта каторга нынче не та! Свободный люд туда просится. На заработки. Да и с харчами там полегше. Живут вольготней. Не зря в месте том освободившиеся из зон не покидают Сахалин, а до конца на ем остаются. И мой сын – не тюремщик. А уж какой год там живет. Не жалуется. И на материк калачом не выманишь. Сахалинец теперь. Почти что коренной! – гордо задрал бороду лесник и добавил: – Северяне мы все. Весь род наш. Огрызок задумался.
Там отпетые воры про грех забывают. Зарабатывают по три жалованья в месяц. Семьи завели. Нормальными людьми стали. Детными. И тебе надо парнишонку заиметь. Там нынче вербованных баб понаехало полно. Авось и ты свою судьбу сыщешь, – уговаривал лесник.
Кузьма, поворочавшись пару ночей, согласился. И лесник вскоре отправил сыну письмо в далекую неведомую Оху, как назвал ее дед, столицу нефтяников.
Огрызок, ожидая ответа оттуда, никак не мог сидеть без дела на иждивении лесника. И вскоре, осмотревшись, переведя дух, стал выходить из зимовья. То дров нарубить, воды принести, снег от порога и окон откинуть, прочистить дорожку к сараю и бане, сбросить снег с крыши. Его об этом никто не просил, сам догадывался.
Кузьма уже знал, что в ту роковую пургу от зоны до зимовья прошел почти тридцать километров. И сверни немного – пропал бы от холода. Он сбился с пути. Свернул в сторону от дороги. А потому не вышел к поселку. Не случись на пути зимовья, до ближайшего жилья в этих местах не дойти потерявшему силы в пурге.
Много раз уходил Огрызок в бега. Но потому и ловили его, что не знал он местности и условий особых, колымских.
Огрызок только теперь, оказавшись на воле, осознал, почему так свирепо избивала охрана каждого беглеца.
Ему, Огрызку, доставалось больше всех, потому что убегал из зоны всякий раз, как только подворачивался случай. А искать зэка на лютом морозе, гоняясь за ним по глубокому снегу, кому приятно? Да и сбежавшему выжить тут нелегко.
Кузьма усмехнулся, вспомнив свой первый побег. Случилось это вскоре после прибытия Огрызка в зону. Попал он на свою беду не в барак к фартовым, а к воровской шушере – шпане. Которую не только законники на воле, а даже работяги в зоне презирали. Не считали их за людей. Их колотили по поводу и без него. Ими помыкали фартовые и начальство зоны. Все прочие сводили с ними счеты за неприятности, доставленные на воле.
Но и сама шушера была сродни своей репутации. Из барака, где отбывали сроки карманники, домушники и прочая перхоть, постоянно доносился шум драк, разборок, грязный мат. Здесь каждый день либо трамбовали, либо проигрывали друг друга в карты. Играли на деньги. Если таковых не оказывалось под рукой, рассчитывались барахлом. Не было его – резали пальцы или уши. Случалось, играли на жизнь. На свою иль сявки. А то и на свежака – недавно попавшего в барак. Вот так продули в рамса и Огрызка. Бугор барака выкупить не захотел. Не приглянулся ему Кузьма. Уж больно скандальным показался тот всем. И решили отделаться от Огрызка как можно скорее.
Кузьма, ничего не подозревая, мирно спал на своей шконке, не чуя беды, а она свалилась на него кодлой шпаны, соскучившейся по зрелищу. Уже целую неделю в бараке не пахло кровью, не слышалось воплей от мучений. И свора мужиков жадно ухватила его за руки, ноги, поволокла на судилище, где выигравший скажет о своем желании – какую именно смерть выберет для Огрызка. Желания Кузьмы на это никто не спрашивал. Его скрутили в спираль и положили у стола в ожидании решения.
Огрызок вмиг понял. Не зря же на его плече устроился жирный стопорило. Расселся, как на шконке. И Кузьма, повернув голову, хватил его зубами за вислый, жирный зад.
Стопорило от боли и неожиданности подскочил, выпустив скрученные руки Кузьмы. Заорал в ужасе, что проклятый новичок откусил яйца. А Огрызок, взметнувшись пружиной, опрокинул на пол четырехведерную парашу, вылив ее содержимое на проход, под ноги шпане, а сам, в чем был, вылетел из барака пулей.
Во дворе зоны было темно. Этим и воспользовался Кузьма. Он не почувствовал холодного дождя. И помчался к кухне, куда с воли каждый день доставляли харчи зэкам.
Лишь Огрызок видел, другие и не приметили, что именно тут на проволоку не подключается ток. А со сторожевой вышки темный дворик кухни почти не просматривается.
Кузьма, будь он в другом состоянии, может, и не одолел бы высоченный забор. Тут же, боясь погони и расправы, мигом… И, виляя тощим задом, помчался в марь, залег меж кочек. Отдышался лишь через час. А едва рассвет проклюнулся, нагнала Кузьму в распадке матерая сторожевая овчарка. Свалила, прижала к земле, карауля каждое дыхание. Коротким лаем сообщила погоне, где поймала беглеца.
Весь путь до самой зоны дубасили Огрызка охранники. Прикладами, пинками, кулаками. Им овчарки помогали. Ноги и задницу на ленты распустили.
Кузьму за тот побег два месяца в шизо продержали. На хлебе и воде, на бетонном полу, без глотка свежего воздуха.
Никто не спросил, с чего в бега ударился. Прибавили к основному сроку три дополнительных года…
Когда Кузьму вернули в барак, шпана удивилась. Живой! И выразила свое мнение однозначно:
– Говно не сдыхает. Со временем сильней воняет. Надо от него
отделаться…
И снова сели к столу играть на душу Кузьмы. Тот тоже не зевал. Во двор вышел. Рядом с бараком машина стояла. Водитель на несколько минут отлучился. Их хватило. Слил бензина пару ведер и подпалил шпану. Но и сам не сбежал. Попал в спецчасть на зубы оперов. Те с неделю трясли – зачем барак поджег. Огрызок не раскололся. И его снова впихнули к шпане… Сучня, прижившаяся в бараке, давно донесла о причине побега. Но администрации было наплевать на Кузьму. Она ждала, что блатные сломают новичка, и будет он, как все. Но не тут-то было.
Огрызок не смирился и затаил злобу на весь барак. И в первую же ночь, по возвращении из шизо, когда шпана уснула, подкинул уголь в печку и закрыл задвижку, когда едва перегоревшие куски антрацита еще лизали едкие синие огни.
Когда зэки, ошалев от головной боли, стали сваливаться мешками с верхних нар, Кузьма вернулся в барак с чердака и приоткрыл задвижку. Но было уже поздно. Пятеро не встали с нар. Угорели насмерть. А Огрызок, как ни в чем не бывало, уже обдумывал новый план мести. Благо, что шпана, перепившаяся в тот день, даже не вспомнила о печке. И лишь тюремный врач, оглядев трупы зэков, понятливо качал головой. Но, глянув на приоткрытую задвижку, не высказал вслух своего подозрения.
В другой раз вылил в чайник полную бутылку касторки, украденной в медпункте. И шпана, усевшись вечером у стола, спокойно выпила чай, не подозревая о подвохе.
Блатные вечером всегда веселились. Кого-то трамбовали, чифирили, играли в карты. И в этот раз решили сыграть– в рамса на новичка. Но… Подвели животы. А вскоре на параше тесно стало. Не хватало места всем желающим. Кто-то, не дождавшись, срать стал на засидевшихся. Выскакивали за дверь. Другие от параши на шаг не отходили. Едва дождались утра. Иные всю ночь не спали. В больничку к врачу скопом заявились. Тот и проговорился о пропаже касторки. Блатные смекнули. Обшмонали всю шконку Кузьмы. Забыв, что вор улик не оставляет, все же пригрозили утопить в параше. Но Кузьма не стал дожидаться выполнения обещанного и слинял на чердак, где обосновался окончательно. Еще не забыли блатные о касторке, не перестали болеть их животы, Огрызок уже придумывал новую месть.
То тертое стекло сыпал на матрацы, то, дождавшись, когда все уснут, открывал в лютую стужу двери барака настежь.
Порою его искали по всей зоне, чтобы избить за очередную пакость. Но никто из блатарей и предположить не мог, что окопался Огрызок неподалеку – над самой головой. Сознайся он сам, ему бы не поверили. В такую стужу даже в бараке выжить мудрено.
А Кузьма спал у самой печной трубы, хранившей тепло до утра. Обняв ее как шмару, Кузьма любил трубу за то, что все тепло свое до последней капли она отдавала ему одному.
Огрызок хорошо слышал каждый разговор в бараке и никогда не появлялся в нем, если ему грозила неприятность. Он был не просто осмотрительным, а и подлым, коварным до удивления мужиком.
Вот так однажды устроил он пытку всему бараку: в суровейшую пургу заткнул печную трубу старым тряпьем, закрыл изнутри дверь чердака, а сам вылез через отдушину, которую пробил для себя заранее.
Зэки утром затопили печь, чтобы хоть немного согреться, размять онемевшие от холода ноги и руки. Но не тут-то было…
Из печки повалил такой дым, что блатных, словно ветром сдуло из барака. До ночи откашляться не могли. И вытащив тряпье из трубы, долго недоумевали, как оно туда попало. Огрызка не заподозрили, он спал в ту ночь в бараке.
В другой раз, разыскав возле оперчасти пустую бутылку из-под шампанского, заткнул ею дыру в стене над головой бугра. Горло бутылки наружу выставил. И ждал пургу.
В тот вечер блатные избили до полусмерти проигравшегося майданщика. И когда охрана унесла его в больничку, решили сыграть на душу стопорилы. А тут внезапно вой послышался. Протяжный, долгий, со стоном и плачем. Бугор оглянулся. На нарах никто не спал. Но вой услышали все. Он шел откуда-то сверху и был похож на предсмертные стенанья.
Зэки всполошились. Удивлялся и Огрызок, хотя прекрасно знал, откуда этот стон… Начиналась пурга. Кузьма ждал, когда она наберет силу. Вот тогда в бараке не усидеть.
– Небось майданщик, падла, душу посеял. Вот и базлает теперь волком, – вздрагивал пахан.
А пурга будто подслушала. И взвыла диким зверем за стенами барака. Будто не один, а целая стая волков окружила барак – ждет, когда откроется дверь и можно будет броситься на добычу.
– Хреново, что зверюги к нам возникли. Жмура чуют. Не одного. Эти же хрена – не нарисуются, – вздрагивал пахан спиной, вытирая вспотевший лоб.
– Их бы охрана замокрила, – не согласился Огрызок.
– Охране забить на нас! Дрыхнут, как паскуды! Хоть всех нас в клочья разнесут, никто не покажется, – сплюнул пахан.
– Собаки брех бы подняли…
– Коль их самих из шкур не вытрясли. Они кто? Мы их ссым! Пред волком
– псина, что сявка перед паханом, – вскинулся бугор на миг, но тут же сник, услышав новые рулады.
– Ну! Мать твою! Заглохни! – закричал бугор, надеясь, что зверюги за бараком, услышав его рык, испугаются и замолчат. Но не тут-то было… Новые всхлипы перекрыли голос и повисли над головами зэков сплошным наказанием.
– Кенты! А ну! Шустрей! Откиньте зверюг от хазы! – потребовал бугор.
– Ты что? Съехал? С голыми граблями на зверя? Хиляй сам! Ты ж бугор! Проведи разборку за хазой! Тебя они должны ссать! Глядишь, слиняют.








