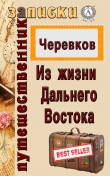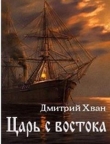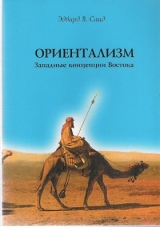
Текст книги "Ориентализм. Западные концепции Востока"
Автор книги: Эдвард Вади Саид
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 40 страниц)
Большинство заслуживающих внимания работ о новом политическом и экономическом порядке касаются того, что Гарри Магдофф в своей недавней статье назвал «глобализацией», системой, с помощью которой кучка финансовой элиты распространяет свою власть на весь мир, что ведет к повышению цен на товары и услуги, перераспределению благосостояния от низкодоходных секторов (обычно в незападном мире) к высокодоходным.[406] Наряду с этим, как четко показали Масао Миёши и Ариф Дирлик, установился новый международный порядок, в котором у государств больше нет границ, труд и доход принадлежат только глобальным менеджерам, а колониализм вновь появляется на сцене в форме подчинение Юга Севером.[407] И Миёши, и Дирлик показывают, как интерес западных ученых в предметах типа мультикультурализма и постколониализма на деле может быть культурным и интеллектуальным отступлением перед лицом новых реалий глобальной власти. «Нам необходимо, – говорит Миёши, – серьезное политическое и экономическое исследование, а не жесты педагогической целесообразности», представленные «либеральным самообманом», заключенным в таких новых областях, как культурология и мультикультурализм.
Но даже если мы принимаем такие обвинения всерьез (а мы должны это делать), в историческом опыте имеются серьезные основания для того, чтобы проявить интерес как к постмодернизму, так и к его существенно от него отличному дополнению – постколониализму. Прежде всего в первом присутствует гораздо больший евроцентристский уклон, а также теоретический и эстетический акцент на всем локальном и случайном, почти декоративная невесомость истории, пастиш и помимо всего прочего – консумеризм. Самыми ранними исследователями постколониализма были такие выдающиеся мыслители, как Анвар Абдель Малик, Самир Амин, К. Л. Р. Джеймс. Почти все их работы основывались на изучении доминирования и контроля, рассматриваемых либо с точки зрения полностью обретенной политической независимости, либо – незавершенного либерационистского проекта. Хотя ЖанФрансуа Лиотар в одном из самых известных программных заявлений постмодернизма подчеркивает исчезновение больших нарративов (метанарративов) эмансипации и просвещения,{333} во многих работах первого поколения постколониальных ученых и художников делается совершенно иной акцент: метанарративы все же остаются, даже если их осуществление и реализация в настоящее время временно приостановлена или отсрочена. Это важное различие, которое связано с актуальными экономическими и политическими императивами постколониализма и относительной обособленностью постмодернизма, сказывается на разности подходов и результатов, хотя все же между ними существует и некоторое пересечение (например, в методе «магического реализма»).
По-видимому, неверно было бы утверждать, что в большинстве из лучших постколониалистских работ, которые в большом количестве появились с начала 1980-х, отсутствовал акцент на локальном, региональном и случайном. Он, конечно же, был. Однако, как мне кажется, более интересна связь их основных принципов с универсальными проблемами, которые касаются эмансипации, пересмотра отношения к истории и культуре, широко распространенного использования повторяющихся (recurring) теоретических моделей и стилей. Их лейтмотивом была последовательная критика европоцентризма и патриархата. В 1980-х годах в американских и европейских кампусах и студенты, и преподаватели усердно занимались расширением так называемых основных учебных планов, чтобы включить туда работы женщин, неевропейских художников и мыслителей, в общем, «подчиненных». Это сопровождалось важными изменениями в подходе к страноведению, прежде всецело находившихся в руках классических ориенталистов и аналогичных фигур в других областях. Антропология, политология, литература, социология и в первую очередь история испытали на себе влияние всестороннего критического анализа источников, теоретических новаций и отказа от европоцентристской перспективы. Возможно, самый блестящий труд, связанный с подобной переоценкой ценностей, был проделан не в области исследований Среднего Востока, а в индологии с появлением Subaltern Studies?{334} – группы замечательных ученых и исследователей во главе с Ранаджитом Гухой (Guha). Их целью была революция (ни больше, ни меньше) в историографии, а ближайшей задачей – борьба с доминированием в индийской историографии националистической элиты и признание важной роли в истории городских бедняков и сельских масс. Думаю, было бы неправильно напрямую связывать эту главным образом академическую работу с «межнациональным» неоколониализмом. Следует принять во внимание достижения этой группы, не забывая при этом о возможных подводных камнях.
Особенно меня интересовало включение в сферу постколониализма проблем географии. В конце концов «Ориентализм» – исследование, основанное на переосмыслении того, что в течение веков считалось непреодолимой пропастью, разделяющей восток и запад (East and West). Моя цель, как я сказал выше, заключалась не столько в том, чтобы снять различие само по себе – кто же может отрицать конструктивную роль и национальных, и культурных различий в отношениях между людьми, – сколько бросить вызов представлению о том, что подобные различия непременно подразумевают враждебность, навеки фиксированный и реифицированный набор противоположных сущностей и все вытекающее отсюда знание в целом. В «Ориентализме» я призывал по новому взглянуть на разделения и конфликты, из поколения в поколение порождавшие враждебность, войны и имперский контроль. И в самом деле, одним из самых интересных результатов постколониальных исследований было новое прочтение канонических культурных текстов не с целью принизить или очернить их, но с тем, чтобы заново исследовать их основные предпосылки, преодолевая узкие рамки бинарной оппозиции «господин – раб». В этом же ключе шло воздействие поразительно многоплановых романов, вроде «Полуночных детей» Рушди, рассказов К. Л. Р. Джеймса, поэзии Эме Сезера и Дерека Уолкотта (Aimé Césaire, Walcott), которые привнесли смелые новаторские новации в художественную форму, воплотившие в себе переоценку исторического опыта колониализма, возрожденного и преобразованного в новую эстетику распределения и зачастую трансцендентного переформулирования.
Похожие результаты можно найти в работе ряда известных ирландских писателей, которые в 1980 году создали группу под названием «Field Day» (Знаменательный, счастливый день). В предисловии к сборнику их работ говорится:
(авторы) полагали, что Field Day может и должен внести свой вклад в разрешение существующего кризиса с помощью анализа распространенных мнений, мифов, стереотипов, которые стали одновременно и симптомом и причиной нынешней ситуации (между Ирландией и Севером). Крах конституционных и политических соглашений, обострение насилия, на подавление или сдерживание которого эти меры были направлены, делает такой анализ еще более настоятельным на Севере, нежели в Республике… Поэтому компания решила осуществить ряд публикаций, начав с серии памфлетов (в дополнение к внушительному ряду поэм Симуса Хини, эссе Симуса Дина, пьес Брайана Фрила и Тома Полина), направленных на исследование природы ирландской проблемы и благодаря которым она могла бы быть разрешена более успешно, чем прежде.[408]
Идея переосмысления и переформулирования исторического опыта, который некогда был основан на географическом разделении народов и культур, находится теперь в самом центре целого потока академических и критических работ. Ее можно увидеть, по крайней мере, в трех следующих текстах: «По ту сторону арабов и евреев: пересоздаем левантийскую культуру» Амиела Алкалея, «Черная Атлантика: современность и двойное сознание» Пола Гилроя и «Подчиненные другим: британские писательницы и колониальное рабство, 1670–1834 гг». Мойры Фергюсон.[409] В данных работах подвергаются переосмыслению те сферы, которые раньше считались исключительным достоянием одного народа, пола, расы или класса. Авторы показывают, каким образом в эти сферы включаются другие. Левант, который на протяжении длительного времени воспринимался как поле битвы? между арабами и евреями, в книге Алкалейя предстает как общая средиземноморская культура обоих народов. Согласно Гилрою, похожий процесс меняет – а на деле удваивает – наше восприятие Атлантического океана, который прежде воспринимался как исключительно европейский путь. Заново обращаясь к исследованию взаимоотношений английских рабовладельцев и африканских рабов, Фергюсон предлагает более сложную модель, разделяя белую женщину и белого мужчину и вычленяя таким образом новый слой унижений и тягот в Африке.
Я мог бы привести еще больше примеров. Однако на этом завершу, отметив кратко, что, хотя враждебность и несправедливость все еще существуют (что и пробудило мой интерес к ориентализму как культурному и политическому феномену), сейчас уже по крайней мере признано, что это не извечный порядок вещей, а определенный исторический опыт, чей конец, или, по крайней мере, частичное смягчение не за горами. Оглядываясь назад с расстояния этих наполненных событиями пятнадцати лет и принимая во внимание новые серьезные попытки интерпретаций и научных исследований, направленных на то, чтобы освободить мысль и человеческие отношения от оков империализма, понимаешь, что у «Ориентализма» есть по крайней мере, одно достоинство: он открыто вступил в борьбу, которая, разумеется, продолжается совместно и на «Западе», и на «Востоке».
Эдвард Саид,
Нью Йорк, март 1994
Итоги саида: Жизнь и книга …
…Мы отделялись от душного Востока, дух наш стал светел и весел, родился образ человека, который часто поникал и неизменно снова выходил к солнцу. Там, где я стоял, чувствуешь, что лишь тот воистину сын Европы, кто способен в лучшие свои часы возвращаться сердцем к Элладе. Там страстно желаешь, чтобы персы, в каком бы обличии они ни возвращались, снова и снова терпели поражение.
Томас Манн.
…Страна Востока была не просто страна, не географическое понятие, но она была отчизной и юностью души, она была везде и нигде, и все времена составляли в ней единство вневременного.
Герман Гессе.
…Западу пора вспомнить, что он больше Востока, что Восток – как идея, как цивилизация – есть, в сущности, порождение Запада (как и сами понятия «идея» и «цивилизация»). Восток – это географическое открытие и историческое изобретение Запада. Восточные народы столетиями и тысячелетиями оставались «бытием в себе», ничего не зная ни о Западе, ни о себе как Востоке; именно Запад сделал их Востоком, вовлек в интригу мировой истории. Восток – это романтическая греза Запада, его мечтание о Другом.
Михаил Эпштейн.
Он умер 25 сентября 2003 года – как говорят в таких случаях, «после тяжелой, продолжительной болезни» (оба слова тут более чем уместны). «Самый блестящий интеллектуал за последние пятьдесят лет», – вынесла вердикт «Виллидж Войс». Зато «Нью Йорк дэйли ньюз» опубликовала статью Зеева Хейфеца, в которой было, в частности, сказано, что книги Саида «послужили делу джихада лучше, чем батальон Осам Бин Ладенов». Остальные отклики тяготели к одному из этих полюсов, иногда пересекаясь в формулах типа «талантливый ученый, придерживавшийся прискорбно ошибочных взглядов» или «гениальный провокатор, тонкий критик и проповедник ненависти».
После всех сложений и вычетов с поправками на пристрастность в ту или иную сторону в сухом остатке оставался образ опасного ума – то есть чего-то среднего между профессором Мориарти и доктором Фу Ман Чу, ближе ко второму. Поэтому прекращение работы этой мыслительной машины было воспринято с чувством определенного облегчения даже теми, кого считали союзниками, а-то и основными потребителями, его продукции. С другой стороны, в неприкрытой радости врагов то и дело проскальзывали нотки невольного сожаления: с его смертью схватка не прекращалась, но становилась менее интересной и более грязной… Так или иначе, равнодушных не было: покойный был слишком одиозен.
1
«Интеллектуал». Импортное словцо замаячило в умах «дорогих россиян» в начале девяностых, когда остатки советской интеллигенции кинулись, как крысы, бежать из потерпевшего крах сословия и искать себе новое место. «Интеллектуал» в ту пору звучало почти так же солидно, как «брокер» и много обещало – например, хлебное место в каком-нибудь think-tank'е. Получилось по другому: те, кто успел пробиться на относительно умственную работу (в «пиар» или «политтехнологи»), быстренько открестились от менее удачливых собратьев. Словцо же «интеллектуал» потеряло в рейтинге, зачахло и в конце концов сдохло от первой же шутки: злоязычный Виктор Пелевин в очередном романе написал, как десять тысяч советских интеллигентов целовали зад красному дракону, но втайне мечтали о зеленой жабе, которая, по слухам, платит за то же самое в тысячу раз больше. И зеленая жаба пришла, но выяснилось, что ей не нужны десять тысяч целовальников, а нужны три специалиста по глубокому минету – которые теперь и называются этим самым словом на «и».
На исторической родине зеленой жабы понятие «интеллектуал» подразумевает нечто прямо противоположное. Как правило, это высокоавторитетный (а иногда и высокопоставленный) нонконформист, добившийся признания в какой-нибудь области отвлеченного знания, или, как стало мод но говорить после Бурдье, «обладающий значительным символическим капиталом». Этот символический капитал он вкладывает в общественную активность. Но в отличие от позиции общественного деятеля в прямом смысле этого слова – агитатора, горлана, главаря, будущего начальника – позиция интеллектуала может быть обозначена как «social criticism»: подрыв и разоблачение мифов, расчистка поля, на котором когда-нибудь – Бог даст – начнется новое строительство.
Таким образом, интеллектуал – прямая противоположность «лидера», его темный двойник. Он никогда не создаст, скажем, политическую партию (или он перестанет быть интеллектуалом), но его книги и выступления повлияют на будущих адептов идеи. Впрочем, интеллектуалы довольно часто прибиваются к свите какого-нибудь сильного человека – да и сами сильные люди зачастую испытывают по отношению к высоколобым нечто вроде заочного уважения. Последствия бывают разными, но, как правило, не очень удачными – судьбы проданного в рабство Платона или отвергнутого Макиавелли в этом смысле показательны.[410] Но интеллектуалы не чураются и самостоятельных жестов, пока они остаются жестами. Жан Поль Сартр, гуляя по оккупирован ному Парижу, воображал, что он участвует в «резистансе», который, в свою очередь, тоже был полувоображаемым мероприятием… Можно при желании собрать гербарий: традиционные жесты интеллектуальной гегемонии, например, «разговор с Властью на равных», «несломленную гордость» (или «сломленную», тоже хорошо смотрится), шепоток «а все таки она вертится» или громыхающее «здесь я стою и не могу иначе», истина, что дороже Платона, etc, etc.
Некоторые из таких жестов могут – в соответствующих обстоятельствах – обрести смысл и значение, иной раз перерастающие исходный замах.
Эдвард Саид, профессор Колумбийского университета, культуролог и историк литературы, автор двадцати с лишним книг и сборников и бесчисленного множества статей и эссе, пианист и оперный критик, кроме того – бывший президент Американской Лингвистической Академии, член Американской Академии наук и искусств, Королевского Литературного Общества, Американского Философского Общества, обладатель многочисленных наград, почетных званий и отличий, включая двадцать докторантур honoris causa в различных высших учебных заведениях по всему миру, и прочая и прочая и прочая… а также палестинский активист, член Палестинского национального совета и главный консультант по делам Палестины в Соединенных Штатах, радикальный журналист, критик сионизма, телезнаменитость, публичной оратор, прозванный «врагом европейской цивилизации» и «профессором террора» – был в этом смысле образцовым интеллектуалом.
2
Эдвард Вади Саид (Edward Wadie Said, إدوارد سعيد) родился[411] 1 ноября 1935 года в Иерусалиме, в богатой арабской iii семье протестантского вероисповедания,[412] придерживавшейся консервативных взглядов. «Консервативных» здесь не означает «ортодоксальных» в религиозном или политическом значении этого слова, и уж тем более – в смысле слепой приверженности традициям. Отец Эдварда, богатый и успешный бизнесмен Вади Саид,[413] был вовсе не против того, чтобы его сын приобщался к ценностям западной цивилизации. С 1943 года семья бóльшую часть времени проживала в Каире, считавшемся тогда чрезвычайно вестернизированным. Юный Эдвард ходил в хорошую школу, брал уроки музыки у хороших учителей, занимался гимнастикой и вел довольно свободный – насколько это было возможно в то время и в той среде – образ жизни. С детства он говорил на двух языках, первым был английский,[414] как у Владимира Набокова.[415] Однако каждое лето отец, не слушая протесты сына, насильно увозил его в маленькую ливанскую деревню, где он жил жизнью обычного крестьянского мальчишки. Грязь, вонь, жара, тяжелая и неинтересная крестьянская работа – все это, по мнению отца, должно было намертво впечатать в сознание ребенка, что он, несмотря ни на что, был и остается арабом. Впоследствии сам Саид признавался, что эти поездки доводили его до настоящего психического истощения. Обнаженные корни этничности выглядели не слишком привлекательно и дурно пахли. Это оставило свой след: несмотря на все биографические и идейные предпосылки, Саид так и не прельстился обычным арабским национализмом, с присущей ему идеализацией «простой жизни». Скорее, он чувствовал себя амфибией, жителем двух миров, арабского и современного – а еще точнее, несостоявшейся арабской современности, ближневосточного модерна. Это же предопределит и его сложное отношение к Израилю – что впоследствии послужит причиной разрыва с ООП.
Тем местом, где «современное» и «арабское» соединялись в неразрывное целое, стал для него Иерусалим, точнее – северная часть квартала Тальбийе (Talbieh), где у семьи был большой двухэтажный дом.[416]
Здесь необходима ремарка – поскольку речь пойдет о genius loci. Квартал Тальбийе (ударение на «и») появился на карте Иерусалима в 1922 году. Когда-то это были владения православной церкви. Однако, после революции в России обедневшие церковники были вынуждены сдать землю в концессию – на очень длительные сроки.[417] Тальбийе был малозаселенной местностью между старым Иерусалимом и монастырем Святого Креста. Местность облюбовали богатые нееврейские семьи, в основном арабские и отчасти армянские. При этом церковь принципиально не сдавала землю в аренду мусульманам, так что население Тальбийе составляли в основном арабы христиане разных толков (что не такая уж и редкость в библейских краях). Район считался элитарным, и атмосфера в нем была не хуже, чем в Каире: европейские развлечения (элитные клубы, рестораны, кафе), модные наряды, вольная и безопасная жизнь.
В ту пору святой город был британским: Лига Наций[418] подтвердила английские права на Палестину мандатом на управление палестинскими территориями – вплоть до окончательного решения еврейского вопроса согласно духу и букве декларации Бальфура.[419] Английские чиновники предпочитали селиться в Тальбийе – так что «настоящие белые люди» там не переводились. Там же, как правило, располагались консульства европейских стран. Короче говоря, место было продвинутым. Это касалось даже архитектуры: почти все дома были выстроены в новейшем по тем временам европейском стиле «баухаус»,[420] но с арабским колоритом – ажурными решетками, арками и т. п. Для сравнения вообразите себе башню Татлина с псевдорусскими балясинами и луковичными главками… Впрочем, дом семьи Саид выглядит на этом фоне довольно средне – конструктивизм в самом неинтересном его варианте.[421] Это не помешало впоследствии сделать его символом потерянного рая – еще одна набоковская тема. Саид часто вспоминал дом, последний раз, кажется – в автобиографической книге «Без пристанища»,[422] об изгнании и изгнанничестве. Образ родного дома был для него чрезвычайно важен – как и образ тех, кто его этого дома лишил: в 1948 году семейство Саидов не вернулось в Иерусалим из очередной каирской поездки. Причиной тому была победа Израиля в первой арабо-израильской войне.
3
Снова немного истории. Глядя из XXI века, арабо-израильский конфликт кажется предопределенным чуть ли не на геологическом уровне: ведь «это же так естественно», что арабы и евреи ненавидя друг друга. На самом деле конфликт развивался постепенно и был спровоцирован вполне материальными причинами.
В двадцатые тридцатые годы еврейские активисты ехали осваивать «землю без людей». Люди на земле, однако, жили: местные жители, еще не называвшие себя палестинцами, «просто арабы».[423] Сначала взаимное недовольство – неизбежное, но вполне понятное – было не слишком значительным: в принципе, крестьяне феллахи ничего не имели против того, что богатые евреи будут владеть землей, которую они, арабы, будут обрабатывать. Ирония ситуации состоит в том, что бóльшая часть еврейских иммигрантов была воодушевлена социалистическими идеями – или, как минимум, хотела «работать на земле». Подсуропил и правовой казус: согласно палестинским обычаям крестьяне не владели землей, но имели в своей собственности деревья, растущие на ней. Многие евреи, купившие землю, принялись выселять крестьян и вырубать апельсиновые рощи и оливковые деревья. Что, мягко говоря, не способствовало добрососедству…
С этих прозаических проблем все и началось – но, как мы знаем, отнюдь не кончилось. Через какое-то время в дело вступили силы другого масштаба – религия, политика, а потом уже и национальные чувства. Сейчас арабо-израильский конфликт перерос и эти границы, став чем-то вроде системообразующего фактора в регионе, той распоркой, на которой держится сама архитектура Ближнего Востока; но это все случилось гораздо позже.
Тогда же обстановочка еще накалялась – мерно, но неуклонно, как накаляется котел на ровном огне. Из под крышки начало зловеще булькать. Арабы и евреи перешли к вооруженным стычкам. Доставалось и англичанам, все еще держащим вахту: они оказались удобными мишенями для террора. Не стоит забывать, что терроризм тогда был в основном еврейским.
29 ноября 1947 года ООН приняла знаменитую резолюцию № 181 – о разделе подмандатных территорий и создании двух государств – еврейского и арабского. Оба государства должны были иметь демократические конституции, обеспечивающие права национальных меньшинств в каждом из этих государств. Арабские страны этот план раздела не приняли, выступив против создания еврейского государства на «священной земле ислама». После оглашения резолюции ООН началась столкновения между местными евреями и местными арабами. Понятно, чью сторону приняли арабские государства.
Независимость Израиля («Эрец Израэль») была провозглашена в ночь с 14 на 15 мая 1948 года, сразу после истечения срока британского мандата. Формулировки, принятые в декларации (особенно заявление о «еврейском характере» новообразованного государства) послужили казусом белли. Через несколько часов началась первая, но далеко не последняя арабо-израильская война. Израиль выиграл, чем завоевал себе право на существование. В дальнейшем ему пришлось неоднократно подтверждать это право – все тем же способом.
Тогда же появились первые арабские боевые организации, такие как аль-Джихад аль-Мукаддас (понятно без перевода), Абталь аль-Ауда («Герои возвращения») и другие. Впоследствии, в пятидесятые годы, они вольются в ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины», Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini[424]). На 1956 год приходится окончательное становление ФАТХ. Одним из создателей организации был молодой Ясир Арафат…
Однако мы отвлеклись. Лишившись дома в Иерусалиме, семья Саидов окончательно оседает в Каире. Молодой Эдвард учится в престижном Виктория Колледж, после чего стано вится ясно: ему следует продолжать образование в Европе или Америке. По понятным причинам выбирается Америка.
В 1951 году Саид отправляется на учебу в США. После завершения учебы[425] он получает высшее образование в Принстоне (где получает степень бакалавра), а затем в Гарварде (там он зарабатывает PhD). К тому моменту круг интересов молодого ученого определяется. Эрудит и полиглот,[426] любитель хорошей музыки, совершенно европеизированный[427] – но все таки не «левый», несмотря на круг знакомств… Даже семейное несчастье – новый президент Египта Гамаль Абдель Насер решил строить социализм и национализировал семейный бизнес Саидов, которым пришлось перебраться в Ливан и начинать жить заново – не слишком напугало молодого ученого: у него складывалась своя жизнь и своя карьера, бесконечно далекая от ближневосточной политики.
В 1963 году он поступает на факультет Колумбийского университета. В 1966-м выходит его первая книга: «Джозеф Конрад и автобиографический вымысел», в которой исследуются связи между беллетристикой и мемуарным жанром. В дальнейшем тема творчества Конрада – считавшего себя «поляком в изгнании» – останется с ним до конца. Как, впрочем, и тема автобиографического вымысла – о чем ниже.
Так или иначе, карьера молодого ученого явно идет в гору. Обстоятельства тому благоприятствуют: в западной гуманитаристике начинается эпоха cultural studies, междисциплинарных исследований культуры во всем ее объеме. Вопреки родившемуся в те же годы снобистскому афоризму («cultural studies – это когда филологи пишут об истории, историки пишут о литературе, а литературоведы анализируют политические документы»), новая парадигма оказывается не только модной, но и плодотворной. Саид, с его стилем мышления, идеально вписывается в образовывающийся круг новой академической элиты.
Сам Саид в то время ведет, что называется, «светский образ жизни», читает книги, завязывает знакомства и совершенно не думает об оставленном за спиной Востоке. Впоследствии он скажет в одном из интервью, что в те годы он разорвал всякие связи с Египтом и Ливаном: он чувствовал себя там иностранцем. По большому счету он вполне разделяет все западные предрассудки относительно арабского Востока, добавляя к ним толику неофитского пыла.
Вторая научная книга Саида (а точнее, первая: как говорят в таких случаях, автор гуманитарий поверяется по второй книге, потому что первая обычно представляет собой слегка переработанную диссертацию) – «Начала»[428] – посвящена литературоведческим штудиям в области современного романа. В центре внимания автора – почтенные «современные классики», такие как Пруст или Томас Манн. Книга посвящена теме преодоления жанровых границ и напичкана ссылками на Ауэрбаха, Фрейда, Вико,[429] структуралистов и так далее. Блеск эрудиции оттеняется стилистическим совершенством текста, умение читать и вчитываться – умением делать далеко идущие выводы. В 1976 году ему вручают награду Колумбийского университета за текст «Начал», а год спустя он получает должность профессора английской литературы и сравнительного литературоведения. Это – на всю жизнь.
Впрочем, к тому моменту интересы Саида претерпят очень существенную трансформацию. Профессорскую шапочку наденет на себя человек, открывший для себя совсем иные ценности, нежели академические лавры.
4
Утром 5 июня 1967 года начался новый арабо-израильский конфликт, известный теперь как «шестидневная война». На сей раз начал войну Израиль[430] и провел ее в классической стилистике блицкрига: внезапное нападение, господство в воздухе, удары танковых колонн и т. п. За неделю арабские армии[431] были разгромлены. Израиль захватил немалые – по ближневосточным масштабам – территории: западный берег Иордана, сектор Газа, Голанские высоты и Синайский полуостров. Восточная часть Иерусалима, считавшаяся «арабской»,[432] также была оккупирована. 28 июня 1967 года правительство Израиля приняло решение об ее присоединении к западной части города. Иерусалим стал еврейским.
Эти события перевернули жизнь Эдварда Саида. Впоследствии он скажет, что шестидневная война стала «прощанием с миром юности», воплощением всех бед и потерь. Но эта же война придала смысл и ценность всему тому, что он легкомысленно считал само собой подразумевавшимся: почве и крови.
Отныне Саид – не космополитически настроенный эмигрант арабского происхождения, а палестинский беженец.
В своей поздней книге – «Размышления об изгнании и другие заметки»[433] Саид напишет: «Национальное самосознание – это притязание на принадлежность к некоему народу и некоей культуре, на право считаться где-то „своим“. Его ключевое понятие – Родина, понимаемая как общность языка, культуры и обычаев; тем самым оно сопротивляется изгнанию, противодействуя его губительному натиску. На деле же национальное самосознание и изгнание – это, как господин и слуга из гегелевского сравнения, пара взаимопроникающих, взаимообусловленных диалектических противоположностей. Все разновидности национализма возникают и начинают развиваться на почве ущемления национальных прав. Борьба за независимость североамериканских колоний в XVIII веке, за объединение раздробленных на мелкие государства Германии и Италии в XIX веке, за свободу Алжира в ХХ, – все это была борьба этносов, отлученных от («изгнанных из») всего того, что они ассоциировали с «достойным» образом жизни». Далее по тексту следует презрительная филиппика на тему «квазисвященных текстов» национализма, его жесткого разделения на «своих» и «чужих» – в общем, всего того, что неприятно в национализме человеку просвещенному. Все это, однако, не смазывает силы первоначального видения: нация возникает путем отрыва от почвы. Если угодно, национальное самосознание есть почва минус кровь. Это остаток почвы, растворенный в крови и унесенный на подошвах.
Впоследствии, когда Саид стал de facto чем-то вроде интеллектуальной витрины палестинцев как нации,[434] ему приходилось отбиваться от банальнейшего из упреков – в самозванстве, в отсутствии у него права называться настоящим палестинцем. Взять хотя бы ту же самую тему утраченного иерусалимского дома. В 1999 году некий Юстус Вайнер (Justus Weiner), живший в Иерусалиме в квартале Тальбийе, устраивает самодеятельное расследование и пишет длинную статью[435] о том, что воспетое Саидом «пристанище» не принадлежал семье Саидов,[436] да и само семейство бывало в Иерусалиме в лучшем случае наездами. Саид ответил очень резкой статьей под характерным названием «Клевета в сионистском стиле». Но ему случалось отбиваться от аналогичных обвинений и с арабской стороны: его жесткая позиция по поводу тактики и стратегии палестинской борьбы воспринималась как двурушничество и вызывала понятное желание подвергнуть сомнению принадлежность Эдварда Саида к арабам – и, например, припомнить чересчур европейскую религиозную принадлежность или обвинить в не приличествующей арабу юдофилии. И, разумеется, многие сомневались в том, что можно внезапно ощутить себя изгнанником, сидя в собственном доме перед телевизором.