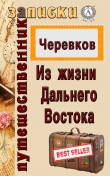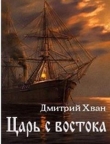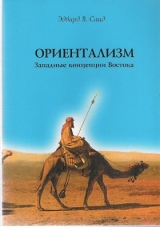
Текст книги "Ориентализм. Западные концепции Востока"
Автор книги: Эдвард Вади Саид
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)
Близка к Коссену и карлейловская версия Мохаммеда, с той только разницей, что ее автор не является профессионалом ориенталистом. Этот Мохаммед полностью подчинен задаче подтвердить тезис автора при полном игнорировании подлинных исторических и культурных обстоятельств, определявшихся временем и местом жизни Пророка. Хотя Карлейл и цитирует Саси, его эссе явно направлено на утверждение некоторых общих идей по поводу искренности, героизма и миссии Пророка. Такой подход оказывается благотворным: Мохаммед предстает уже не как легенда и не как бесстыжий сластолюбец или потешный мелкий кудесник, приучавший голубей склевывать у него из ушей горошины. Скорее, это человек трезвомыслящий и имеющий твердые убеждения, пусть даже он и написал Коран – «утомительное, бессвязное нагромождение, книгу незрелую и дурно обработанную, полную бесконечных повторов, длиннот, запутанную; совершенно сырую и бездарную – короче говоря, невыносимую глупость».[187] Понимая, что и сам не может служить образцом ясности и стилистического совершенства, Карлейл говорит это с целью уберечь Мохаммеда от применения к нему бентамовских (утилитаристстких) стандартов, которые в равной мере осудили бы обоих – и его, и Мохаммеда. Но все же карлейловский Мохаммед – это герой, перенесенный в Европу из варварского Востока, которого лорд Маколей счел неполноценным в своей знаменитой «Памятной записке» (1835), в которой он утверждает, что это «нашим туземным подданным» следует учиться у нас, а не нам у них.[188]
Иными словами, и Коссен, и Карлейл, уверяют нас, что о Востоке не следует беспокоиться – так далеко ушла Европа в своих достижениях от народов Востока. Здесь взгляды профессионала и любителя совпадают. В пределах поля компаративистики, где оказался ориентализм после филологической революции начала XIX века, и вне него – в популярных стереотипах или образах Востока, каким его представили философы вроде Карлейла, и стереотипах, подобных тем, что создавал Маколей, Восток был в интеллектуальном отношении подчинен Западу. Став предметом для изучения и рефлексии, Восток приобрел все признаки врожденной ущербности. Он стал зависеть от капризов теоретиков, которые использовали его в качестве иллюстрации для собственных концепций. Кардинал Ньюмен – не самый крупный ориенталист – избрал в 1853 году ислам темой своих лекций, оправдывавших вступление Британии в Крымскую войну.[189] Кювье счел нужным упомянуть Восток в своей работе «Le Règne animal» («Животное царство») (1816). Восток стал модной темой для бесед в различных парижских салонах.[190] Список ссылок, заимствований и трансформаций, обрушившихся на восточную идею, поистине необъятен, но в основе всех достижений первых ориенталистов и того, что использовали западные не профессионалы, лежала одна и та же схематичная модель Востока, удовлетворяющая теоретическим (и что едва ли менее важно, практическим) требованиям преобладающей, доминирующей культуры.
Иногда бывали и исключения, или, во всяком случае, более интересные и сложные варианты понимания этого неравного партнерства Востока и Запада. Карл Маркс ввел понятие азиатской экономической системы{182} при анализе в 1853 году британского владычества в Индии, но мимоходом отметил, что обнищание народа было вызвано вмешательством в эту систему английских колонизаторов, их ненасытностью и неприкрытой жестокостью. От статьи к статье у него росла уверенность в том, что, даже разрушая Азию, Британия создает предпосылки для подлинной социальной революции. Стиль Маркса подталкивает нас к тому, чтобы мы, пусть и против воли, подавили в себе естественное возмущение, вызванное страданиями наших восточных собратьев, пока их общество подвергается насильственной трансформации: ведь это происходит в силу исторической необходимости.
Однако как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств зрелище разрушения и распада на составные элементы этого бесчисленного множества трудолюбивых, патриархальных, мирных социальных организаций, как ни прискорбно видеть их брошенными в пучину бедствий, а каждого из членов утратившим одновременно как свои древние формы цивилизации, так и свои исконные источники существования, – мы все же не должны забывать, что эти идиллические сельские общины, сколь безобидными они бы ни казались, всегда были прочной основой восточного деспотизма, что они ограничивали человеческий разум самыми узкими рамками, делая из него покорное орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи традиционных правил, лишая его всякого величия, всякой исторической инициативы…
Вызывая социальную революцию в Индостане, Англия, правда, руководствовалась самыми низменными целями и проявила тупость в тех способах, при помощи которых она их добивалась. Но не в этом дело. Вопрос заключается в том, может ли человечество выполнить свое назначение без коренной революции в социальных условиях Азии. Если нет, то Англия, несмотря на все свои преступления, оказывается, способствуя этой революции, бессознательным орудием истории.
Но в таком случае, как бы ни было прискорбно для наших личных чувств зрелище разрушения древнего мира, мы имеем право воскликнуть вместе с Гете:
Если мука – ключ отрады,
Кто б терзаться ею стал?
Разве жизней мириады
Тамерлан не растоптал?
[191]
Приводимая Марксом в подтверждение тезиса о несущих в себе отраду мучениях цитата взята из «Западно восточного дивана» и указывает нам на источники представлений Маркса о Востоке. Это романтические и даже мессианские воззрения: как человеческий материал Восток менее важен, чем он же в качестве части романтического проекта спасения. Несмотря на гуманные чувства и сострадание к бедствующим людям, которые Маркс обозначает вполне отчетливо, его экономический анализ прекрасно вписывается в стандартную схему ориенталистского предприятия. В конце концов верх берет именно романтический ориенталистский подход, и теоретические суждения Маркса по общественно экономическим проблемам сменяются классическим стандартным суждением.
Англии предстоит выполнить в Индии двоякую миссию: разрушительную и созидательную, – с одной стороны, уничтожить старое азиатское общество, а с другой стороны, заложить материальную основу западного общества в Азии.[192]
Идея возрождения безжизненной в основе своей Азии – это, конечно же, типичный ход для романтического ориентализма, но услышать подобное заявление из уст того же самого автора, который только что так остро переживал страдания народа, – это поразительно. Прежде всего нам следовало бы спросить, каким образом моральное уравнение Маркса, сочетающее потери Азии с осуждаемым им британским колониальным владычеством, превращается в прежнее неравенство между Востоком и Западом, о котором мы уже столько говорили? Во-вторых, нам следовало бы спросить, куда же подевалось человеческое сострадание, в какое царство мысли оно удалилось, когда возобладал ориенталистский подход?
Сразу же бросается в глаза, что ориенталисты, как и многие другие мыслители начала XIX века, смотрят на человечество сквозь призму либо широких собирательных понятий, либо абстрактных генерализаций. Они не хотят и не могут исследовать отдельные личности: вместо этого в их сочинениях преобладают искусственные сущности, восходящие, по-видимому, к гердеровскому популизму. Для ориенталистов существуют только восточные народы, азиаты, семиты, мусульмане, арабы, евреи, только расы, типы ментальности, нации и т. п., причем некоторые из этих сущностей вызваны к жизни примерно теми же научными методами, с какими мы встречались в трудах Ренана. Точно так же и стародавние оппозиции «Европа» – «Азия», «Запад» – «Восток» за чрезвычайно широкими ярлыками скрывают все возможное человеческое многообразие, сводя его в итоге к одной двум итоговым соби рательным абстракциям. И Маркс здесь не исключение. Ему тоже удобнее использовать для иллюстрации своей теории Восток собирательный, а не живых людей в их экзистенциальной неповторимости. Между Востоком и Западом, как и в самосбывающихся пророчествах, имеют значение (или существуют) только предельно широкие анонимные собирательные сущности. Просто никакого другого типа обмена, пусть и самого ограниченного, под рукой не было.
Но если Маркс все же мог испытывать хоть какое-то сострадание к восточным собратьям и даже отчасти отождествлял себя с позицией бедной Азии, это говорит о том, что прежде чем его сознание полностью затмили разного рода ярлыки, прежде чем он обратился к Гете как источнику знаний о Востоке, произошло нечто важное. Похоже, нашелся хотя бы один человек (в данном случае Маркс), которому удалось разглядеть в Азии ее исконное своеобразие, еще не полностью погребенное под собирательными официальными стереотипами, – и, обнаружив такое своеобразие, он позволил первозданной Азии овладеть своими эмоциями, переживаниями, чувствами, – однако лишь затем, чтобы впоследствии о ней забыть, столкнувшись с грозной цензурой, воплощенной в самом вокабуляре, которым он вынужден был пользоваться. Эта цензура сначала приглушила, а затем и вовсе вытеснила исходное сочувствие, навязав Марксу свою лапидарную формулу объяснения: эти люди ничуть не страдают – ведь это восточные люди, а потому к ним следует относиться иначе, чем к остальным. Налет сочувствия растворился, натолкнувшись на стену неколебимых дефиниций, возведенную ориенталистской наукой и подкрепленную «восточной» эрудицией (вроде гетевского «Дивана»), призванной проиллюстрировать выводы ученых. Язык чувства отступил перед полицейской дубинкой ориенталистской лексикографии и даже ориенталистского искусства. Живой опыт был подменен словарными дефинициями: если разобраться, именно это и происходит в очерках Маркса об Индии. Такое впечатление, что в конце концов что-то вынуждает его повернуть назад, к Гете, и предпо честь ориентализированный Восток и покровительственное к нему отношение.
Конечно, Маркса отчасти заботило подтверждение его собственной теории социально экономической революции, но отчасти это было обусловлено и тем, что он опирался на многочисленные документы – как подвергшиеся внутренней обработке и консолидации со стороны ориентализма, так и инспирированные последним за пределами непосредственно контролируемой им сферы. В первой главе я попытался показать, каким образом такой контроль был обусловлен историей европейской культуры в целом со времен античности. В этой же главе моя цель состояла в том, чтобы показать, как в XIX веке формировались современная профессиональная терминология и практика, в дальнейшем определявшие всякий дискурс по поводу Востока, будь-то со стороны профессиональных ориенталистов или любителей. Творчество Саси и Ренана было для нас примером того, каким образом ориентализм направлял ход-развития, с одной стороны, корпуса текстов, с другой – филологического по своим истокам процесса, наделившего Восток собственной дискурсивной идентичностью, отличной от Запада. Обратившись к Марксу как примеру того, как нормальные человеческие реакции не ориенталиста были сначала развеяны, а затем и вытеснены ориенталистскими генерализациями, мы обнаружили, что имеем дело с присущей именно ориентализму лексикографической и институциональной консолидацией. В чем же дело, почему что бы вы ни говорили о Востоке, этот чудовищный механизм всеобъемлющих дефиниций выставляет себя как единственно допустимый способ такого обсуждения? А поскольку мы также должны показать, как именно воздействует данный механизм (причем весьма эффективно!) на личный опыт, который в любом ином случае должен был бы ему противоречить, нам необходимо также исследовать куда они движутся и какие формы на этом пути принимают.
Задача это непростая, требующая комплексных усилий, по крайней мере, столь же непростая и комплексная, как и тот путь, на котором всякая становящаяся дисциплина теснит конкурентов, ее традиции, методы и институты набирают вес, а ее заявления, институты и учреждения обретают общую культурную легитимность. Но мы можем в значительной мере упростить нарративную сложность этой процедуры, указав, какого типа опыт ориентализм обычно использовал для своих целей и представлял широкой непрофессиональной аудитории. В сущности этот опыт того же рода, что мы рассматривали, говоря о Саси и Ренане. Однако коль скоро эти ученые представляют собой, скорее, чисто книжную разновидность ориентализма (поскольку ни один, ни другой никогда и не претендовали на знакомство с Востоком in situ), то существует и другая традиция, которая основывает легитимность своих построений исключительно на тех веских доводах, что ее представителям довелось побывать на Востоке, и они обладают преимуществом непосредственного экзистенциального контакта. Понятно, что первые контуры этой традиции намечаются уже во времена Анкетиля, Джонса и наполеоновской экспедиции и что в дальнейшем она оказывает неоспоримое воздействие на всех живущих на Востоке европейцев. Эта традиция заключается в том, что власть там принадлежит именно европейцам: жить на Востоке – значит жить жизнью привилегированной, не такой, как все остальные граждане; это значит быть представителем Европы, чья империя (французская или британская) держит Восток в своих руках, доминирует и в военном, и в экономическом, и, что всего важнее, в культурном плане. Как следствие, опыт пребывания на Востоке и его плоды в виде научных исследований питают уже знакомую нам по трудам Ренана и Саси книжную традицию с ее характерными текстуальными установками. Вместе эти два типа опыта общими усилиями породят чудовищный арсенал книг и научных трудов, которому никто, даже Маркс, не сможет противостоять и влияния которого никому не удастся избежать.
Пребывание на Востоке означает личный опыт и до известной степени личные свидетельства. Их вклад в общий книжный арсенал ориентализма и его консолидацию зависит от того, насколько опыт и свидетельства удается перевести из формы сугубо личностного документа в полноправные коды ориенталистской науки. Другими словами, в пределах текста должна была произойти своего рода метаморфоза из личной формы в официальную. В записках о жизни на Востоке и восточном опыте европейцу необходимо было уйти (или по крайней мере свести их к минимуму) от личных биографических заметок в пользу таких описаний, на которых ориентализм в целом и последующие поколения ориенталистов, в частности, могли бы в дальнейшем строить и основывать свои научные наблюдения. Так что, как мы видим, происходит еще более явная конверсия, нежели это было с личными переживаниями Маркса по поводу Востока, в официальные ориенталистские утверждения.
Теперь ситуация богаче и сложнее, поскольку на протяжении всего XIX века Восток, и в особенности Ближний Восток, стал для европейцев излюбленным местом путешествий и предметом литературных упражнений. Более того, появился значительный пласт европейской литературы в восточном стиле, часто основывавшийся на личном опыте путешествий. Первым на ум из значительных представителей такого рода литературы приходит, конечно же, Флобер. За ним следуют еще три имени – Дизраэли, Марк Твен и Кинглейк. Однако бóльший интерес представляет различие между тем письмом, которое конвертируется из личной формы в форму профессионального ориентализма, и письмом второго типа, также основывающемся на опыте пребывания на Востоке и на личных впечатлениях, но которое остается при этом только лишь «литературой» и не претендует на научность – именно этим различием я намерен сейчас заняться.
Быть европейцем на Востоке – это всегда означало отличаться от других, быть осознанно противопоставленным окружающим. Но самое важное здесь – направленность этой осознанности: какова ее цель на Востоке? Зачем она нужна, особенно если (как это было в случае со Скоттом, Гюго и Гете) европейцы устремляются на Восток за опытом вполне определенного рода, при этом на самом деле даже не покидая пределов Европы? В первом приближении на ум сами собой приходят несколько категорий. 1) Это автор, намеревающийся использовать пребывание на Востоке для того, чтобы осуществить профессиональное ориенталистское исследование, имеющее научный статус. В этом случае он рассматривает свое пребывание там, как форму научного наблюдения. 2) Автор, ставящий перед собой сходные задачи, но не желающий жертвовать при этом яркостью стиля индивидуальных впечатлений в пользу безличных ориенталистских дефиниций. Последние все равно проявляются в его работе, но лишь с большим трудом их удается отделить от индивидуальных особенностей стиля. 3) Это автор, для которого реальное или метафорическое путешествие на Восток является реализацией внутренне переживаемого и выношенного проекта. А потому его текст основывается на личностной эстетике, взращенной и сформированной самим данным проектом. В категориях2и3значительно больше возможностей для проявления личностного – или по крайней мере не ориенталистского – созна ния, чем в категории 1. Если взять, например, «Сообщения о нравах и обычаях современных египтян» Эдварда Уильяма Лэйна в качестве выдающегося текста из категории 1, работу Бертона «Паломничество в ал-Мадину и Мекку» как пример категории 2 и «Путешествии на Восток» Нерваля как представителя категории 3, различие в возможностях проявления авторского начала будет очевидно.
Однако несмотря на все различия, эти три категории не столь уж резко отделены друг от друга, как это могло показаться. Так, ни в одной категории нет какого-либо «чисто го» представителя типа. Во всех трех категориях работы основываются на сугубо эгоистических силах, а в центре стоит европейское сознание. Во всех случаях Восток существует для европейского наблюдателя и, что еще важнее, в той категории, к которой мы отнесли «Египтян» Лэйна, эго ориенталиста чувствуется ничуть не меньше, пусть даже он и пытается скрыть его за отстраненно без личным стилем изложения. Более того, определенные мотивы присутствуют во всех трех категориях. Первый из них – Восток как место паломничества. то же касается и представления о Востоке как о зрелище, или tableau vivant.{183} Конечно, любая из работ в каждой из категорий стремится дать характеристику этого региона, но притом набольший интерес представляет то, до какой степени внутренняя структура работы равнозначна всеобъемлющей интерпретации (или попытке таковой) Востока. Чаще всего (что не удивительно) такая интерпретация представляет собой своего рода романтическое реструктурирование (restructure) Востока, его ре визию (re vision), воссоздающее его в назидание настоящему. Всякая интерпретация, всякая созданная для Востока структура, есть тем самым его ре интерпретация, его перестраивание (rebuiling).
Сказав это, мы тем самым вернулись к различию между обозначенными категориями. Книга Лэйна о египтянах имела большое влияние, ее часто читали и цитировали (например, наряду с другими и Флобер). Она создала автору репутацию выдающейся фигуры в мире востоковедения. Другими словами, авторитет Лэйна основывается не только на том, что он сказал, но и на том, как сказанное им могло быть адаптировано для целей ориентализма. Его цитировали в качестве источника знаний о Египте и Аравии, тогда как Бертона или Флобера читали и читают за то, что, помимо сведений о Востоке, из их работ мы можем почерпнуть еще нечто и о самих Бертоне и Флобере. Авторская функция в «Современных египтянах» Лэйна выражена менее сильно, чем в других категориях, потому что его работа была встроена в профессию, была ею консолидирована и институционализирована. Личность автора в рамках профессиональной дисциплины в работе, подобной этой, подчинена и требованиям данного проблемного поля, и требованиям предмета исследования. Такое не обходится без последствий.
Классическая работа Лэйна «Сообщения о нравах и обычаях современных египтян» (1836) явилась осознанным результатом ряда других работ, подготовленных им за время двух периодов пребывания в Египте (1825–1828 и 1833–1835).{184} Фраза об «осознанности» используется здесь, чтобы подчеркнуть, что сам Лэйн намеревался произвести своей работой, скорее, впечатление непосредственного и прямого, неприкрашенного и нейтрального описания, тогда как в действительности она была плодом значительной редакторской работы (в итоге не-то он опубликовал совсем не то, что написал первоначально), а также разнообразных дополнительных действий. Казалось, что его жизненные обстоятельства никак не благоприятствовали занятиям Востоком, за исключением его методичного прилежания и способностей к классическим исследованиям и к математике, что отчасти объясняет очевидную четкость и аккуратность этой книги. В предисловии содержится ряд интересных ключей по поводу того, что именно он собирался сделать в этой книге. Первоначально он отправился в Египет для того, чтобы изучать арабский язык. Затем, когда он подготовил ряд заметок о современном Египте, Общество распространения полезных знаний предложило ему написать систематическую работу о стране и ее обитателях. Из собрания разрозненных наблюдений работа превратилась в пример полезного знания – знания, предназначенного (и соответствующим образом оформленного) для каждого, кто желает иметь представление об основных чертах иностранного общества. Из предисловия ясно, что такое знание должно было неким образом развеять прежние представления, притом само оно должно было иметь исключительно действенный характер: здесь Лэйн проявляет себя как острый полемист. Прежде всего он должен продемонстрировать, что сделал нечто такое, чего не могли или не сумели сделать до него другие, а затем то, что собранная им информация одновременно аутентична и абсолютно верна. Именно в этом исток его исключительного авторитета.
Пока Лэйн в предисловии возится с «Отчетом о народе Алеппо» д-ра Рассела (забытая ныне работа), становится ясно, что основным его соперником среди предшествующих работ является «Описание Египта». Но именно эта работа, которую Лэйн загнал в обширную сноску, высокопарно именуется в заметках при цитировании «великой французской работой» по Египту. Эта работа, отмечает Лэйн, была одновременно и слишком философски обобщенной, и слишком легковесной. А знаменитое исследования Якоба Буркхардта{185} было названо всего лишь собранием египетской народной мудрости, «наихудшим свидетельством морали народа». В отличие от французов и Буркхардта, Лэйн смог погрузиться в среду исконных жителей, жить их жизнью, соблюдать их обычаи и «избежать при этом каких бы-то ни было сомнений у иноземцев относительно того, …тот ли он человек, который имеет право вмешиваться в их жизнь». Чтобы избежать обвинений в необъективности, Лэйн идет еще дальше, заверяя, что следовал всего лишь словам (курсив его) Корана и что всегда сознавал свое отличие от этой существенно иной, чуждой ему культуры.[193] Таким образом, пока одна часть личности Лэйна непринужденно скользит по волнам ничего не подозревающего моря ислама, подводная его часть тайно хранит в себе европейскую силу для того, чтобы комментировать, приобретать и овладевать всем вокруг.
Ориенталист вполне может имитировать Восток, обратное же неверно. Все, что он говорит о Востоке тем самым надо понимать как описание, полученное в результате одностороннего обмена: пока они говорят и действуют, он наблюдает и записывает. Его сила заключалась в том, что он жил среди них как равноправный носитель языка, но одновременно и как автор шпион. И то, что он писал, сознавалось как «полезное знание», но не для них, а для Европы и ее разнообразных диссеминативных институтов. И об этом проза Лэйна никогда не позволяет нам забыть: его эго, местоимение первого лица, продвигаясь сквозь обычаи египтян, их ритуалы, празднества, формы детства и самостоятельной жизни, похоронные обряды, – в действительности оказывается одновременно и восточным маскарадом, и приемом ориенталиста, направленным на улавливание и передачу нам ценной и в любом ином случае недоступной информации. В качестве рассказчика Лэйн – двуликий Янус, одновременно и экспонат, и экспонент, организатор экспозиции; он пользуется двойным доверием и проявляет двойное стремление к обретению опыта: одна его часть – восточная – стремится подержать компанию (или выдает себя за таковую), а другая – западная – направлена на получение надежного и полезного знания.
Ничто не иллюстрирует это лучше, чем последний тройной эпизод в предисловии. Там Лэйн описывает своего главного информанта и друга шейха Ахмеда – и как собеседника, и как курьез. Оба они притворяются, будто Лэйн – мусульманин. Однако только после того, как Ахмед, воодушевленный отважной мимикрией Лэйна, преодолевает страх, он соглашается пойти вместе с Лэйном молиться в мечети. Этой последней победе предшествуют две сцены, в которых Ахмед изображен как эксцентричный пожиратель стекла и приверженец полигамии. Во всех трех частях эпизода с шейхом Ахмедом дистанция между мусульманином и Лэйном увеличивается, даже если в действии она сокращается. Как посредник и, так сказать, транслятор мусульманского поведения, Лэйн иронично входит в шаблон мусульманина, но лишь настолько, чтобы быть в состоянии описать все это степенной английской прозой. Сама его личность как фальшивого правоверного и привилегированного европейца – вот суть дурной веры, поскольку второе вполне определенным образом подрывает первое. Итак, то, что на деле оказывается фактуальным сообщением о том, что делает один довольно любопытный мусульманин, Лэйн выдает за беспристрастное раскрытие самой сути всей мусульманской веры. Лэйн даже не задумывается о том, что предал свою дружбу с Ахмедом и еще с двумя такими же людьми, снабжавшими его информацией. Имеет значение единственно то, что сообщение должно производить впечатление точного, обобщенного и беспристрастного, так чтобы английский читатель поверил, что сам Лэйн никогда не был заражен этой ересью или отступничеством, и, наконец, что его текст нейтрализует человеческий контекст исследования в пользу научной достоверности.
Именно по этим причинам книга выстроена не просто как рассказ о пребывании Лэйна в Египте, но как нарративная структура, насыщенная ориенталистским реструктурированием и многочисленными подробностями. Именно в этом, как мне представляется, и состоит главное достижение Лэйна в этой работе. В том что касается общих контуров и формы, работа «Современные египтяне» следует обычной практике романа XVIII века, скажем какого-либо из романов Филдинга. Книга открывается отчетом о стране и ее окружении, затем следуют главы «Характеристики личности» и «Детство и воспитание в раннем возрасте». За 25 главами, в которых рассматриваются такие сюжеты, как празднества, законы, характер, промышленность, магия и домашний быт, следует заключительная глава «Смерть и похоронные обряды». На первый взгляд-работа Лэйна носит хронологический и эволюционный характер. Он пишет о себе как о свидетеле тех сцен, которые соответствуют основным этапам жизненного пути человека: образец для него – нарративная схема, как в «Томе Джонсе»,{186} включающая в себя рождение героя, его приключения, женитьбу и подразумеваемую смерть. В тексте Лэйна только фигура рассказчика лишена возраста, предмет же исследования – современный египтянин – проходит полный индивидуальный жизненный цикл. Подобное оборачивание, когда отдельный индивид сам себя наделяет способностью стоять вне времени, а на общество и народ налагает масштаб жизненного цикла личности, есть не что иное, как первая из ряда операций, регулирующих то, что поначалу могло показаться простым описанием путешествия по заморским землям. Безыскусный текст превращается в энциклопедию экзотики и площадку для ориенталистского исследования.
Однако Лэйн выстраивает материал не только на основе драматизации своего двойного присутствия (как ложного мусульманина и как подлинного европейца) и за счет манипуляции позицией рассказчика и предметом исследования, но также и тем, как он использует детали. Каждому из основных разделов в главах неизменно предпосылается какое либо вполне предсказуемое наблюде ние общего характера. Например, «обычно отмечают, что многие из наиболее примечательных особенностей в манерах, обычаях и характере нации можно соотнести с физическими особенностями страны».[194] Последующее изложение без труда подтверждает сказанное: Нил, «благодатный климат Египта», «размеренный» труд крестьян. Однако вместо того, чтобы перейти к следующему эпизоду в порядке повествования, добавляется новая деталь, и, следовательно, нарративного завершения, ожидаемого по чисто формальным соображениям, не происходит. Другими словами, хотя в целом общие контуры лэйновского текста и соответствуют нарративной и каузальной последовательности рождение – жизнь – смерть, отдельные вводимые им в ход повествования детали его нарушают. От общих наблюдений – к выявлению отдельных аспектов египетского характера, к рассказу о том, как проходят у египтян детство, юность, зрелость и старость, – многочисленными деталями Лэйн каждый раз сам нарушает плавный ход изложения. Вскоре после того, как нам рассказывают о благодатном египетском климате, речь заходит, например, о том, что многие египтяне умирают в детстве от болезней, отсутствия медицинской помощи и гнетущей летней жары. Затем нам говорят о том, что жара «побуждает египтян [безусловное обобщение] к невоздержанности в чувственных наслаждениях», а вскоре мы вязнем в трясине наполненных схемами и рисунками описаний архитектуры Каира, украшений и фонтанов, запоров и замкóв. Когда же линия повествования проявляется вновь, становится ясно, что она – не более чем формальность.
Более всего препятствуют нарративному порядку (притом, что этот порядок составляет основное литературное содержание лэйновского текста) нарочитые, бьющие в глаза описания, через которые с трудом удается продраться. Лэйн ставит себе целью сделать Египет и египтян зримыми, не оставить ничего за кадром, не позволить ничему ускользнуть от читателя, раскрыть египтян без тайн, во всех бесчисленных подробностях. В качестве рассказчика он проявляет склонность к потрясающим воображение садомазохистским пикантностям: самоистязание дервишей, жестокость суда, смешение у мусульман религии с распутством, чрезмерности либидозных страстей и т. д. Однако независимо от того, сколь странным или извращенным является событие и как мы себя чувствуем среди этих ошеломительных подробностей, Лэйн вездесущ, его задача состоит в том, чтобы собрать разрозненные куски вновь и позволить нам двигаться дальше, пусть и судорожными толчками. В определенной степени он делает это за счет того, что просто остается европейцем, способным сдерживать при помощи разума страсти и желания, которым мусульмане к несчастью подвержены. Но в большей степени способность Лэйна управляться с этой исключительно богатой темой связана с железными удилами дисциплины, а отстраненность обусловлена четко соблюдаемой холодной дистанцированностью от жизни египтян и их плодовитости.