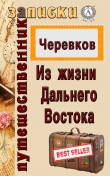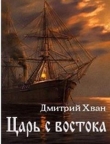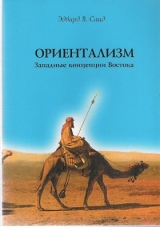
Текст книги "Ориентализм. Западные концепции Востока"
Автор книги: Эдвард Вади Саид
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)
Однако у некоторых мыслителей существовала также тенденция при помощи симпатической идентификации выйти за пределы компаративных исследований с их рассудительным обследованиями человечества от «Китая и до Перу». Это третий из элементов XVIII века, подготовивших дорогу современному ориентализму. То, что сегодня мы называем историзмом – это идея XVIII века. Вико, Гердер и Гаманн, как и некоторые другие, верили в органическую связь и внутреннюю согласованность всех культур, в то, что они связаны воедино духом, гением, Klima{137} или национальной идеей, в которую сторонний наблюдатель может проникнуть только благодаря акту исторической симпатии. Так, Гердер в своих «Идеях к философии истории человечества» (1784–1791) дал панорамный обзор различных культур, каждая из которых пронизана чуждым нам творческим духом и открывается только такому наблюдателю, который готов распроститься со своими предрассудками в пользу Einfühlung.{138} Проникнувшись отстаиваемым Гердером и другими авторами[128] популистским и плюралистским смыслом истории, сознание XVIII века смогло пробить брешь в воздвигнутых между Западом и исламом доктринальных стенах и увидеть скрытые элементы родства между собой и Востоком. Удачным примером такой (как правило, избирательной) идентификации через симпатию может служить Наполеон. Еще один пример – Моцарт. Его «Волшебная флейта» (в которой масонские коды перемежаются с образами благословенного Востока) и «Похищение из сераля» помещают исключительно благородный вид человечества именно на Востоке. И это обстоятельство в гораздо большей степени, чем модные тогда «турецкие» музыкальные мотивы, заставляет Моцарта смотреть на Восток с симпатией.
Однако очень трудно отделить такие восточные институции в духе Моцарта от сплошного спектра преромантических и романтических представлений о Востоке как об экзотике. Популярный ориентализм на протяжении конца XVIII – начала XIX века превратился в повсеместную моду. Однако даже такую моду, отчетливо узнаваемую в творчестве Уильяма Бекфорда, Байрона, Томаса Мура{139} и Гете, не так легко отделить от увлечения готическими романами, псевдосредневековыми идиллиями, образами варварской роскоши и жестокости. Так, в некоторых случаях репрезентации Востока можно связать с тюрьмами Пиранези,{140} в других – сроскошью Тьеполо, в третьих – с экзотической величественностью живописи конца XVIII века.[129] Позже, в XIX веке, в работах Делакруа и в буквальном смысле дюжины других французских и английских художников восточная жанровая живопись придала этим репрезентациям визуальное выражение, зажившее в дальнейшем собственной жизнью (что в данной книге нам придется, к сожалению, опустить). Чувственность, обещания, террор, величественность, идиллия наслаждения, напряженная энергия: Восток как фигура преромантического и претехнического воображения в ориентализме в Европе конца XIX века превращается в нечто поистине хамелеонообразное под названием (в качестве прилагательного) «восточный» (ориентальный).[130] Однако этот хаотичный Восток будет безжалостно отброшен прочь с пришествием академического ориентализма.
Четвертый элемент, из тех, что пролагали путь современным ориенталистским структурам, – это стремление классифицировать природу и человека на типы. Крупнейшие имена в этом ряду – конечно же, Линней и Бюффон, однако широкое распространение получил также интеллектуальный процесс, в ходе которого телесное (а вскоре и моральное, интеллектуальное и духовное) протяжение (extension) – типическую материальность объекта – удалось превратить из простого зрелища в точное измерение характерных элементов. Линней говорил, что всякое замечание по поводу естественного типа «должно быть продуктом числа, формы, пропорции и ситуации». И действительно, если посмотреть на Канта, Дидро или Джонсона, повсюду мы увидим аналогичную склонность драматизировать общие черты, сводить обширное число объектов к сравнительно небольшому числу упорядоченных и поддающихся описанию типов. В естественной истории, антропологии и культурологии тип обладает определенным признаком, позволяющим наблюдателю производить обозначение и, как говорит Фуко, «контролируемую деривацию». Эти типы и признаки образуют систему, сеть связанных обобщений. Таким образом,
любое обозначение должно было теперь вступить в определенное отношение со всеми другими возможными обозначениями. Распознавать то, что по праву принадлежит индивиду, значит располагать классификацией или возможностью классифицировать совокупность прочих индивидов.[131]
В работах философов и историков, энциклопедистов и эссеистов мы находим признак-как-обозначение, проявляющийся в физиологико-моральной классификации: например, дикие люди, азиаты и т. д. Конечно же, это есть у Линнея, но также встречается у Монтескье, Джонсона, Блюменбаха,{141} у Сёммерринга (Soemmerring), у Канта. Физиологические и моральные характеристики распределяются более менее поровну: американцы – «краснокожие, холерики, бодрые», азиаты – «желтокожие, меланхолики, ригидные», африканцы – «чернокожие, флегматики, вялые».[132] Но подобные обозначения набирают силу позднее, когда в XIX веке они соединяются с признаком-как-деривацией, генетическим типом. На пример, в Вико и Руссо сила моральной генерализации дополняется меткостью, с какой драматические, почти архетипические фигуры – примитивный человек, гиганты, герои – выставляются в качестве истока современной морали, философии и даже лингвистики. Так, когда речь заходит о восточном человеке, то используются такие термины генетических универсалий как его «примитивное» состояние, примитивные признаки, особый духовный фон.
Описанные мною четыре элемента – экспансия Востока, встреча (конфронтация), симпатия и классификации – это те течения мысли XVIII века, на которых строятся специфические интеллектуальные и институциональные структуры современного ориентализма. Без них ориентализм, как мы видит теперь, не мог бы состояться. Более того, именно эти четыре элемента привели к тому, что Восток в целом и ислам в частности вышли за узкие рамки религиозного подхода, в пределах которого его до сих пор рассматривал христианский Запад. Другими словами, современный ориентализм ведет свой счет от секуляризованных элементов европейской культуры XVIII века. Первый из них, экспансия Востока (Orient), его продвижение далее на восток географический (East) и обратное движение на время существенно ослабили, даже разрушили библейские рамки. Точками отсчета были уже не христианство и иудаизм с их весьма скромными календарями и картами, но Индия, Китай, Япония, а также Шумер, буддизм, санскрит, зороастризм и Ману. Второй элемент – способность общаться исторически (а не редуктивно, в качестве лишь одного из моментов религиозной политики) с неевропейскими и неиудео-христианскими культурами усиливалась по мере того, как саму историю стали понимать более глубоко, чем прежде. Понять Европу надлежащим образом значило также понять объективные отношения между Европой и ее прежде недосягаемыми темпоральными и культурными границами. В определенном смысле идея Иоанна Сеговийского о contraferentia между Востоком и Европой была реализована, хотя и в совершенно секуляризованном виде. Гиббон уже мог относиться к Мохаммеду как к историческому деятелю, повлиявшему на Европу, а не как к злостному еретику, болтающемуся где-то между магией и ложным пророчеством. Третий элемент – избирательная идентификация с другими регионами и культурами, отличными от нашей, приводит к смягчению жестких границ собственного Я и идентичности, что прежде принимало характер предельно поляризованного сообщества правоверных, изготовившихся к битве и противостоящих варварским ордам. Границы христианской Европы перестали быть своего рода таможней. Широкое хождение получили представления о близости всего человечества и человеческих возможностях – в противоположность узкоместническим позициям. Четвертый элемент – по мере того как возможности категориального обозначения и исследования истоков (десигнации и деривации) выходили за пределы, поставленные Вико в виде разделения на языческие и священные нации, росло и число используемых классификаций человечества. Раса, цвет, происхождение, темперамент, характер и типы заслонили собой различие между христианами и всеми остальными.
Но даже если эти взаимосвязанные элементы вместе складываются в секуляризующую тенденцию, это еще не значит, что прежние религиозные модели человеческой истории и судьбы и «экзистенциальные парадигмы» были попросту отброшены. Вовсе нет. Они были воссозданы, заново введены в оборот и обрели новую жизнь в этих секулярных рамках. От каждого, кто занимается Востоком, требовалось овладеть соответствующим этим рамкам секулярным вокабуляром. И хотя ориентализм обеспечивал вокабуляр, концептуальные рамки и методы – а именно это и есть то, чем ориентализм с конца XVIII века занимался и чем он был – в его дискурсе также сохранялся не до конца изжитый, пусть и преобразованный, религиозный импульс, натурализованный супернатурализм. Далее я попытаюсь показать, что данный импульс в ориентализме укоренился в представлениях ориенталистов о самих себе, о Востоке и о своей дисциплине.
Современный ориенталист, каким он себя видит, – это герой, спасающий Восток от невежества, отчужденности и эксцентричности, которые ему с его позиции прекрасно видны. В своих исследованиях он воскрешает забытые языки, нравы и даже ментальности, как Шампольон воскресил египетские иероглифы из Розеттского камня.{142} Специфические методы работы ориенталистов – составление словарей (лексикография), грамматика, переводы, декодирование культуры – возвратили, облекли плотью, заново утвердили ценности как древнего, классического Востока, так и традиционных дисциплин филологии, истории, риторики и доктринальной полемики. Однако в этом процессе и сам Восток, и востоковедческие дисциплины претерпели диалектическое преобразование, поскольку не могли сохраниться в прежнем своем виде. Восток даже в «классической» форме, которой обычно и занимались ориенталисты, подвергся модернизации, был приближен к современности. Традиционные дисциплины также подключились к современной культуре. Однако обе стороны несли на себе следы власти – власти воскрешать, даже заново создавать Восток; власти, присущей новым, научно обоснованным методам филологии и антропологической генерализации. Короче говоря, сдвинув Восток поближе к современности, ориенталист мог считать свои метод и позицию почти что позицией секулярного творца, человека, который создает новые миры, подобно Богу, некогда сотворившему прежний мир. Коль скоро такие методы и позиции выходили за пределы отдельной человеческой жизни, то возникала секулярная традиция преемственности, светский порядок дисциплинарных методологов, чье братство основывалось не на общности крови, но на общности дискурса, практики, библиотеки, совокупности усвоенных идей, короче говоря, доксологии, разделяемой всеми, кто вступает в эти ряды. Флобер прозорливо отметил, что в итоге современный ориенталист превращается в копииста, как Бувар и Пекюше. Однако на начальном его этапе, во времена Сильвестра де Саси и Эрнеста Ренана, такая опасность еще никак себя не проявила.
Мой тезис состоит в том, что существенные аспекты современной ориенталистской теории и практики (из которых исходит нынешний ориентализм) могут быть поняты не столько как внезапный прорыв к объективному познанию о Востоке, сколько как секуляризация, переструктурирование и переформирование ряда унаследованных от прошлого структур под воздействием таких дисциплин, как филология, которые в свою очередь оказались натурализованными, модернизированными и перешедшими в светскую область субститутами (или версиями) христианского супернатурализма. В форме новых текстов и идей восток (East) был, по сути, адаптирован под эти новые структуры. Вклад в современный ориентализм таких лингвистов и исследователей как Джонс и Анкетиль, конечно же, огромен, однако специфику данного поля исследования, группы идей, дискурса задает деятельность именно последнего поколения ориенталистов. Если принять наполеоновскую экспедицию (1798–1801) за первый полноценный опыт современного ориентализма, то его героев основателей, а в исламских исследованиях это Саси, Ренан и Лэйн, можно считать одновременно созидателями самого этого поля, творцами традиции, прародителями ориенталистского братства. Саси, Ренан и Лэйн поставили ориентализм на научную, рациональную основу. Это означает, что они своей деятельностью не только задали определенный образец, но также создали вокабуляр и идеи, которые уже безличным образом могли быть использованы всяким, кто желал стать ориенталистом. Созидание ориентализма – это настоящий подвиг. Тем самым была заложена возможность использования научной терминологии, борьбы с невежеством, заложены основы особой формы просвещения для Востока. Это событие превратило фигуру ориенталиста в центральный авторитет по Востоку, оно легитимизировало особый род специфически ориенталистской работы, ввело в культурный оборот своего рода дискурсивную валюту, с помощью которой впредь только и можно было говорить за нынешний Восток. Кроме того, основатели ориентализма своим упорным трудом создали поле исследования и семейство идей, которые в свою очередь смогли сформировать сообщество ученых, чье происхождение, традиции и устремления одновременно были и внутренне присущи этому полю, и в достаточной мере внешними, для того чтобы обеспечить ему общую престижность. И чем больше Европа на протяжении XIX столетия посягала на Восток, тем большим доверием публики пользовался ориентализм. Но в то же время, если сопоставить эти прибыли с утратой оригинальности, вряд ли следует удивляться, что весь он от начала и до конца превратился в сплошные реконструкции и повторения.
И еще одно итоговое наблюдение: с конца XVIII – начала XIX века идеи, институты и фигуры, о которых пойдет речь в этой главе, оказываются важным моментом, решающей составной частью первой фазы величайшего периода территориальных приобретений, который когда-либо знало человечество. К концу Первой мировой войны Европа колонизировала уже 85 % всей поверхности Земли. Сказать, что современный ориентализм является одним из аспектов империализма и колониализма – значит сказать нечто совершенно бесспорное. Этого совершенно недостаточно, необходимо еще проработать это утверждение аналитически и исторически. Я хочу показать, как современный ориентализм, в отличие от доколониальной эрудиции Данте и д'Эребело, воплощает в себе систематическую дисциплину аккумуляции. А поскольку последний процесс далеко не ограничивается интеллектуальными или теоретическими рамками, это неизбежным образом привело ориентализм к систематической аккумуляции людей и территорий. Возродить мертвый или забытый восточный язык означало в итоге возродить мертвый или отверженный Восток. Это также означало, что точная реконструкция, наука и даже воображение могли впоследствии открыть дорогу армиям, администраторам и бюрократии. В определенном смысле оправданием ориентализма служил не только его интеллектуальный или…
[страница 191 в отсканированной книге отсутствовала]
II
Сильвестр де Саси и Эрнест Ренан: рациональная антропология и филологическая лаборатория
Две великие темы в жизни Сильвестра де Саси – героический труд и неизменное чувство педагогической и рациональной пользы. Антуан Исаак Сильвестр родился в 1757 году в янсенистской семье, чьим традиционным занятием был нотариат. Частным образом он изучал в бенедиктинском аббатстве сначала арабский, сирийский и халдейский языки, а затем древнееврейский. Арабский язык в особенности раскрыл перед ним Восток, потому что именно по арабски, как отмечает Жозеф Рено (Reinaud), восточный материал, и священный, и мирской, сохранился в его наиболее древней и наиболее поучительной форме.[133] Несмотря на то, что Саси был легитимистом, его пригласили в 1769 году первым учителем арабского во вновь открытую школу langues orientales vivantes,{143} которую в 1824 году он возглавил в качестве директора. В 1806 году он стал профессором в Коллеж де Франс, оставаясь при этом с 1805 году штатным ориенталистом при французском министерстве иностранных дел. Там его обязанностью (вплоть до 1811 года неоплачиваемым) был поначалу перевод бюллетеней Великой армии и наполеоновского Манифеста 1806 года, в котором автор выражал надежду, что «мусульманский фанатизм» можно будет противопоставить русскому православию. После этого в течение многих лет Саси готовил переводчиков для французского восточного драгоманата,{144} а также будущих ученых. Когда французы в 1830 году оккупировали Алжир, именно Саси переводил обращенную к алжирцам прокламацию. С ним регулярно консультировались по всем связанным с Востоком дипломатическим вопросам министр иностранных дел, а иногда – и военный министр. В возрасте 75 лет он сменил на посту секретаря Академии надписей Дасье (Dacier), а также стал куратором отдела восточных рукописей при Королевской библиотеке (Bibliothèque royale). На протяжении всей долгой и славной карьеры его имя в послереволюционной Франции непосредственно было связано с реструктурированием и реформированием образования (в особенности в области востоковедения).[134] Вместе с Кювье в 1832 году Саси стал новым пэром Франции.
Имя Саси связывают со становлением современного ориентализма не только потому, что он был первым президентом Азиатского общества (основано в 1822 году). Причина в том, что своей деятельностью он фактически задал в профессии систематический свод текстов, педагогическую практику, научную традицию и заложил основы важной связи между востоковедением и публичной политикой. В деятельности Саси впервые в Европе со времен Венского собора присутствовал осознанный методологический принцип, по значимости сопоставимый с научной дисциплиной. Не менее важно то, что Саси всегда понимал, что стоит у истоков важного ревизионистского проекта. Он сознавал собственную роль основателя и, в полном согласии с нашим основным тезисом, в своих работах выступал как секуляризованный священник, для которого Восток – был его верой, а студенты – прихожанами. Герцог де Бройль (Duc de Broglie),{145} его восхищенный современник, сказал о деятельности Саси, что тот сочетал методы работы ученого и библейского учителя, и что Саси был единственным, кто смог примирить «цели Лейбница с действиями Боссюэ».[135] Следовательно, все, что он писал, было адресовано преимущественно ученикам (в первой его работе «Принципы общей грамматики» (Principes de grammaire générale, 1799) учеником выступал его собственный сын) и подавалось не столько как открытие нового, сколько как исправленное извлечение лучшего из того, что уже было сделано, сказано или написано ранее.
Обе эти черты – дидактическая репрезентация в расчете на учеников и откровенная направленность на повторение через исправление и извлечение – чрезвычайно важны. Письмо Саси постоянно передает тон устной речи; в текстах полно местоимений первого лица, личных оценок и риторических приемов. Даже в наиболее темных местах как, например, в его ученых заметках по поводу Сасанидской нумизматики III века – чувствуется не столько письменная речь как таковая, сколько запись устной речи. Ключ ко всей работе содержится в первых строках посвящения сыну в «Principes de grammaire générale»: «C'est à toi, mon cher Fils, que ce petit ouvrage aété entrepris», что означает: я пишу (или говорю) это тебе, потому что тебе это следует знать, а поскольку ничего этого в сколько-нибудь пригодной форме нет, мне пришлось проделать эту работу самому. Прямая адресация, польза, успех, непосредственная и благотворная рациональность. Саси был уверен, что все, несмотря на сложность задачи и запутанность темы, можно сделать более ясным и рациональным образом. Здесь чувствуются суровость Боссюэ и лейбницевский абстрактный гуманизм, равно как и тон Руссо, – все вместе в том же стиле.
Цель избранного Саси тона – сформировать круг, отделяющий его и его аудиторию от мира в целом, наподобие того как отгорожены от всего мира в классной комнате учитель с учениками. В отличие от предмета физики, философии или классической литературы, предмет востоковедения – скрыт. Этот важно тем людям, у которых уже пробудился интерес к Востоку, но которые хотели бы узнать его получше, более упорядоченным образом, а в этом случае наиболее эффективным и наиболее привлекательным средством является педагогическая дисциплина. Следовательно, автор дидактик (педагог) преподносит материал ученикам, чья роль сводится к восприятию тщательно отобранных и систематизированных тем. Поскольку Восток древен и удален от нас в пространстве, учитель доносит его в виде реконструкции, подвергнув ревизии то, что ушло из более общего круга знаний. И поскольку безмерно богатый (в пространстве, во времени и по обилию культур) Восток не может быть представлен полностью, нужно воспользоваться только его наиболее репрезентативными частями. Таким образом, Саси фокусируется на антологии, хрестоматии, картине, обзоре общих принципов, в которых Восток представлен ученику через сравнительно небольшое число наиболее ярких и убедительных примеров. Эти примеры убедительны по двум причинам: Во-первых, потому что они отражают право и власть Саси как западного авторитета преднамеренно отбирать из Востока то, что его удаленность и эксцентричность до сих пор держали сокрытым, и, Во-вторых, потому что эти примеры обладают семиотической силой (или ею их наделяет ориенталист) обозначать Восток.
Все работы Саси носят в значительной мере компилятивный характер, они манерно дидактичны и усердно ревизионистичны. Помимо «Принципов общей грамматики» он написал также Арабскую хрестоматию (Chrestomathie arabe) в 3-х томах (1806, 1827) и антологию арабской письменной грамматики (1825), грамматику арабского языка (1810) (à l'usage desélèves de l'École spéciale),{146} трактаты по арабской просодии и религии друзов, а также бесчисленные небольшие работы по восточной нумизматике, ономастике, эпиграфике, географии, истории, а также по весам и мерам. Он осуществил множестВо-переводов и две великолепных комментария к «Калила и Думна» («Calila and Dumna»){147} и макамах ал-Харири (al-Hariri).{148} В равной степени Саси был весьма деятелен в качестве редактора, автора мемуаров и историка современной науки. В других смежных дисциплинах, где он не был au courant,{149} для него было мало интересного, несмотря на то, что его собственное письмо было просто и бесхитростно и в том, что выходило непосредственно за пределы ориентализма, он придерживался довольно узкого позитивизма.
Тем не менее, когда в 1802 году Institut de France получил от Наполеона задание составить tableau générale{150} состояния и развития искусств и наук после 1789 года, в состав авторов был включен и Саси: он был самым скрупулезным среди специалистов и самым исторически мыслящим среди универсалов. В отчете Дасье (Dacier), как это известно из неофициальных источников, были отражены многие из пристрастий Саси, равно как был отмечен и его вклад в развитие востоковедения. Заглавие отчета – «Tableau historique de l'érudition française»{151} – провозглашает появление нового исторического (в отличие от сакрального) сознания. Такое сознание сценично: познание может быть представлено в таких, так сказать, декорациях, чтобы его целостность легко можно было бы обозреть. В обращенном к королю предисловии Дасье точно формулирует тему. Подобное обозрение позволило сделать то, чего ни один правитель даже не пытался сделать, а именно: охватить единым coup d'œil{152} всю совокупность человеческого познания. Будь такая tableau historique предпринята ранее, продолжает Дасье, мы могли бы располагать множеством шедевров, ныне либо утраченных, либо разрушенных. Интерес и польза от такой картины состоит в том, чтобы сохранить знание и сделать его по возможности непосредственно доступным. Дасье намекает, что такую задачу облегчила восточная экспедиция Наполеона, одним из следствий которой было повышение уровня современного географического знания.[136] (В этой точке, как нигде более во всем дискурсе Дасье, видно насколько сценичная форма tableau historique функционально аналогична галереям и прилавкам современного универмага.)
Tableau historique важна для понимания начальной фазы ориентализма тем, что она экстериоризирует форму ориенталистского знания и его черты, а также описывает отношение ориенталистов к своему предмету. В подготовленных Саси разделах об ориентализме – как и в других своих работах – он говорит, что открыл, пролил свет, спас большое количество темного материала. Почему? Для того чтобы предоставить его в распоряжение учеников. Как и все его образованные современники, Саси считал научную работу позитивным приращением здания, которое совместными усилиями возводят все ученые. Познание – это, в сущности, выведение на свет материала, и целью tableau было возведение чего-то вроде бентамовского Паноптикума.{153} Научная дисциплина оказывалась таким образом своего рода технологией власти: она давала своему обладателю (и его ученикам) инструменты и знание, которые (если речь идет об историках) были прежде утрачены.[137] И действительно, вокабуляр специализированной власти и овладения прежде всего ассоциируется с репутацией Саси как пионера ориенталиста. Его героизм ученого состоял в том, чтобы успешно справляться с неимоверными трудностями. Он нашел средство открывать своим ученикам поле исследования там, где его прежде не было. Он, по выражению герцога де Бройля, сделал книги, принципы и образцы. Результатом этой деятельности было создание материала о Востоке, методов его изучения и образцов для подражания, которыми не располагали даже сами народы Востока.[138]
В сравнении с работой эллинистов или латинистов, работавших вместе с ним в Институте, труд Саси был поистине каторжным. Если у первых были тексты, традиции, школы, то у него же ничего этого не было, и, следовательно, все пришлось создавать самому. В трудах Саси навязчиво присутствует динамика первоначальных потерь и последующих приобретений. Его вклад был поистине велик и достался ему тяжким трудом. Как и его коллеги в других областях, он был уверен, что знать – это значит видеть (так сказать, паноптически), но в отличие от них ему приходилось не только распознавать знание, но еще и расшифровывать его, интерпретировать и, что самое трудное, делать его доступным. Трудами Саси было открыто целое поле исследований. Будучи европейцем, он подробно обследовал восточные архивы, и мог это проделывать не покидая Франции. Отобранные тексты он восстанавливал, исправлял, аннотировал, кодифицировал, упорядочивал и готовил к ним комментарии. Со временем Восток как таковой стал значить меньше, чем то, что с ним делали ориенталисты. Таким образом, запечатанный Саси в герметичное пространство педагогической tableau, Восток ориенталистов с большой неохотой встречался с реальностью.
Саси был слишком разумным человеком, чтобы оставить свои взгляды и практику без обоснования. Прежде всего он всегда прямо и без обиняков объяснял, почему «Восток» сам по себе не мог выдержать европейский вкус, разум или настойчивость. При этом Саси отстаивал пользу и значимость, например, арабской поэзии. Однако он также утверждал, что прежде чем арабскую поэзию можно будет оценить, над ней должны соответствующим образом поработать ориенталисты. Причины этого были эпистемологическими в широком смысле слова, но в них содержалось также и самообоснование ориентализма. Арабская поэзия создана совершенно чужим для европейцев народом, обитающим в совершенно иных климатических, социальных и исторических условиях. Кроме того, эта поэзия взращена «мнениями, предрассудками, верованиями, суевериями, которые мы сможем усвоить только после длительного и скрупулезного исследования». И если даже кто-то решится пройти сквозь все тернии специальной подготовки, в этой поэзии полно описаний, которые совершенно непонятны европейцам, «достигшим более высокой ступени цивилизации». Тем не менее то, что доступно, имеет для нас огромную ценность, поскольку европейцы привыкли скрывать собственные внешние черты, свою телесность и отношение к природе. А потому ориенталист полезен прежде всего тем, что может сделать для соотечественников доступным значительный массив необычного опыта, и что еще более важно, ту литературу, которая могла бы помочь нам понять «поистине божественную» поэзию древних евреев.[139]
Таким образом, коль скоро ориенталист необходим, потому что достает перлы из глубин Востока, и коль скоро Восток нельзя познать без посредника, столь же верно, что нельзя брать всю восточную письменность в целом. Таково введение Саси в его теорию фрагментов, обычно вызывающую интерес у романтиков. Произведения восточной литературы не только по сути своей чужды европейцам, они также не способны длительное время привлекать достаточное внимание, им также недостает «вкуса и критического духа», а потому вряд ли они заслуживают публикации, за исключением отдельных извлечений (pour mériter d'être publiés autrement que par extrait).{154}[140] Таким образом ориенталист необходим для того, чтобы представить Восток рядом репрезентативных фрагментов, фрагментов заново опубликованных, разъясненных, аннотированных и сопровожденных другими фрагментами. Для такой презентации требуется особый жанр – хрестоматия. Именно в этом жанре, как полагает Саси, польза и значимость ориентализма представлены наиболее полно и в самом выгодном свете. Наиболее известное произведение Саси – трехтомная «Арабская хрестоматия» («Chrestomathie arabe»), которая была, так сказать, запечатана в самом начале, как печатью, внутренней рифмой арабского двустишия: «Kitab al-anis al-mufid lil-Taleb al-mustafid; / wa gam'i al-shatur min manthoum wa manthur» (книга приятная и полезная для прилежного ученика; в ней собраны и поэтические, и прозаические фрагменты).
Антологиями Саси широко пользовались в Европе на протяжении нескольких поколений. Хотя их содержание и подавалось как типическое, за этим стояла скрытая цензура Востока, произведенная ориенталистом. Более того, ни внутренний порядок содержания, ни расположение частей, ни выбор фрагментов, – ничто не позволяло раскрыть эту тайну. Складывалось впечатление, что если фрагменты отбирались не по степени их важности, не как пример хронологического развития и не из за их эстетического совершенства (чего Саси действительно не делал), то они тем не менее должны воплощать определенную природу Востока или его типичную характеристику. Но и об этом нигде нет речи. Саси утверждает, что просто действовал от лица своих студентов, дабы им не пришлось приобретать (или читать) абсурдно громадную библиотеку по Востоку. Со временем читатель забывает об этих усилиях ориенталиста и принимает представляемый хрестоматией реструктурированный Восток за Восток tout court.{155} Объективное структурирование (обозначение Востока) и субъективное реструктурирование (репрезентация Востока ориенталистом) становятся взаимозаменяемыми. Восток затушеван, скрыт рациональностью ориенталиста, принципы последнего становятся принципами Востока. Из бесконечно далекого Восток становится вполне доступным, из совершенно чуждого (unsustainable) превращается во вполне педагогически полезный. Он был потерян, но теперь найден вновь, даже если отдельные его части пришлось по ходу дела опустить. Антологии Саси не только восполняют (supplement) Восток, они восполняют его в качестве события Запада.[141] Работа Саси канонизирует Восток, она задает канон текстуальных объектов, передаваемый от одного поколения студентов к другому.